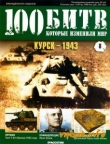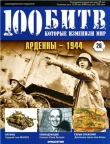Текст книги "Der Architekt. Проект Германия"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Соавторы: Елена Хаецкая
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
3. СЕРДЦЕ ШЕСТОЙ АРМИИ
Полночи иностранные журналисты маялись животами и со стонами топотали по коридору: не впрок пошла им бурая свекла. Зато немецкие летчики, равно как и мы с Чесноковым, никаких неудобств после ужина не испытывали. Вот не думал, что фриц к бурой свекле приучен.
Луиза Шпеер вообще не подавала признаков жизни, спала бесшумно и, кажется, даже не ворочалась.
Утром на аэродроме село звено наших истребителей. Я пришел в столовую – попросить горячей воды для фрау Шпеер. Пусть у себя в комнате умоется. В столовой уже завтракали и здорово шумели. Оба немца уплетали перловку и бурно обсуждали что-то с нашими – будто и войны никакой нет. Все-таки летуны всегда промеж собой общаться смогут.
Завидев меня, наши истребители замахали руками:
– Товарищ лейтенант, идите к нам! Они тут про Африку рассказывают, не всё понятно – поможете?
Я показал на чайник и жестяную кружку:
– Вода остынет. Погодите, отнесу и вернусь.
– Он к немецкой фрау денщиком приставлен, – сообщила одна из раздатчиц и мстительно поджала губы. Чем-то я ей не угодил.
Когда я постучал, фрау Шпеер откликнулась сразу же. Она была полностью одета и причесана, кровать – аккуратно застелена. Могло создаться впечатление, что Луиза вовсе не ложилась спать.
Я вручил ей чайник и сказал, чтобы она потом приходила в столовую. Непременно нужно позавтракать, иначе не сдюжит поездку.
Чесноков поутру сгинул. Не могу сказать, чтобы я по нему сильно скучал, но его отсутствие меня беспокоило. Дурная ситуация: спрашивать с полковника, да еще из Управления Особых отделов, я не мог, а вот случись с ним что – отвечать придется. Куда же он подевался? И Гортензий тоже пропал. Но Гортензий, скорее всего, возится с «виллисом» или пошел договариваться насчет бензина.
Я возвратился в столовую, взял себе тарелку и подсел к летчикам. Они сразу меня облепили.
– Ты ведь по-немецки шпрехаешь?
Оба германских авиатора, и Шаренберг, и Геллер, выспавшиеся, отдохнувшие, весело скалили зубы и о чем-то рассказывали в промежутках между кашей и компотом.
– Ты их спроси, ты спроси их, товарищ, – приставал ко мне младший лейтенант с детским, страдальчески сморщенным лицом и орденом Красного Знамени на впалой груди, – какие у англичан машины. Мне что интересно: если «Спитфайр» сбивать – как лучше заходить…
– Зачем тебе «Спитфайр» сбивать? – удивился я.
Немцы ели, аж за ушами трещало, и посмеивались.
– Мало ли, – упрямо сказал младший лейтенант. – У нас в полку один был, летал на «Харрикейне». Сам-то я на английских еще не летал. А вдруг что понадобится, лишнее не бывает. Никогда ведь заранее не знаешь.
Я заговорил с немцами об Африке, об английских самолетах. Те положили ложки, задумались, потом Геллер начал рассказывать. Он шпарил быстро, с множеством непонятных слов, делая короткие, стремительные жесты. Я кое-что понимал и переводил как мог, но летчики скоро меня отодвинули и начали опять общаться только между собой на какой-то дикой смеси немецкого, русского и еще черт-те какого. Я спокойно доел кашу.
Чесноков вернулся, когда завтрак уже закончился. Через плечо у него висел ППШ. Он не делал даже попыток что-то выпросить у раздатчиц, сразу подошел ко мне.
– Добыл нам другую машину, повместительнее, – сообщил он. – В штабе армии покочевряжились, но дали. Идем, глянешь, какой красавец.
На дворе стоял «фиат». Настоящий итальянский Fiat-Spa TL.37. Шестиместный, с удлиненным кузовом. Роскошь.
– Видал? – с отеческой гордостью молвил Чесноков и похлопал себя по бокам. – Наши удальцы после капитуляции дрюкнули у какого-то мордатого итальянского полковника в шинели с бобровым воротником. Тот, говорят, плакал неподдельными слезами. Полковника в штаб увели для задушевной беседы, а «фиат» экспроприировали в качестве трофея.
– Вам, товарищ Чесноков, цены нет, – сказал я. – Только вы мне ответьте, пожалуйста, куда вы «виллис» штабной дели?
– А что? – хмыкнул он.
– Ничего, просто душа болит, – ответил я.
– Мы с Гортензием его обратно отогнали. Ваш майор Силантьев уж так обрадовался, не передать. Хотел и Гортензия обратно забрать, да я не позволил. Нам водитель нужен хороший.
– Не сомневаюсь, – пробормотал я, глядя на «фиат». – А это там не красный крест намалеван?
– Точно, хотели госпиталю передать машину, – кивнул Чесноков. – Так мы в госпиталь же и едем, не так, что ли? Да ты не думай, Морозов, – добавил он, – я же не зверь какой-нибудь, раненых оттуда не вытряхивал. Нам всего-то на пару дней. Потом вернем.
Наверное, у меня было какое-то не такое лицо, потому что Три Полковника, понизив голос, прибавил:
– Ты на себя всё не бери, не надо. Я здесь как раз для этого. Чтобы отдельные вещи за тебя решать.
– Я вот чего не понимаю, товарищ полковник, – сказал я. – Вы здесь за старшего?
– Операция поручена тебе, – ответил он. – А я осуществляю контроль.
Он пошевелил растопыренными пальцами: мол, как хочешь, так и понимай.
Я понимать отказывался. Я никак не хотел. Хотя и подозревал, что без самого высокого распоряжения тут не обошлось. Недаром генерал-лейтенант Шумилов вскользь упоминал самого товарища Сталина.
– Или вы мне подчиняетесь, товарищ полковник, и тогда я отвечаю за всю операцию, или вы старший, но тогда и ответственность вся ваша. У вас есть письменное предписание?
– Только устные инструкции… Тебе, товарищ лейтенант, «фиат» не нравится?
– Нравится…
– Ну вот и хорошо. Выводи свою мадаму, да проследи, чтобы потеплее закуталась. Сегодня опять под тридцать. Журналистов по дороге встретил: носы красные, щеки белые, красота – не рожи, а польский флаг.
– А куда они поехали?
– Развалины Сталинграда смотреть. Универмаг, последнее логово Паулюса… Оттуда их прямо к пленным генералам повезут, пусть от генералов себе впечатления составят… Хочешь, я тебе потом английские газеты достану?
– Да мне, в общем, без разницы… Я сам уже все впечатления составил. Да и по-английски не читаю.
– Хоть фотографии посмотришь.
– Что мне фотографии смотреть, я этого добра живьем навидался. Гортензия в штабе накормили?
– Накормили меня, товарищ лейтенант. – Гортензий подошел к нам с полковником. – Ехать можно. Немцы-то готовы?
Как будто их позвали, из столовой вывалились оба фрица. Полностью одетые, в регланах. Померзнут они, надо бы полушубки им дать, подумал я. И ничего не сделал. Дяди взрослые, понимать должны, что не в Африке.
За немцами вышли и наши, не прекращая беседы и смеха. Только тот, худенький, с орденом, поглядывал задумчиво, мрачновато, покусывал губу.
Немецкие асы простились с нашими истребителями за руку и подошли к «фиату». Заглянули внутрь, потрогали сиденья.
– Садитесь, – сказал я им. – Сейчас приведу фрау Шпеер, и можно ехать.
Чесноков, покряхтывая, забрался в машину. Вынул из-за пазухи рукавицы, спрятал руки, поднял воротник, нахохлился. ППШ поставил между колен, заботливо закутал каким-то чехлом. Он расположился с краю. Рядом с Гортензием уселся обер-лейтенант Шаренберг.
– Откуда у вас ППШ, товарищ полковник? – спросил я Чеснокова.
– В штабе разжился. А ты с одним ТТ?
– Так смысла нет, товарищ полковник, мы же не на войну отправляемся.
– Тут везде война, Терентий, – возразил Три Полковника. – Журналистов-то повезли в самый город, там от фрицев более-менее очищено, да и то – кто поручится, что где-нибудь в подвале не засело несколько сумасшедших? А мы двинемся через степь. По дороге – развалины зернохранилища, я по карте смотрел. И еще два поселка. Ты как хочешь, Морозов, а я привык к комфорту.
Он весело позвякал в кармане гранатами.
– Вы бы уж сразу пулемет прихватили, товарищ полковник.
– Просил, да не дали, – невозмутимо ответил Чесноков.
Он посмотрел на меня искоса и прибавил:
– Эх, молодежь. Бояться разучились.
Я проезжал этой дорогой несколько дней назад. В том числе и мимо поселков, и мимо развалин зернохранилища. Никого там нет. Но говорить об этом Трем Полковникам я не стал.
Луиза Шпеер устроилась сзади, между капитаном Геллером и мной. Вязаная шаль изящно прихватывает меховую шапочку; валенки, шуба, муфта. Привядшие щеки разрумянились, глаза отливают синевой в тон зимнему небу.
– Ivanytsch, – приветствовала она меня, очень довольная тем, что нашла наконец имя, которое ей выговаривать не трудно. – Хорошо спали, Ivanytsch?
– Фрау Шпеер, – ответил я, – я всегда очень хорошо сплю. Вообще последние два года в России люди спят на удивление крепко. Вот совсем недавно пришлось расследовать случай, когда танкисты покалечили красноармейца. Красноармеец спал и не слышал, как едет танк. И танк наехал ему на руку. Понимаете? Человек так устал, что не слышал танка. Проснулся от того, что ему ломают кости…
Она удивилась:
– Зачем же вы расследовали этот случай?
– Любые происшествия такого рода требуют внимания. – Я пожал плечами. – Сюда относятся и аварии на марше, и другие небоевые потери.
– И как? – настаивала Луиза. – Чем кончилось?
– Да никак, – сказал я. – Красноармейца в госпиталь, с танкистами поговорили, вот и все. Я, собственно, зачем вам это рассказал? Хотел объяснить, почему крепко спал.
– Понятно. – Луиза поджала губы.
Мы выехали. Капитан Геллер неподвижно смотрел на степь. Как будто наглядеться не мог. А у меня в глазах ломило: белое и белое.
Наконец мелькнуло и темное – наполовину сгоревший танк, немецкий, «тройка»; рядом – столбы, колючая проволока, сбоку покосившаяся вышка. Ветром ее накренило, но она вмерзла в землю, упадет только после оттепели.
– Что это? – спросила меня фрау Шпеер. – Загон для скота?
– Думаю, бывший лагерь для советских военнопленных, – сказал я.
Она повернулась ко мне:
– Хотите сказать, людей здесь держали… как скот? Даже без крыши над головой?
– Вас это удивляет?
Луиза сухо ответила:
– Нет.
После этого она молчала довольно долго. Может, с полчаса. Уж что-что, а молчать эта женщина умеет. Она содержательно молчала, со смыслом.
Люди, которые так молчат, живут тяжелой жизнью. Не в материальном отношении, а в морально-нравственном.
В определенном смысле это, как правило, облегчает мне работу. На таких людей проще давить, потому что они весьма озабочены состоянием собственной совести. Им нужно, чтобы их совесть содержалась в безупречной чистоте.
Порой их охватывает сомнение: так ли это? И в такие минуты им непременно требуется подтверждение какого-нибудь объективного свидетеля. Чтобы он твердо сказал: мол, да, дорогой товарищ, не сомневайся, всё в порядке с твоей совестью человека и гражданина. Ну или наоборот: нет, дружище, наворотил ты дел и придется тебе, как говорится, чистосердечно признаваться и искупать кровью.
Поэтому я спокойно ждал, пока она заговорит первая.
И точно – она заговорила:
– Скажите, Ivanytsch, вы член партии?
Я ответил – да, конечно.
– Я тоже, – просто сказала она.
Это оказалось так неожиданно, что я подскочил. Фрау Шпеер – член партии! В самом логове национал-социализма!..
И только в следующую секунду до меня, дурака, дошло: она говорит о совершенно другой партии. Просто я привык, что партия – одна…
Фрау Шпеер посмотрела на меня с легкой улыбкой, как будто угадала мои смятенные мысли (должно быть, на лице у меня было написано), кивнула:
– Я состою в партии с тридцать пятого года. И для меня – как, очевидно, и для вас это не пустой звук. Вы верите в коммунизм. Я всегда верила в национал-социализм. Но сейчас, после гибели фюрера… Адольфа Гитлера, – быстро поправилась она, – после всего, что произошло, что я вижу здесь, под Сталинградом…
Она запнулась.
– Тяжело, наверное, выносить правду, а? – спросил я.
Она отмахнулась:
– Правда может ранить и даже убить, но не может оскорбить. Правда благородна. Я не боюсь задавать откровенные вопросы. Никогда не боялась. В ноябре я пришла к Альберту и спросила его прямо, как один старый член партии другого: «Что происходит с партией?»
Я обратил внимание на то, что она говорит свободно, не смущаясь присутствием Геллера и Шаренберга.
– И что он вам ответил? – спросил я.
– Неожиданно Альберт заговорил о Сталине, – медленно проговорила фрау Шпеер. – Сталин, сказал он, вовремя очистил свою партию от троцкистской сволочи с ее терроризмом и устремлением в бесплодную «мировую революцию» и занялся созидательным трудом. Фюрер, то есть – Адольф Гитлер – ничего подобного не сделал. И в партии оказались у власти преступные элементы. Те, из-за кого с нами не захотят разговаривать. Сейчас настало время исправлять эти ошибки.
– И как он будет исправлять эти ошибки? Повесит Манштейна? – осведомился я.
Луиза пожала плечами:
– Почему бы и нет? Манштейн – плохой генерал, это стало ясно после провала под Сталинградом. Помимо всего прочего.
Три Полковника беспокойно заерзал на месте, но в нашу беседу не вмешивался.
Я сказал Луизе прямо:
– Думаете, одной только казни Манштейна будет достаточно, чтобы с вами начали разговаривать?
– Вы же без всякой казни Манштейна со мной разговариваете?
– Я с вами разговариваю, потому что вы – мое задание.
Она засмеялась, но я видел, что смутил ее.
– Бросьте, Ivanytsch. Мы с вами оба – разумные люди.
– А вас не пугает перспектива расследований, репрессий? – поинтересовался я.
Прежде чем ответить, она долго смотрела на однообразный белый пейзаж.
– Я, конечно, задала Альберту этот вопрос. Знаете, что он мне сказал? «Если бы Сталин пустил в ход ледоруб не в сороковом, а еще в двадцать девятом, России удалось бы избежать больших бед. Троцкий сбил с толку слишком много хороших людей».
* * *
Мы проезжали развалины, мертвые коробки домов. Поселок был уничтожен еще летом. Из-под снега торчали разбитые орудия, на обочине чернел разбитый советский танк с сорванными гусеницами. Рядом виднелся хрупкий скелет грузовика, обглоданный огнем и ветром.
Гортензий сбросил скорость. Луиза поднесла муфту к лицу, подышала в мех. Вдоль дороги потянулось длинное каменное здание без крыши, с пустыми окнами, – когда-то это был коровник. Кирпичные стены утопали в сугробах.
«Фиат» прыгнул, проскакивая воронку, вильнул и проехал под стеной.
Взрыв прогремел перед самой машиной. Взметнулись комья снега, облепившие лобовое стекло. По машине тяжко застучали осколки, камни. Меня ударило комком мерзлой земли по голове, в глазах потемнело.
Падая, я успел схватить Луизу и накрыть собой. «Бояться разучились» – вспомнились слова Чеснокова.
Я приподнял голову. Сквозь пелену увидел, что Гортензий неподвижно лежит на руле.
Из развалин, перешагивая оконный проем, выступил рослый тощий фриц. У него плохо гнулись ноги – он двигался деревянно. Автомат на его обмотанной тряпками шее дергался и стрелял.
Чесноков выскочил из машины и прыжками понесся к коровнику. Из двух окон по нему вели огонь. В разломе скакнула, развеваясь полами одежды, темная фигура.
Я выпрямился над Луизой и пальнул в идущего на нас немца. У того подогнулись ноги, он упал на колени, помедлил и повалился, доской откинувшись назад.
Я слепо ощупал под собой Луизу, она вся была холодная, кроме губ. От губ шло дыхание.
– Ромек! – закричал я Гортензию.
Из развалин выступил, точно такой же прямой, второй немец. У него тоже прыгал на шее автомат.
Капитан Геллер, пригибаясь, побежал вслед за Чесноковым. На ходу он вытаскивал «люгер».
– Ромек, ты цел? – кричал я. В ушах у меня словно застряли толстые комки пыльной ваты, я не слышал своего голоса.
Гортензий повернулся ко мне. По его лицу из-под шапки текла кровь.
– Цел, – пошевелились его губы.
Второй фриц внезапно переместился от развалин к самой машине, и Гортензий медленно поднял руку с пистолетом. Выстрел отбросил немца, лицо ему разворотило.

Луиза шевельнулась. Я наклонился к ней:
– He поднимайтесь, пока не скажу.
Она кивнула с закрытыми глазами.
Я выполз из машины. С другой стороны дороги ничего не было – ровная белая степь. В глазах у меня мутилось, в голове гудело. Если среди сугробов по другую сторону дороги кто-то прячется, я могу и не разглядеть.
Чесноков был уже возле коровника. Одну за другой Три Полковника метнул туда гранаты, подождал взрыва и кивнул Геллеру. Разделившись, они нырнули внутрь.
После взрыва из коровника выскочил еще один немец. Я услышал несколько отрывистых выстрелов, потом очередь из ППШ.
Я до боли тер глаза рукавицей. Гудение в голове потихоньку унималось. Прячась за машиной, я держал развалины под прицелом. Там что-то опять зашевелилось, потом появилась изможденная фигура с мертво болтающейся головой и растопыренными руками.
Я приготовился выстрелить, как вдруг фигура резким толчком выбросилась на дорогу и неподвижно распласталась на снегу. Вслед за ней возник полковник Чесноков.
Из развалин донесся одиночный выстрел, словно поставили точку. Чесноков поднял голову и встретился взглядом со мной.
– Оружие пусть… оружие у них собрать! – прокричал я.
Выбрался, споткнувшись о засыпанный снегом камень, капитан Геллер. В руке он держал немецкий автомат. Он наклонился, подобрал еще два автомата, передал их Чеснокову. Чесноков помахал мне рукой, и тут развалины вновь ожили: пуля проскочила возле уха полковника, сбила набекрень шапку. Чесноков сказал: «Ах, мать!..» – и прислонился к стене сбоку от пролома. Геллер вжался в мерзлый камень по другую сторону, сделал Чеснокову знак не двигаться и сам, высоко задрав ноги, скакнул обратно в руины.
Я забрался в машину.
– Не поднимайтесь, – твердил я Луизе, хотя та и не думала вставать.
Гортензий пробовал завести машину и бормотал: «Колесо я еще сменяю, колесо тут запасное было, а вот если что с двигателем…» Кровь затекала ему в глаз, он досадливо размазывал ее рукавицей.
На дорогу вывалился здоровенный немецкий унтер. Он сделал враскорячку несколько шагов и упал на четвереньки, похожий на гигантское насекомое.
– Шаренберг убит! – крикнул я. – Гортензий ранен.
Унтер дернулся, словно хотел побежать на четвереньках, но повалился набок, вздрогнул, сжал обмороженную руку в кулак и затих.
– Сволочь, – сказал Геллер равнодушно и убрал «люгер» в кобуру. Шлепнул своего и не задумался.
Чесноков порылся в кармане, вынул еще одну гранату и на прощание швырнул ее в пустой коровник. Стена осыпалась, открывая новый пролом. Три Полковника забросил в машину собранные у немцев автоматы.
– Все, фрау Шпеер, – сказал я. – Давайте я помогу вам сесть.
– Почему вы кричите? – спросила она невыносимо тихо.
– Плохо со слухом, – объяснил я, протягивая ей руку.
Она сильно вцепилась в меня.
– Выпейте водки, – посоветовал я.
Вместо этого она подала флягу мне.
Я глотнул, передал Чеснокову. Тот с удовольствием угостился и подозвал Геллера:
– Причастись, капитан.
Луиза рядом со мной замерла. Она только сейчас увидела неподвижного Шаренберга с темным пятном под мышкой. Гортензий, обтирая лобовое стекло, повернулся к ней и сообщил:
– Дырок в кузове наделали, а так – ничего. Лейтенант вот что-то плохой.
– Может, жив? – спросил я.
Словно в ответ Шаренберг застонал. Геллер подбежал к нему, оскалился, задрав верхнюю губу.
– Гортензий, ехать можем? – спросил я.
– А вот сейчас и проверим, – ответил сержант, заводя машину.
– Это были немецкие солдаты? – спросила фрау Шпеер.
– Да, – ответил я.
Геллер сдирал с Шаренберга реглан. По голым трясущимся рукам Геллера потекла кровь.
– Осколками его, – бросил Чесноков. – Можем не довезти… Давай, Гортензий, гони к госпиталю!
У Луизы застучали зубы. Чесноков вернул ей флягу с водкой, и фрау Шпеер сделала несколько глотков, после чего сунула флягу в муфту. Поразительно, какие вещи женщины умеют прятать в муфте.
* * *
Нашей целью был небольшой госпиталь в Егоровке.
Когда несколько дней назад я доставил туда Шпеера и остальных, мне пришлось выдержать настоящее сражение с тамошним главврачом, толстым, обманчиво-добродушным с виду украинцем по фамилии Перемога. Он глядел на меня, как запорожец на турецкого султана, а я ему даже возразить ничего толком не мог, так окоченел за ту поездку.
Я только и сказал, что мне позарез нужно отдельное помещение для четырех раненых немцев. Любая камора сойдет, лишь бы отдельно.
Тут-то он и взорвался:
– У меня полевой госпиталь, а не курорт для начальства! Люди в два слоя лежат! Советские люди, бойцы и командиры, между прочим! А вы требуете отдельную резиденцию для парочки вшивых фрицев!
Но к тому моменту я уже достаточно отогрелся для того, чтобы сообщить ему, что:
1) вшивые фрицы – тоже люди, хотя в это трудно поверить, да и не особо хочется;
2) они из тифозного барака, так что изолировать их пришлось бы в любом случае;
3) это особо важное задание партии и правительства, которое следует выполнить неукоснительно, и поэтому —
4) у меня имеются неограниченные полномочия от Особого отдела Шестьдесят четвертой армии, в рамках которых я и действую. Вот бумаги.
Всё ясно или будешь в Особый отдел армии запрос отправлять?
– Есть у меня маленький флигелек, – сдался Перемога. Он меня ненавидел за то, что поделать со мной ничего не мог. – Мы там бочки с водой держим, карболку, швабры. Туда можно печку поставить и нары сколотить. Одеяла найдутся. Тиф, говорите? Вши?
Я спросил у него сахар, куска четыре. Он сразу вынул из кармана горсть рафинада, как будто ожидал этой просьбы.
– Истощение? – спросил Перемога уже другим голосом. Он трогал щеку изнутри языком, и толстая твердая щека надувалась. – А охранять ваших фрицев случаем не придется?
Я ответил, что в таком состоянии они не то что сбежать – до сортира доковылять не смогут.
– До сортира им всяко ковылять придется, – строго заметил врач. – Разводить антисанитарию не позволю – расстреляю лично.
– Так уж и расстреляете? – Я постарался вложить в голос побольше иронии.
Он ответил:
– Так и расстреляю.
– Прямо вот лично?
– У меня для этих целей особый револьвер припасен.
И он действительно показал мне крошечный дамский револьверчик, который носил в кармане.
– Еще со времен Гражданской. А вы как думали?
Мне пришлось сознаться, что я никак не думал.
Перемога еще раз посмотрел мои бумаги и наконец ушел распоряжаться насчет моих раненых.
…Госпиталь размещался в бывшем здании совхозного правления, на холме. Солдаты вставили выбитые окна, кое-где заменив стекла фанерными листами, привели в порядок крышу, двери, повесили красный флаг. Возле входа находились четыре облупленные, когда-то белые колонны квадратного сечения.
Но мы направились не к главному входу, а к маленькому каменному флигельку, примостившемуся сбоку от центрального здания.
Когда наша машина остановилась, из флигеля как раз выходил рыжий Кролль с ведром. Рыжий был теперь наголо обрит, на нем красовались грубый толстый халат серого цвета и валенки.
Заметив «фиат», рыжий насторожился.
– Можно, я к ним не пойду? – вяло спросил меня Гортензий.
– Не ходите, Гортензий. Отдыхайте.
– Какое «отдыхайте», машину толком посмотреть надо… Чего там фрицы с ней наворотили… Мы же под личную ответственность брали, теперь в штабе попадет.
– Вы лучше свою голову доктору покажите, пусть перевяжет.
– Да с головой всё в порядке, а вот в машине мне дырок наделали…
Я подал руку Луизе. Она утвердила на снегу кругленькие, детские валенки, тяжело оперлась на меня, выпрямилась, осмотрелась.
По опыту допросов я знаю, что люди смотрят на одно и то же, а видят совершенно разное. Кто-то увидел бы здесь наспех отремонтированное здание совхозного правления, кто-то – удачное место для размещения огневой точки, лично я наблюдал госпиталь, который не стыдно показать иностранным журналистам. А вот что, интересно, предстало взорам Луизы Шпеер?

Она вынула руки из муфты, поправила платок, снова сунула руки в муфту, огляделась, поежилась.
– Попрыгайте, – посоветовал я. – Теплее станет.
– Терентий, – обратился ко мне Три Полковника, – шустро сгоняй за лекарем. У обер-лейтенанта дела совсем плохи, как бы не помер. Неприятностей не оберешься.
Кролль украдкой поглядел на нас, зашел за угол, опорожнил там ведро, поставил его на снег, вытер руки о чистый сугроб и, наконец, осторожно приблизился ко мне:
– Здрасьте, господин лейтенант.
– Выглядишь получше, – заметил я.
– Так здесь же кормят, – Кролль пожал плечами и стрельнул глазами в сторону женщины. Бровью мне намекающее двинул: мол, кто это?
На этот нахальный жест я никак не отреагировал.
– Если бы тебя, засранец, не кормили, ты бы еще неделю назад помер, так что не ври.
– Да я и не вру, – рыжий демонстративно обиделся.
– Остальные как?
Кролль засмеялся:
– Фридрих фон Рейхенау учится колоть дрова.
– Молодец. Будет чем заработать на жизнь.
– Русские ржут как кони, потому что это бесплатный цирк, и дают ему за это Kompot.
– А вам что, Kompot не полагается?
– Так лишним не бывает… – простодушно объяснил Кролль. – А кого вы привезли, господин лейтенант?
Он заглянул в машину. Геллер курил и смотрел в другую сторону.
Я направился к госпиталю. Снег поскрипывал под ногами. Очень издалека сипела музыка – так тихо, что казалась галлюцинацией.
Я открыл дверь. Сразу навалился тяжелый госпитальный дух. Солдат на костылях, обмотанный бинтами, как белый медведь, сердито толкнул меня и упрыгал куда-то.
Огромный Перемога быстро шагал мне навстречу – раскачивающейся походкой, размахивая руками. Он занимал собой всё пространство узкого госпитального коридора, так что мы не могли не столкнуться.
– Товарищ лейтенант! – рявкнул Перемога. – Куда вы несетесь сломя голову? Хоть бы по сторонам смотрели.
– Раненого привез, – сказал я.
– Где он?
– Там.
– «Там»! – передразнил меня доктор. – Санитаров, быстро!.. – взревел он. И мне: – Сильно ранен?
– Осколками посекло. Мы толком не смотрели, торопились.
– Принесем сюда, посмотрим.
– Только он… – начал было я.
Перемога насторожился:
– Что еще?
– Он, товарищ военврач, тоже немец, – сказал я.
– Да какая мне разница! – заревел Перемога. – Немец? Очень хорошо! Нашего было бы жалко, а немца – ничуть. А с вами что? Пьяный? В глаза смотреть, в глаза!
– Ничего. Немножко контузило. Там еще водителю нашему кожу на голове содрало. Его бы тоже…
Некрасивая пожилая санитарка остановилась возле меня.
– Чего вы ждете, товарищ лейтенант? – спросила она. – Помогите с носилками.
Я выволок тяжелые носилки на крыльцо. Там топтался Чесноков.
– Давай, – сказал он, кивая на носилки. – Иди к своей фрау. Она молодец, хорошо держится, но и ее до предела доводить не стоит.
– А Гортензий?
– Иди, иди, – повторил Чесноков. – Без тебя управимся.
Геллер помог Чеснокову переложить Шаренберга на носилки. Санитарка шла рядом, посматривая в лицо раненого. Окровавленный Гортензий замыкал шествие и что-то бубнил.
Луиза проводила их взглядом, но спросить ничего не успела.
Я повернулся к ней:
– Вы готовы, фрау Шпеер?
Луиза побледнела, миновала Кролля, так и стоявшего с раскрытым ртом, и открыла дверь флигеля.
– Здрасьте, – в спину ей запоздало проговорил рыжий.
Во флигеле, где помещались пленные немцы, оказалось темно, глаза не сразу привыкли. Перемога не обманул – поставил двухъярусные нары, постелил тюфяки, дал одеяла. Посреди комнаты топилась буржуйка. Рейхенау подкладывал туда маленькие полешки.
На верхней койке дрых, раскрыв рот и похрапывая, Леер, а сын Луизы лежал на нижней, закутанный в два одеяла, и безмолвно наблюдал за действиями Фрица.
Луиза оглядела помещение, впилась взглядом в Леера, резко отвернулась, подбежала к Рейхенау. Тот встал, выпрямился и приветствовал ее четким наклоном головы, после чего побелел и схватился рукой за нары, чтобы не упасть.
Луиза безразлично скользнула глазами по Шпееру, метнулась ко мне, схватила за ворот и прямо в лицо закричала:
– Где он?
Кролль с грохотом выронил ведро.
Честно сказать, я растерялся.
– Где он?! – снова вскрикнула Луиза. – Мать твою, русская свинья, где он?..
Я молча отцепил от себя ее пальцы, взял за запястья и отодвинул подальше. Она не сопротивлялась, только смотрела на меня ледяными, полными ярости глазами.
Тут Шпеер пошевелился наконец на нарах и еле слышно произнес:
– Мама.
Луиза глухо ахнула, схватилась ладонями за щеки и вылетела из комнаты.
Я споткнулся о ведро и приказал Кроллю:
– Прибери.
Луиза стояла, прислонившись к стене флигеля, и сильно дышала, глядя в небо. Я потоптался рядом с ней, а потом громко сказал:
– Хватит валять дурака, фрау Шпеер. Идите туда. Вы же к нему приехали, вот и идите.
– Старик, старик… – шептала она.
– Да ничего он не старик, я по бумагам смотрел, ему тридцать шесть! – рявкнул я. – Полежит в тепле, поест нормальной каши, отдохнет – будет на человека похож.
Она оттолкнулась от стены и, не глядя на меня, вернулась в комнату.
Мы с Гортензием курили. У Гортензия из-под шапки белела свежая повязка. Он спросил, куда поедем дальше.
Я сказал, что, видимо, в штаб Шестьдесят четвертой армии.
– Ага, – безразлично сказал Гортензий и бросил на снег окурок. – А с летчиком пораненным чего делать будем?
– Доставят как миленькие, если будет транспортабелен…
Я заглянул во флигель. Леер по-прежнему спал, Рейхенау сидел на нарах и что-то страдальчески штопал. Кролль хлопотал возле печки.
Луиза сидела рядом со Шпеером и молчала, сложив руки на коленях. И он тоже молчал.
– Фрау Шпеер, – вмешался я в эту семейную идиллию, – пора ехать.
Она без слова поднялась и вышла.
Тогда я приблизился к Эрнсту, всмотрелся в его лицо.
– Да, – сказал я, – вам определенно лучше.
– Неужели? – пробормотал он.
– Вас, очевидно, будут обменивать на кого-то из наших, – сообщил я.
Тут он заволновался:
– Без моего экипажа я не…
– Между нами говоря, капитан Шпеер, вас никто не спросит, – напомнил я. – Да вы ведь не маленький, сами все понимать должны.
Он коротко, горько хохотнул:
– Мама – сильный человек.
– Я заметил.
На выходе я столкнулся с доктором Перемогой.
– Убедились? – осведомился он. – В полном порядке ваши фрицы.
– Да я в этом не сомневался, – ответил я.
– А вот тот, которого вы привезли, – тяжелый, – предупредил Перемога. – Сейчас оперировать буду. Не знаю, может, и помрет. Кто его так?
– Да немцы какие-то заблудшие, – ответил я.
– И на что надеются? – проворчал Перемога. – Перемерзнут, с голоду перемрут… Сами же окрестные деревни по всей округе пожгли. Тут на сотню верст можно живого человека не встретить. А они всё хоронятся.
– Кто хоронится, а кто и нет. Мы пока доехали…
– Ладно, всё, болтать некогда, – оборвал Перемога. – Вечером можете позвонить, спросите, как ваш товарищ. У нас связь восстановили вчера, так теперь покоя нет, звонят и звонят.
Вернулся капитан Геллер, хмурый, молчаливый, за ним – бодрый Чесноков. Чесноков пожал Перемоге руку:
– Благодарю за сотрудничество.
– Рад стараться, – кислым голосом отозвался Перемога, явно нарочно ввернув старорежимный оборот.
Садясь в машину, я слышал, как доктор распекает Кролля за антисанитарию.
* * *
Мы ехали в штаб армии. Луиза положила голову мне на плечо и задремала. Иногда она громко всхлипывала во сне, просыпалась, смотрела на голую белую степь – и опять погружалась в полузабытье.