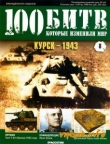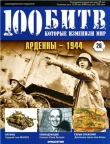Текст книги "Der Architekt. Проект Германия"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Соавторы: Елена Хаецкая
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
– Ничего не поделаешь, товарищ лейтенант, кому-то придется разгребать эти завалы, – сказал командующий.
– А нельзя задержать мамашу где-нибудь в Стокгольме? В Москве, если уж она собралась в СССР? Нелетная погода, партизаны там какие…
– Нельзя, – твердым, не допускающим возражений тоном ответил командующий. – Она прибывает с основной группой журналистов. Не сомневаюсь также в том, что она лично настаивает на этой поездке. Возможно, канцлер Альберт Шпеер побаивается своей мамаши. Такое с любыми канцлерами случается сплошь да рядом. Но тебе-то, Морозов, ее бояться совсем не обязательно. Ты же советский человек.
– Да никого я не боюсь…
Какого черта холеную немецкую домохозяйку, а то, небось, и баронессу-графиню, несет в наши степи, да еще при морозе в тридцать градусов? Очень ей надо смотреть на развалины Сталинграда, на горы трупов, пирамиды из касок и брошенных немецких винтовок… Такие, с позволения сказать, пейзажи и здоровенного мужика-то с ног валят.
А вдруг она в обмороки падать начнет? Не хватало мне еще, на смех личному составу, таскать на руках пожилую фрау и подносить ей нюхательную соль.
Не то чтобы я совсем рассиропился, пустил слюну и принялся жалеть фрау Шпеер. Наших матерей немец не жалел. И насмотрелись наши матери на такое…
Но это во мне обычные чувства говорили. Та сторона моей личности, которая каждого немца голыми руками порвать бы хотела. Вторая составляющая чекиста – то есть горячее сердце.
А холодный разум требовал иного, поэтому пришлось мне взять себя в руки. Наверное, я даже молчал не слишком долго.
– Дайте мне с собой водки хорошей или спирта, товарищ командующий, – попросил я. – Фляжки три, если можно. Померзнет у меня фрау-то. Да и для бодрости духа ей не помешает.
– Тут от немцев шнапса осталась пара ящиков, – сообщил командующий.
– Шнапс, между нами, гадость, да и слабенький он, – возразил я.
– А чекист соображает, а? – Командующий закурил, скомкал пустую пачку папирос и бросил на пол, сразу вытащил из кармана новую и положил перед собой. – Ладно, лейтенант, будет тебе водка. Понимаю, не для себя просишь, для дела.
Он подмигнул:
– А шампанского даме не положено. Не заслужили немцы шампанского, а?
Я не стал уточнять, чего, с моей точки зрения, заслужили немцы. Пешкова потягивала чай и молча слушала, о чем мы говорим.
– Мы тоже пока не заслужили, – задумчиво молвил командующий.
– Почему это? – вскинулся Силантьев. Он всегда такие вещи обостренно принимает – на собственный счет.
– Потому что в противоположном случае нам бы его прислали прямо из Москвы, – ответил командующий. – В цистерне с надписью «Живая рыба» – для конспирации… Ладно, товарищ Силантьев, хватит нам с тобой мурыжить лейтенанта. У него теперь забот по горло. Мамаша Шпеер небось пожелает самолично удостовериться, в каких условиях содержатся пленные.
– Кстати, я тоже этого желаю, – подала голос Пешкова. – Только не устраивайте мне «потемкинские деревни», показывайте как есть.
– Вас, Екатерина Павловна, проведем везде и повсюду, без утайки. Приказ товарища Сталина, – заверил майор Силантьев. Водочная слеза подрагивала в углу его выкаченного глаза, зрачок был странно расширен, красная сетка покрыла белок. Майор смертельно устал и держался на последнем вздохе.
Пешкова кивнула ему.
– Договорились. Мне завтра понадобятся автомобиль, водитель и пропуск. Послезавтра я должна уже быть в Москве. Я знаю, что у немцев началась эпидемия тифа. Как бы она дальше лагерей для пленных не пошла. И это только часть проблемы…
– Ну, немцы бы эту проблему решили просто – с помощью одного массового расстрела, – сказал командующий. – В гигиенических целях. А вот мы себе такую роскошь позволить не можем.
– Немцы – тоже, по крайней мере, сейчас, – заметила Пешкова. – Что дает нам надежду вернуть домой хотя бы часть захваченных ими в начале войны красноармейцев. – Она посмотрела на меня. – И ваша миссия, товарищ Морозов, заключается в том, чтобы помочь этому процессу.
– Понял, – кивнул я. – Только у меня вопрос.
– Еще вопрос? Какой непонятливый, – проворчал командующий.
– Есть ли хотя бы намек на то, где может обретаться капитан Шпеер? Известно, где он воевал?
– Воевал он, товарищ Морозов, в составе Второго танкового полка. Ошметки этого полка занимали завод «Красный Октябрь», пока их оттуда не выбили. Куда они подевались потом – выяснять придется вам. Полномочия у вас самые широкие. Действуйте по обстановке. Докладывать – ежедневно. Найдете труп – пусть будет труп, ничего не попишешь. Идите, готовьтесь.
Я козырнул и вышел с КП.
Холодный ветер плеснул мне в лицо, кольнул щеки и нос острыми иголками. Глаза заслезились. Я снял рукавицу, протер лицо, снова надел рукавицу.
О личной жизни гитлеровского руководства было известно очень немногое. Гораздо больше мы знали о командирах, с которыми имели дело непосредственно: о Готе, Манштейне, Паулюсе. А уж кто такой Шпеер и какие там у него родственники – этого никто и подавно не выяснял. Зачем? А теперь вот оказывается – нужно… Правильно говорил мой первый командир, латыш Валдис: не бывает лишней информации, бывает лишь скорбное неумение ее приложить.
Я должен по полной программе подготовиться к встрече с мамашей Шпеер. Не упустить ни одной мелочи. Думай, Морозов, думай. Как тебе, простому лейтенанту Особого отдела, рабочему парню с московской окраины, год рождения семнадцатый, образование семь классов, русский, член ВКП(б), встретить пожилую немецкую даму – родительницу самого влиятельного в «новой Германии» человека?
Я подумал-подумал и для начала отправился на склад, где затребовал валенки небольшого размера и ватные штаны. Новые!
2. ГОСПИТАЛЬ НОМЕР ОДИН
«Виллис» проехал по грунтовке к железнодорожной насыпи, спустился под нее и покатил к Царицынской балке. Кругом не было ничего, кроме развалин. Город казался кружевным – узорная вязь вылущенных домов на фоне пустого неба.
Проходили красноармейцы, проскакивали на большой скорости грузовики. Один раз я видел колонну пленных. Они уныло брели по заснеженной степи, постепенно растворяясь в ее просторах.
– До чего же с лица черные, – поделился я с моим водителем, – как головешки.
– С голодухи, – флегматично пояснил водитель.
«Виллис» вместе с шофером выделил мне майор Силантьев. От себя оторвал. С мясом. Это были его личный «виллис» и его личный шофер.
Фамилия водителя была Гортензий. Сержант Гортензий оказался человеком исключительно сложной судьбы, которая включала в себя мелкие правонарушения, по молодости лет совершенные на территории буржуазной Литвы, переезд в Ленинград в 1940 году, работу сторожем, кладовщиком, киномехаником, затем – Сталинградский фронт, месяц в штрафной роте и два ранения, одно легкое, другое не очень.
Ростом он был немногим повыше ста семидесяти сантиметров, широкий в плечах, костлявый, руки чуть длиннее, чем положено по пропорциям, нос хрящеватый, лоб с выпирающими костями, глаза небольшие, светлые.
Свое личное имя сержант в обиходе скрывал, но по документам я знал, что его зовут Ромуальд Сигизмундович. Лет ему было тридцать четыре.
– А вы откуда знаете, сержант, что непременно с голодухи?
– Нагляделся в Ленинграде, – ответил Гортензий. – Да вы, товарищ лейтенант, в моем личном деле наверняка видели.
– He помню, – искренне ответил я. – Остановите, приехали. Это где-то здесь.
Комендант «Госпиталя для военнопленных номер один» майор Блинов уставился в мои документы так, словно читать не умел, а только прикидывался. И держал их не вверх ногами исключительно по счастливому стечению обстоятельств.
Это был здоровенный мужик под два метра, краснощекий, с мясистым лбом, небольшими серыми глазами, крупными залысинами, седоватый, возраст – лет сорок, сорок три.
– Ну, и что тебе тут понадобилось? – вопросил он, возвращая мне документы и хозяйским взором вцепившись в штабной «виллис».
– Ты, товарищ майор, с моими бумагами хорошо ознакомился? – осведомился я. – Или так, видимость показал? Веди, демонстрируй хозяйство.
– У меня тут полный порядок, – заверил Блинов. – Фриц по струнке ходит.
– Ходит? – переспросил я. – А мне вот докладывают, что фриц у тебя едва ползает и при каждом удобном случае дохнет.
Я сложил свои бумаги и убрал в нагрудный карман. Блинов неотрывно следил за мной.
– В виде политинформации могу сообщить, – продолжал я, – что их менять собираются, на наших. Всех поморишь – кого менять будем? Дело государственной важности, а ты у себя головотяпство[23]23
Словечко «головотяпство» намекало на связь майора Блинова с ежовскими методами работы и фактически таило в себе угрозу применения к Блинову серьезных методов внушения со стороны Особого отдела.
[Закрыть] развел.
Блинов побагровел и широко разинул рот, готовясь заорать на меня. Но эти фокусы у него с доходягами из-за колючки проходят, а со мной не пройдут. Я его опередил:
– Жратву твои повара из котла тягают?! Лекарства куда деваете?! На «черном рынке» сбываете? Народное хозяйство подрываете? Заткнись и веди куда скажу.
Майор аккуратно закрыл рот. Несколько раз проверил рукой подбородок – не потерял ли ненароком челюсть. Такую выдающуюся челюсть, конечно, утратить было бы жалко.
Гортензий на нас вроде не глядел, но я приметил, как он клюнул носом руль и ухмыльнулся. Одобряет свое начальство, стало быть.
Это был второй по счету госпиталь для военнопленных, куда мы приехали. В первом, где я искал, – в Гончаре, – раненого народу было понатыкано, как килек, а списков вообще никаких не велось.
Я взял какого-то доктора из немцев – он оказался дантистом и очень напирал на это обстоятельство. Мы вместе обошли бараки и везде задавали один и тот же вопрос: нет ли здесь капитана Эрнста Шпеера? Второй танковый полк? По-моему, по крайней мере половина раненых вообще не понимала, о чем мы спрашиваем. На прощание я подарил дантисту пачку папирос.
Потом мы с Гортензием посетили пару лагерей, где содержались здоровые пленные. «Здоровые» – это значит, более или менее держатся на ногах, не валятся от тифа и не имеют на теле очевидных ранений. В основном почему-то попадались румыны. Румыны мне вообще ни на что не сдались.
Гортензий сочувствовал моим поискам.
– Вы, товарищ лейтенант, если его не найдете, этого капитана, всегда можете предъявить мамашеньке могилку. Крест построить получше, сверху навесить каску, орденок какой-нибудь положить – тут, говорят, этих побрякушек Целые ящики, – веточку еловую… У нас поляки красиво хоронили, в Литве. Прикажете – я сделаю. Поплачет мамашенька, помолится, горстку земли с собой возьмет.
– Какую горстку, какой земли? – не выдержал я. – Сдурел?
Я представил себе, как мамаша Шпеер своими аккуратно вычищенными ногтями царапает здешнюю почву – промерзшую до самой сердцевины, до земного ядра.
Гортензий задумался, потом хмыкнул:
– И то, товарищ лейтенант, ваша правда: тут гранатами взрывать приходится, чтобы могилу выкопать. Это я лишку хватил, с горсткой землицы, признаю.
– Предлагаете выдать мамаше Шпеер пару гранат? – съязвил я.
На самом деле идея сержанта имела смысл. В общем, я практически не верил, что в этой людской каше можно отыскать какого-то конкретного человека.
– Тут поблизости еще три лагеря, – сказал я. – Но начнем с «Госпиталя для военнопленных номер один» – в самом Сталинграде.
– Начальство приказало, а мы – за баранку и вперед, – философски отнесся Гортензий.
И вот мы в «Госпитале для военнопленных номер один». Я поймал себя на том, что прикидываю – где бы лучше разместить одинокий крестик с каской и орденом. Вон, на склоне – развалины какого-то деревянного дома. Наверное, еще с дореволюционных времен стоял. Стоял-стоял, радовал глаз, а потом пал смертью храбрых. Вокруг дома останки сада – судя по стволам, яблоневого. Там в самый раз могилку Эрнста Шпеера организовать…
– Сержант, останетесь в машине, – приказал я. И Блинову: – Провожай.
Мы поднялись по тропинке вверх по откосу балки. Идти было скользко, с Волги задувало мертвящим холодом. Своей широкой спиной майор отчасти прикрывал меня от ветра. Пару раз тупой носок валенка втыкался в маленькую ступеньку, прорубленную в плотном снегу, а потом мы опять ползли по ледяной тропинке.
Вдали я увидел одинокое дерево – черное и мертвое. Пристреливаться в самый раз.
– Вона, – майор махнул рукой в рукавице. – Там.
«Там» из сугроба торчал столб с надписью на выломанном откуда-то куске фанеры: «Госпиталь для военнопленных № 1».
Мы миновали вмерзшие в землю развалины. Женщина, закутанная в толстый серый платок, протащила длинные санки, груженные обгорелыми бревнами. Поверх бревен лежала рогожа, прихваченная веревкой и присыпанная снегом.
– Мертвяков повезла, – заметил Блинов. Мне показалось, что он потянулся перекреститься и только в последний момент передумал.
– Твои? – кивнул я.
– Кто их знает, – искренне сказал Блинов, на миг становясь похожим на нормального человека. – Мои, небось. – Он вздохнул. – Нарочно мрут, сволочи, чтоб тыловому командованию нагадить. Не поверишь, лейтенант, я главврачу даже расстрелом грозил: будешь, мол, плохо лечить – перед строем тебя шлепну, образцово-показательно! А он только ругается. Может, ты с ним побеседуешь?
– Обязательно побеседую, – обещал я.
Майор замолчал, засопел.
Женщину с санками долго еще было видно на белом снегу.
Блинов пнул дверцу ворот, висящую на одной петле. Мы вошли во двор. Здесь было обитаемо – то есть загажено. Загажено – не то слово. Засрано.
Коптила полевая кухня. Вдруг упала труба, вырвался клок пламени. Два человека в грязных ватниках без ворота, ругаясь, забросали ее снегом.
– Черт, – рявкнул Блинов. Он крепко ухватил меня за локоть: – Нам туда. – Он махнул на дыру в склоне балки, обшитую свежими досками.

Я оторопел:
– Это что еще?
– Местные называют – «бункер Тимошенко», а вообще – бывшее бомбоубежище. Оборудовано для жилья. Вентиляция тут, правда, хреноватая, так немцы сами виноваты – не надо было по ней из орудий лупить. Вот теперь пусть сами и дышат, значит, своими родными испарениями.
Он мрачно остановился, потом вытянул шею, вгляделся во что-то и заорал:
– Хальт! Ду! Комм! Шнель!
Сначала я не понял, кому это он, а потом увидел человека, ползавшего вокруг полевой кухни на четвереньках. Лицо у него было распухшее, закопченное, глаза белые. Кончик носа отвалился, там краснела язва.
Услышав рык майора, он замер, потом поднялся, стоя на коленях и хватаясь руками за воздух. Случайно цапнул ладонью полевую кухню, обжегся и взвизгнул.
Я повернулся к Блинову:
– Кто это?
– А это беглец, товарищ лейтенант! – подал голос один из поваров. Он всё пытался водрузить на место трубу. – Удрать пытался. Таскался по степи дня четыре, дополз до расположения нашей пехотной части, там и свалился. Ребята его подкормили, да только нос он себе уже отморозил. Его сюда на грузовике обратно привезли. – Солдат беззлобно выругался. – Он, товарищ лейтенант, мозги растерял.
Он вынул из кармана сухарь и подозвал сумасшедшего:
– На, только не грызи, зубы переломаешь. Сосать надо, понял? – Он показал, как: сунул в рот, почмокал, потом вытащил и ткнул немцу в губы. – Давай. Не то помрешь.
– Он и так помрет, – плюнул Блинов. – Чего возиться?
– Может, и помрет, а может, и нет, – философски заметил солдат. – Каких случаев не бывает!.. Бывает, и выздоравливают. Может, к нему потом разум вернется. Может, он у себя в Германии вообще профессором был… У, сволота!
Неожиданно он пнул пленного валенком. Тот хрюкнул, упал в снег, зажимая сухарь в кулаке.
Блинов наблюдал за этим с явным удовольствием. Даже головой кивал, как бы в такт. Потом спохватился, повернулся ко мне:
– Ладно, идем. Хотите, товарищ оперуполномоченный, посмотреть, в каких условиях у нас раненые содержатся?
– Хочу, – сказал я.
– Фонарик есть?
– Есть.
Я включил фонарик, а Блинов снял лампу, висящую у входа на гвозде и зажег ее, а потом от того же огонька прикурил.
Мы прошли по коридору: я видел сырые стены, сложенные кирпичом, грунтовый пол. Дальше висела тяжелая занавеска с налипшей внизу грязью и комьями снега. За занавеской открылись черные от копоти стены и деревянные нары в три яруса. Воздух здесь был настолько зловонным, что я закашлялся.
– Кури, лейтенант, помогает, – посоветовал майор.
Я поспешно последовал его совету.
– Сколько здесь пленных?
– Да черт их знает, – сказал майор. – Одни помирают, других привозят. Текучка кадров.
Я посветил фонариком. На нарах лежали раненые, бинты у всех без исключения были грязными. Возле стены мостился колченогий стул, на нем – таз с мутной водой. Пустые консервные банки служили «ночными вазами». Многие были опрокинуты.
– Как их кормят? – спросил я коменданта.
– Раз в день горячий чай, – начал перечислять комендант. – Хлеб – килограмм на десять человек. Варится горячий суп с крупой и соленой рыбой. Пробовали давать масло, но от масла они поголовно дрищут, так что масло отменили.
Я еще раз пробежался фонариком по лицам немцев. Никто из них даже не отвернулся. Только один закричал, закрывая глаза ладонями в толстых бинтах.
– Тифозный, – пояснил Блинов. – Ты аккуратней здесь, вши с них так и сыплются. Помрет кто – прямо одеялом сползают. Хоть руками черпай.
– Всё, я на выход, – сказал я.
Неожиданно луч моего фонарика упал в угол комнаты, и там не обнаружилось стены – лишь чернота, уходящая в бесконечность.
– А там что?
– Продолжение, – ответил Блинов. – Тут тоннели тянутся – никто не измерял. И везде людей понапихано. Куда их еще девать? Здесь-то по крайней мере тепло.
Я подошел ко входу в темный лаз, поискал лучом света. Так и есть – лежат, как коконы в муравейнике, вдоль стен на полу, на нарах, кто-то даже на железной кровати.
Я погасил фонарик, повернулся к тоннелю спиной и выбрался на свежий воздух.
Сумасшедший незнамо куда делся, полевая кухня дымила как ни в чем не бывало, один солдат следил за ней, а второй вдруг замер, присел и уставился на меня перепуганными вороватыми глазами.
Я неторопливо вытянул из кобуры пистолет:
– У раненых крадешь, сука?
Солдат дернулся и выронил из-под ватника буханку.
Майор за моей спиной делал ему негодующие знаки. Мол, нельзя же быть таким бараном – попадаться при постороннем! Да еще при ком – при лейтенанте из Особого отдела армии!
– На часы и кольца у немцев хлеб меняете? – Я повернулся к Блинову.
Тот побагровел:
– Ты на что намекаешь? По-твоему, мы мародеры?
– А разве нет?
– Слушай, лейтенант, ну ты же человек – договоримся.
– Мне с тобой, сволочь, договариваться не о чем, – сказал я. – Как ты с пленными обращаешься?
– Как заслужили, так и обращаюсь, – сказал Блинов.
– Ты понимаешь, что здесь будут иностранные журналисты? Есть распоряжение – всюду их пускать и всё им, по их желанию, показывать.
Майор Блинов растянул пасть в ухмылке:
– Поверь мне, товарищ лейтенант, иностранцев сюда на пушечный выстрел не подпустят. А что указанье такое дали – ты ведь не маленький. Если объект закрытый, значит, он закрытый, и его просто не найдут.
– Это не означает, что с людьми можно так обращаться, – сказал я.
Блинов отозвался примирительным тоном:
– Так а что делать-то? Порядок здесь всё равно не навести. Фрицев нагнали в сотни раз больше, чем мы думали, что будет. Они ведь мерзли несколько месяцев, жрали что попало – ну и мрут теперь как мухи. Мне наш главный доктор объяснял. Мол, даже слово новое придумали: «Сердце Шестой армии». И это не такое сердце, которое, знаешь, «любовь» и прочая галантерея, а такое сердце, которое – идет человек себе с виду здоровый, лопатой землю ковыряет или еще что-нибудь полезное для хозяйства делает, и вдруг падает – и готово, не дышит. А это в нем сердце остановилось. Сердце у человека не может такую нагрузку выносить.
Он поднял палец, прислушался.
Я тоже навострил уши, ожидая, что сейчас раздастся крик, стон, какой-нибудь хрип – не знаю уж, что. Но услышал губную гармошку и хоровое пение.
– Видал? – с торжеством произнес майор. – Тоже люди… Поют. Душа у них просит. А ты говоришь – я их нарочно… Что я, не понимаю, что они тоже люди? Все я понимаю, лейтенант…
Он выглядел так, словно лично организовал тут выступление местной самодеятельности.
– Можешь слова разобрать, чего поют? – неожиданно попросил меня майор Блинов. – Может, они там Гитлера во вверенном мне госпитале воспевают, а я и не ведаю?
Я разобрал слова жалобной песни и сначала просто не поверил своим ушам:
Кайзер Вильгельм, кайзер Вильгельм, – выводил дрожащий тенорок под визг губной гармошки, —
Приди на Волгу поскорей,
Приди на Волгу поскорей
И забери несчастных сыновей,
Германии несчастных сыновей…
– Это песня с империалистической, – догадался я. – Просят кайзера Вильгельма прийти и забрать их домой с Волги. Плохо им на Волге, в Фатерлянд просятся.
– Вишь, черти, – повертел толстой шеей майор, – как дети малые – ничему-то не научились. А? – выкрикнул он в сторону поющих. – Какой вам кайзер? Капут ваш кайзер!
Он так раздухарился, что аж пар из ноздрей пошел. Я поймал себя на том, что любуюсь Блиновым. Про таких мой первый командир латыш Валдис говорил: «Цельнокройная натура».
– Кто еще в госпитале из начальства? – оборвал я победные крики Блинова.
– Так я ж комендант, а товарищ Шмиден – главный военный хирург, – сообщил Блинов. – Раньше тут размещался госпиталь мотопехотной дивизии, вот от них главврача мы и унаследовали. Толковый мужик, еврей из Москвы, до войны начальство резал – аппендициты всякие, ну ты понял. А комендантом – это меня приказом командующий Шестьдесят второй армии назначил.
– Помогает вашему хирургу кто? Другие врачи есть?
– Двое наших, а остальные – немцы, – ответил Блинов. – Мобилизовали пленных, кто посильней, санитарами. Из фрицев несколько докторов нашлось. Даже один ветеринар из Зальцбурга. Экземпляр!
– Позовите Шмидена, – приказал я.
Военврач в звании подполковника товарищ Шмиден явился через десять минут. За это время я успел глотнуть водки. Блинову не дал.
– Мне для внутренней дезинфекции надо, а с тобой, товарищ майор, из одной фляжки я пить не буду, – сказал я. – Вдруг ты заразный?
– А ты мне плесни вот сюда. – Он протянул кружку.
– Нет уж, – сказал я. – Ты у раненых воровал.
– Мародера расстреляю. – Блинов приложил ладонь к груди. – Клянусь, расстреляю паскуду.
Но я всё равно ему водки не дал.
Товарищ Шмиден был откровенно недоволен моим визитом. На нем красовался чудовищно грязный белый халат с большим кровавым пятном на животе. Он сунул руки в снег, отряхнул и, вытащив из-под халата рукавицы, натянул их. Изо рта у него шел пар.
Глаза у него выпуклые, желтоватые. В мирное время, наверное, они просто карие, но сейчас сделались желтые, как у волка. Нос с горбинкой, губы тонкие, подбородок острый, с выраженной ямкой.
Выбежал санитар – немец, быстро нахлобучил доктору ушанку на голову и шмыгнул обратно в помещение.
– Оперуполномоченный Особого отдела Шестьдесят четвертой армии лейтенант Морозов, – представился я.
Шмиден кивнул.
– Руки не подаю, у нас тиф, – предупредил он.
– Вы ведете списки раненых? – спросил я. – Прибытие, убытие?
– Приехали проверять смертность? Высокая. – Шмиден поджал темные сухие, как у ящера, губы. – Очень высокая. Так в отчете и напишите… Блинова-то в каком угодно живодерстве подозревать можете, но не меня. Уж поверьте. Я десять лет учился людей штопать. Чтобы легкие дышали, желудок переваривал пищу, руки-ноги действовали на благо социалистического строительства, а голова соображала. Если бы вы, молодой человек, отдавали себе отчет в том, какое чудо – человеческий организм, как в нем всё дивно устроено… Дайте закурить.
Я угостил его «Казбеком». Он жадно затянулся.
– Фабрика Орджоникидзе, – определил Шмиден, прикрывая глаза. Его как будто на миг отпустила давящая тяжесть. – Да, похоже, важная птица долетела до середины Днепра.
– Мы с вами находимся на берегу Волги, товарищ военврач, – напомнил я. – До Днепра еще далеко.
Шмиден махнул рукой:
– Ладно, давайте – вываливайте честно, зачем вам понадобились списки. Подрыв народного хозяйства путем сознательного уничтожения военнопленных шьете? Не выйдет. Хотите посмотреть нашу камеру дезинфекции? Даю честное слово – ничего подобного вы в жизни не видели. И, даст бог, не увидите.
– Не хочу я вашу камеру дезинфекции, – сказал я. – И ничего я вам не шью, я не портной. Я разыскиваю одного человека.
– Только одного? – иронически переспросил Шмиден. – Я мог бы предоставить вам несколько сотен. Совершенно бесплатно. Можете их хоть в суп покрошить.
– Мне, конечно, трудно вообразить, товарищ Шмиден, что у вас имеется мать, – сказал я. – Но предположим, вы произошли от женщины, как и все нормальные люди. Так вот, признайтесь честно: удовлетворится ваша мать несколькими сотнями каких-то чужих, гадящих под себя немцев, если ей нужен один-единственный маленький Шмиден?
После долгой паузы доктор сказал мне:
– А вы экземпляр.
– Мне нужны списки. Точка, – уперся я.
– Списков нет, – ответил Шмиден. – Не успеваем.
– Даже частично?
– «Частично» – это вы три часа будете разбирать немецкие каракули, которые всё равно наполовину устарели.
– Значит, без толку… – Я вздохнул.
– Кого конкретно вы ищете? – чуть мягче спросил меня Шмиден. – Может, я его помню. Я тут многих по кусочкам собирал.
– Капитан Эрнст Шпеер, – назвал я. И вынул из кармана газетную вырезку.
Там была фотография нового канцлера Германии.
Доктор всмотрелся в ухоженное, интеллигентное лицо Альберта Шпеера, потом вернул мне вырезку:
– Кажется, это новый глава немецкого правительства. Который вместо Гитлера.
– Именно.
– Какое он имеет отношение?.. – Доктор вдруг поперхнулся дымом. – Родственник, что ли?..
– Родной брат. Младший. По идее, должен внешне быть похож. Хотя похудел, конечно, и кожа потемнела. А если нос отморозил и потерял где-нибудь в степях – так и вовсе неузнаваем. Но попытка не пытка.
– Понятно, понятно. – Шмиден что-то соображал, вспоминал.
– Понимаете, товарищ Шмиден, приезжает его мать, – объяснил я. – Вместе с толпой иностранных журналистов.
Шмиден уставился на меня. Его желтые глаза вспыхнули:
– Вам что, поручено сопровождать ее? О, повр анфан! Вы побывали внутри? – Он показал на госпиталь. – Вы понимаете, что мать нельзя сюда пускать ни в коем случае?
– Найдите мне Эрнста. И подберите еще трех-четырех фрицев. То есть, надобность в трех-четырех фрицах автоматически отпадет, если мы Эрнста не отыщем. Но если он здесь…
– Да, мне кажется, я помню его, – проговорил Шмиден медленно, раздумчиво.
У меня от его похоронного тона в животе всё рухнуло.
– Что, помер?
– Перенес тяжелейший тиф, – сообщил Шмиден. – Вчера, по-моему, был еще жив. Он уже не первой молодости. Если бы товарищи о нем не заботились, его точно вынесли бы ногами вперед… Но как вы их куда-то повезете? – Шмиден снова нахмурился. Он поежился, энергично потер себя по плечам. – Они практически нетранспортабельны. Потеряете по дороге. Не знаю, могу ли я вам разрешить…
– Не можете не разрешить, – возразил я.
Он поднял брови:
– Вот как, молодой человек?
– Я уполномочен действовать по обстановке, как сочту нужным, – сообщил я. – Кроме того, вы не переживайте так за них – я сюда приехал на «виллисе».
– И сколько человек вы намерены впихнуть в «виллис»?
– Сколько надо, столько и впихну, – парировал я. – Давайте их сюда. Кстати, про мамашу Шпеер никому ни слова. Это только между нами.
– Десять ящиков тушенки, – сказал врач. Он засунул руки в карманы, поднял плечи и уставился на меня вызывающе.
– Тащите сюда фрицев, черт вас побери! – заорал я.
Он засмеялся и нырнул в темный проем госпитального входа.
* * *
Ждать пришлось довольно долго. Фрицев оказалось четверо. Двое, поздоровее, волокли старика с лицом зеленоватого цвета, четвертый плелся сзади.
Этот четвертый был похож на обиженного рождественского гнома с немецкой открытки. Как будто выскочил из трубы – а никакого Рождества и в помине нет. Ни тебе кексов, ни пухлых фройляйн и мальчиков в коротких штанишках.
Вслед за немцами явился Шмиден.
Я все-таки пожал ему руку:
– Благодарю за сотрудничество.
– Тушенка – и мы в расчете, – сказал он упрямо. – До свиданья, товарищ лейтенант.
Немцы уставились на меня обреченно. Кажется, они были уверены, что их вывели на расстрел.
Я показал им на склон балки:
– Туда.
Они послушно полезли. Я не торопил. Старика они тащили волоком, сами передвигались больше на четвереньках, чем с помощью прямохождения, которое, собственно, и превратило обезьяну в человека.
Наконец мы добрались до «виллиса».
Гортензий аж подскочил:
– Товарищ лейтенант, вы это что?..
Я весело помахал ему:
– Нашел!
Немцы сбились в кучу. Того, что был похож на гнома, трясла крупная дрожь.
«Черт побери, – подумал я, – а Шмиден – тот еще жук. Всучил мне четырех непонятных фрицев. С чего я вообще ему поверил, что это те самые? Даже документы не посмотрел».
Если выяснится, что Шмиден подсунул мне черт знает что, а не искомое, не поздно вернуться и организовать доктору чувствительные неприятности.
Я заговорил по-немецки.
Фрицы вздрогнули, услышав родную речь.
– У вас имеются при себе документы? – спросил я.
Они переглянулись и закивали. «Рождественский гном» забрался к старику в карман и вытащил мятый клочок бумаги. Протянул мне.
Я с трудом разобрал несколько слов на вытертом добела клочке бумаги. Вроде не соврал Шмиден, один из них и впрямь капитан Шпеер.
Я вынул фотографию Альберта Шпеера и протянул старику. Тот нерешительно взял, но пальцы у него оказались настолько слабыми, что он выронил газетную вырезку на снег.
Стоял и смотрел на нее сверху вниз. У него тряслась голова.
– Капитан Эрнст Шпеер? – уточнил я еще раз, возвращая ему документ. – Это ваш брат на снимке?
Он молча кивнул.
– Кто остальные?
– Члены моего экипажа, – тихо сказал Шпеер. – Леер, Кролль… – Он перевел взгляд на «рождественского гнома».
Тот стал белее снега. Казалось, глаза, брови, губы сейчас осыплются с этой мертвой кожи, как вши, сбегающие с трупа.
– …и Шульц.
Следует отдать должное Шпееру – врал он все-таки получше многих. Если бы он не был так ослаблен болезнью, то, не исключаю, сумел бы убедить меня в том, что фамилия его бледного товарища действительно Шульц.
– А если без брехни? – осведомился я.
В немецком языке имеется много очень прекрасных слов для того, чтобы как следует оскорбить человека, задев его самые личные чувства.
Шпеер молчал, только покачивался, как былинка на ветру. Ветер, кстати, усиливался – близился вечер.
– Послушайте, капитан Шпеер, если вы не скажете мне правду, я просто пристрелю этого парня, – я тронул пистолет. – Мне ведь всё равно. Мое задание – найти капитана Эрнста Шпеера. А его, – я кивнул на «Шульца», – я могу заменить кем угодно.
– Разве вы не всех нас собираетесь?.. – пробурчал рыжий Кролль.
– Настаиваешь? – осведомился я.
Кролль замолчал и прижался к Шпееру, как побитый щенок.
Да. Здесь капитан не соврал – Кролль точно из его экипажа.