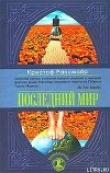Текст книги "Последний воин. Книга надежды"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
– Мне много денег не нужно.
– Тебе сколько лет, Данилыч?
– Сорок шесть.
– А мне – пятьдесят. Вспомнить не о чём на краю могилы.
– Зря себя не растравляй, Степан Степаныч. – Пашуте нравились разговоры с подтекстом и нравилось, что собеседник един в двух лицах: здесь, на полянке, – шебутной, безрассудный и глупый, а там, в Москве, – степенный и осмотрительный. – У всех жизнь серая, не у тебя одного. Наполеонов среди нас нету. Стран чужих не завоёвывали, дак и то слава богу.
– Я не про то, Павел. – Инженер перемещался на одеяльце так, чтобы всё же не упускать из виду приглянувшихся девиц. – Ты меня не совсем понял. Не победы хочу вспоминать, а наслаждения. Такие наслаждения, чтобы годы спустя голова кружилась. У меня их не было. Да и откуда. С шестнадцати годов воз волоку без отдыха. Обижаться сильно не приходится, дорога накатанная, торная, ты прав: много нас по ней бредёт, придурков; но сходить с неё ни разу не довелось – вот о чём ныне тоскую. И завидую тем, кому удавалось. Может, они и ноги ломали на обочинах, зато у них воспоминания иные. Их по глазам всегда можно отличить. Да что я перед тобой, Павел, распинаюсь, ты овечкой прикидываешься, а я ведь вижу – дровишек в прошлом немало наломал. Чего уж там, да?
– Ошибаешься, Степаныч, не наломал. Хотел один разок наломать, да вовремя пригнулся. А то бы башку оторвало.
– Не верю тебе! Хоть убей, не верю. Очень ты скрытный человек, Павел. Это нехорошо… От меня чего скрываться…
Когда встречались возле дома, выкуривали по сигаретке перед сном – разговоры были совершенно иного свойства. Поразительно, до чего иного.
– Чёрт те что, Павел Данилыч, какой нескладный денёк выдался, – жаловался Степан Степаныч, лучась младенчески невинным взглядом. – На работе ревизия из министерства, очередной переаттестацией пугают. А чего меня переаттестовывать, когда до пенсии два шага? Верно? И ведь придираются к каждой мелочи, бумажные черви. Целый день на ушах простоял. Потом в школу пошёл на собрание. А там того хуже. У Ёлочки (младшая его дочка) две тройки и замечание в дневнике. Скрыла, вертихвостка. Ну что её – пороть? Говорят, непедагогично. И что обидно: способная девочка, ты же её знаешь. Но невнимательная, безалаберная. Я уж думаю взять отпуск да сидеть с ней. Всё-таки восьмой класс, не шутка. Сейчас упустишь, после не наверстаешь. Вот так и получается. Третий год отпуск зимой беру, и когда по-людски отдыхал – не помню. Тебе хорошо, у тебя семеро не сидят по лавкам… Но честно скажу – не завидую. Какие радости в жизни, кроме детей? Мне бы волю дай, я бы ещё семь штук настрогал. Тебе советую, Павел, пока молодой – не затягивай. Для мужика – семья главное.
– Дак у меня пока и жены нет.
– И это напрасно валандаешься. Столько хороших женщин вокруг, и все одинокие. Хочешь, поспособствую? У нас есть одна на работе, по всем статьям тебе пара. Красивая, нрав спокойный, зарабатывает чистыми триста в месяц. Маленько сутулится при ходьбе, но это после родов пройдёт. Да и что внешность, верно? С лица воду не пить. Давай, завтра познакомлю?
– Завтра не выйдет, Степаныч. Завтра наши с французами играют. Матч хоть и товарищеский, но важный. Нельзя пропустить.
– Пропустить нельзя, ты прав, совместить можно. Она вроде тоже не чурается большого спорта. Подкованная девица. С ней скучать не придётся. Она и на пианино играет.
– У меня пианино нету.
– Купите. С её трёхсот много чего можно купить, бедствовать не придётся… А ты, если не секрет, сколько получаешь?
– Да тоже, пожалуй, на круг столько и выходит.
– Это хорошо. Когда женщина больше мужика получает, так или иначе это на отношениях сказывается. Уважение уже к мужчине не то.
Женщину он ему вскоре привёл отменную – Катерину Демидовну Прохоровикову. В субботу Пашута после завтрака подрёмывал на кровати с газеткой, на дверной звонок пошёл как был, в затрапезном халате, гадая, кто бы мог заявиться в такую рань. А тут – на тебе! Степан Степаныч и с ним дама – разнаряженная, в ярком платье, на высоких каблуках, но и без каблуков, пожалуй, на голову повыше Пашуты. Он не удивился нежданным гостям, но почувствовал неловкость за свой растелешенный вид и сразу подумал: видно, крепко у дамочки припёрло, раз способна вот так нагрянуть для знакомства. Степан Степанович поспешил объясниться:
– Мы тебе, Павел Данилович, звонили по телефону, да ты трубку не брал. Катерина Демидовна любезно пообещала Ёлочку по языку подтянуть. Она по-английски говорит, как мы с тобой по-русски.
– Ну уж! – басом возразила женщина. Пашуту она разглядывала откровенно и без стеснения, словно в магазин заглянула за покупкой. Что ей, интересно, наплёл про него двуличный инженер, от него ведь любой каверзы можно ждать. Он себе тайное веселье добывал, где только мог.
Пашута усадил их в комнате, а сам, похватав шмотки, на кухне переоделся и на скорую руку поскрёб подбородок электробритвой.
Степан Степанович таял в лукавой улыбке. Пашуте он тут же изложил причину внезапного визита. Оказывается, у Катерины Демидовны есть небольшая дачка, вернее, садовый участок с финским домиком, и на этой дачке образовалось множество неполадок: с электропроводкой и с водяным насосом, и всё такое прочее. Она давно ищет надёжного человека, чтобы тот привёл всё это в порядок, и, естественно, Степан Степанович порекомендовал своего друга, прекрасного мастера, который при этом и не сдерёт втридорога.
– А что именно с насосом, Катерина Демидовна? – поинтересовался Пашута, не веря ни одному слову расшалившегося инженера.
– Ой, да разве я в этом смыслю! То течёт вода, то не течёт. Приходил один деятель, полдня прокопался, взял с меня четвертной, а назавтра то же самое. Намучилась я, ей-богу!
Пашута любил такие женские лица, округлые, с мелкими чертами и бедовыми, широко посаженными, небольшими глазками, словно вечно напуганными, но не до смерти. И её громоздкая, с литыми бёдрами, плечами, грудью, фигура отнюдь его не оттолкнула.
– Поглядеть бы надо, а так чего говорить… Может, там работы на пять минут. – Пашута изображал угрюмого мастерового, который слова на ветер не привык бросать. Как теперь гости выкрутятся?
– И погляди, кто тебе не даёт. – Степан Степаныч гулко шмякнул себя по ляжке. – Тут езды на электричке полчаса с Курского вокзала. Верно я говорю, Катерина Демидовна?
– Возможно, у Павла Даниловича на сегодня иные планы… – Женщина смотрела с ласковым ожиданием и покорно.
– Какие у него планы! Бирюком сидит все выходные у телевизора, – обернулся к Пашуте, а в глазах-сливах черти резвятся. – Давай серьёзно, Павел. Это моя личная просьба. Надо помочь! Катерина Демидовна нам помогает, мы – ей. Что ж ты, не джентльмен, что ли?
– Я-то джентльмен, но как-то неожиданно…
Через час Пашута и Катерина Демидовна мчались сквозь ненастное предосеннее Подмосковье на обшарпанной электричке. Пашута ящичек с инструментами прихватил на всякий случай. Сказано было между ними за дорогу всего несколько слов, но в её заворожённом взгляде он читал обещание, что всё будет так, как он пожелает. Правда, желаний у него особых не было, и Пашута, в общем, поругивал себя за этот внезапный прыжок в неизвестность. Как-то всё складывалось словно помимо его воли и с безнадёжной определённостью, а такие ситуации он не одобрял. И тут вдруг Катерина Демидовна изрекла с поразившей его проницательностью:
– Вы не беспокойтесь, Павел Данилович, не морочьте себя. Степан Степанович замечательный человек, у нас его все любят, но ужасный фантазёр. Он вам такое мог нагородить – я представляю. Но мне действительно нужна мужская помощь.
Пашута промолчал, но с этой минуты неприятная натянутость между ними растаяла.
Участок был стандартный – шестисотковый, и рядом ещё множество таких же, где копошились люди, точно пчёлы в ячейках сот. Жгли костры, над дачным пространством стелился горьковато-свежий дым.
Поместье Катерины Демидовны, огороженное от соседей метровым штакетником, было вовсе не ухожено, если не считать пятка клубничных грядок да с десяток смородиновых кустиков по краям. Всё в запустении, растёт само по себе, земля захламлена прелым листом и мусором, как свалка. Хозяином тут и не пахло. Но домик аккуратный, на три комнатки, с небольшой мансардой и остеклённой верандой. И не так чтобы старый. Кто-то поднял его пять-шесть лет назад, не более. Интересно – кто?
Проводку Пашута наладил в два счёта: поставил нормальные предохранители, почистил и укрепил контакты. А с насосом пришлось повозиться. Катерина Демидовна несколько раз звала его обедать, накрыла столик под единственной яблонькой, а он всё колготился с прокладками и стыками – дьявольской конструкции оказался насос, не иначе творение местного гения-изобретателя. Всё в нём было устроено вопреки здравому смыслу, зато запас прочности у насоса должен был быть огромный. Если такой насос раз запустить, он и после атомного взрыва уцелеет. И Пашута ухитрился, запустил, испытав привычное удовлетворение от опрятно сделанной работы.
Катерина Демидовна прыгала вокруг, как девочка, хлопала от радости в ладоши, уверяла, что никогда подлый агрегат не давал такой плотной, сильной струи.
Угостила она Пашуту борщом с тушёным мясом, овощей гору на стол навалила, необыкновенно ярких и сочных, и также приветила работника заветной четвертушкой.
– Ну, только если с вами за компанию, уважаемая Катерина Демидовна!
– А что, можно рюмочку. Я не прочь иногда. А вы как к спиртному относитесь?
– Люблю, но избегаю, – уклончиво ответил Пашута. Он её уже жалел. В её напускной весёлости, в неухоженности участка и ещё во многих приметах явственно проглядывала тоска, подчёркнутая покровительственными манерами знающей себе цену женщины. Сколько он повидал таких за свою жизнь, образованных и простушек, красивых и невзрачных, отчаянных и смирных, заранее всему покорных, – и во всех выпирало одно, общее, как крик, – готовность пойти на край света за тем, кто приголубит, кто позовёт ласковым словом. С ними всегда Пашута себя чувствовал и спасителем, и предателем одновременно. Всех не утешишь, а одну – труда не стоит.
– Был у меня муж, – вскоре доверчиво делилась с ним Катерина Демидовна. – Хорошо жили, славно, да эта самая водочка его и слопала. Он тихий у меня был, а тихих она исподтишка доканывает. У буйного хмель на виду, его спасти легче, а тихий сосёт потихоньку, как молочко, и только ещё тише становится. Мы долго значения не придавали, а спохватились – поздно было.
– Помер?
– Да, умер. Хорошо умер, тоже тихо, сопел, сопел у меня под боком, и вдруг перестал. Сердце остановилось – и конец. После вскрытия сказали – у него даже инфаркта не было. Не старый был, ваших лет.
Пашута выразил сочувствие, печально покивав головой. Она вроде не очень сокрушалась, вспомнив тихого мужа, видно, отболело.
– Правильно делаете, что не увлекаетесь. Это для России такая зараза – она нам страшнее атомной бомбы. Теперь взялись бороться, да не поздновато ли? У большинства, кто борется, у самих нутро давно подточено. Остаётся только на женщин уповать.
– По статистике, теперь и женщины не отстают.
– Вот беда, Павел Данилович! Соплюшка какая-нибудь стоит, вся измалеванная – и пьяная! И это будущая мать. Когда вижу, кажется, убила бы. А что толку? Столетиями спаивали, наскоком не поправишь. Время нужно, а где оно. Того гляди, война разразится.
– Войны не будет, – успокоил её Пашута.
– Почему вы так думаете?
– Войны не будет, потому что в неё поверить нельзя. Того не бывает, во что не верят.
Катерина Демидовна смотрела на него с сомнением, в её заторможенном взгляде колебались солнечные блики.
– Забавно рассуждаете, Павел Данилович. Но мне нравится. Всё равно нельзя же сидеть сложа руки.
– Это верно. – Пашута, правда, не понял, что она имеет в виду: повальное пьянство ли, угрозу войны или их столь милое знакомство.
Славный они денёк провели, трудовой, отдохновенный. Ближе к вечеру в лес сходили, и там Катерина Демидовна отличилась, подобрала три белых гриба, а Пашута всего несколько сыроежек раздобыл, да и то червивых.
На ночь глядя при свете тусклой лампочки чаю напились, покурили на воздухе и, как-то не сговариваясь, будто давние муж с женой, стали готовиться ко сну. В эту ночь Пашута словно на мягких облаках парил, спал урывками, но чувствовал себя старым, как пенёк трухлявый, возле которого они, счастливые, срезали белый гриб; и никак не мог толком разобраться среди томительной тьмы, где Катины услужливые ласки, а где сны вековые, манящие к иным встречам. И впервые, запутавшись в её влажных, душистых волосах, окликнул Пашута женщину чужим именем, Варенькой окликнул, и она не обиделась, всё поняла, лишь отстранилась ненадолго, и оба загрустили, пытаясь разобрать на бледном потолке роковые письмена судьбы. Так и получилось, что, поднявшись утром, они по-прежнему остались друг с другом на «вы». Печально это было и смешно.
– Вы что предпочитаете, Павел Данилович, чай или кофе? – спросила она буднично и будто с досадой, что такую важную подробность запамятовала.
– А как вы по фамилии будете?
– Прохоровикова.
– Так вот, товарищ Прохоровикова, мне всё равно, что пить. Мужик я покладистый. Так уж воспитан.
Оба посмеялись, но весело им не было.
Вечером в воскресенье к Пашуте заглянул Степан Степанович за новостями.
– Ну как, Павел? Да?! Какова?
– Божественная женщина, но мне не пара. Ей по уму министерский работник надобен. Побаиваюсь я её.
– Чего так?
– Мужа она уморила.
– Как то есть?
– Я думал, ты в курсе. Она же не скрывает. Был у неё какой-то, как она говорит, мужичок с ноготок, тихонький такой. А она женщина, сам видишь, с объёмными прелестями. Пьяненького невзначай и придавила в постели.
Увидел Пашута расстроенное лицо инженера, опомнился: они не на лесной полянке, и этот домашний Степан Степаныч далёк от понимания диких казусов жизни.
– Да нет, нет, всё отлично, Степан Степанович… Спасибо тебе за это знакомство.
– Какой-то ты бываешь несерьёзный, Паша. И шутки у тебя, прямо скажем… Прохоровикова у нас в коллективе огромным уважением пользуется. Действительно, умна, хороша собой, но несчастлива. А ты – «мужа уморила»! Ну зачем это? С такой женщиной, как Прохоровикова, надо или – или.
– И дачка у неё первый сорт, – заметил Пашута неизвестно зачем.
– Да, если угодно, и дачка. Она заслужила. Лет десять назад у нас участки делили, многим не хватило. А ей выделили без всяких разговоров.
– Ты меня в чём убедить хочешь, Степан Степаныч?
– Не нравится мне твоё настроение. – Выражение лица у инженера суровое, осуждающее. – Будто я тебе девицу для развлечения подсунул. Если ты так воспринял, я, честное слово, очень огорчён.
– Не огорчайся, Степаныч. Я её ничем не обижу. Неужто ты меня не знаешь?
Дальше отношения Пашуты с Катериной Демидовной складывались на удивление ровно, и он в них незаметно погружался, как в трясину. Вроде по щиколотку увяз, а ворохнулся, уже по колено засосало. До глубокой осени они встречались два-три раза в неделю, в кино ходили, в ресторан, она у него на ночь иногда оставалась, и он наведывался то ли гостем, то ли хозяином в её однокомнатную квартирку на Юго-Западе, но объяснений между ними никаких не было, и по-прежнему они обращались друг к другу уважительно – «вы».
Кот Пишка поначалу Катерину Демидовну невзлюбил, да и она брезгливо морщилась, когда он, пофыркивая, с вызывающим видом прохаживался подле её ног. Она призналась Пашуте, что вообще не выносит ни собак, ни кошек – грязь от них. и вонь. Она была чистюлей необыкновенной, а от одинокого житья это свойство обострилось в ней до предела. Заметив где-нибудь ошмёток пыли, с досадливым: «Ах ты, боже мой!» – срывалась из-за стола наводить порядок. Кошачьи шерстинки на диване или на полу приводили её в столь глубокое, хоть и кратковременное душевное расстройство, в какое иного легкомысленного человека не приводит крушение всех жизненных планов. Женские причуды давно Пашуту не раздражали, тем более Катерина Демидовна сама себя иронически поругивала за чрезмерное пристрастие к порядку. Она как бы извинялась перед Пашутой за свою чистоплотность, и это его умиляло. Однако родного кота Пишку он в обиду не давал.
– Я тоже котов не выношу, – говорил он, чтобы ей польстить. – Поганые твари, и человека не любят. Всех бы разом на живодёрню. Но Пишка особенный, у него душа деликатная. Поглядите, Катерина Демидовна, какая шёрстка мягкая, какие глазки смышлёные. У, злодей рыжий, нет на тебя погибели!..
– Но он же вчера в коридоре нагадил.
– Это у него несварение, – озабоченно уточнял Пашута. – Нажрался прокисшей сметаны. Зря вы ему эту сметану поставили, Катерина Демидовна. Надо было её выкинуть или мне скормить. У меня кишки из железа. А Пишка по возрасту ребёнок совсем.
– Забавно вас слушать, Павел Данилович, – улыбалась ему чуть смущённо. – Никогда не смогу разобраться в мужчинах.
– Чего в них разбираться? Бог их топором вырубил. Женщина – вот высшее достижение природы! В иной, поглядишь – в чём душа держится, а любую боль стерпит получше здоровенного мужика. Загадка в женщинах вековая.
– А уж вы, видно, нашим братом интересуетесь немало, Павел Данилович?
– Интересовался когда-то. Теперь поостыл. Теперь бы от стола до кровати доползти.
Каково же было его удивление, когда он однажды застал Катерину Демидовну с Пишкой на коленях, зычно мурлыкающим и с охотой подставляющим рыжую башку под её массивные пальцы. На Пашуту она подняла предостерегающий взгляд, шепнула: «Тсс!» В этой искусственной сцене он угадал дурной знак» Пора было к какому-то концу подгонять их нежную, затянувшуюся дружбу. Прав был Степан Степанович, она умна и несчастна, и хороша собой. Но для его однокомнатной квартирки слишком громоздка. Даже если они поменяют два своих жилища на трёхкомнатную квартиру, ей и там будет тесновато. В сущности, Пашуте было безразлично, с кем дальше коротать век, но бессовестно вводить её в заблужение. Пару следует подбирать по размеру. А на них на улице оглядываются и каждый думает: «Ну, мужик, ну, ухарь, отхватил себе кобылицу!» Это Пашуту раздражало. Квёлая у них любовь, вот что, отмеренная на весах позднего возраста. А по характеру, что ж, по характеру она вполне ему годится. Тот уж вовсе чурбан, кто не сумеет оценить, что это значит, когда женщина в угоду мужчине с умильными ужимками ласкает кота, ненавистного распространителя шерсти и вони.
С неделю Пашута откладывал решающий разговор, не находя повода. Но уже впереди забрезжил Новый год, с которым Катерина Демидовна, по её прозрачным намёкам, связывала большие надежды, и Пашута понял, что дальше тянуть неприлично. Он не стал ходить вокруг да около, а бухнул наотмашь, как это было ему свойственно в лучшие времена:
– Что-то мы с вами, Катерина Демидовна, чудно живём. Не муж, не жена, а оба уже не первой молодости. Не пора ли нам разойтись в разные стороны, как кораблям в океане?
Катерина Демидовна побледнела, и чай из её чашки вдруг сам собой плеснулся на скатерть (они с недавних пор иначе чем на нарядной скатерти не трапезничали). Он и сам почувствовал, что выразился фальшиво и в некотором роде оскорбительно для её женского самолюбия. Вечный испуг в её очах набряк свинцовой тенью:
– Что случилось, Паша? Ты выпил?
– Трезвый я.
– Я в чем-нибудь провинилась? Виновата перед тобой? Я тебе надоела?
Каждый вопрос она вколачивала, как гвоздь в доску, без дрожи, уверенно. Только хрипотца в голосе выдавала волнение. Пашута потому и заговорил с ней так прямо, без затей, что не сомневался в её стойкости.
– Тут такое дело, Катя, мы с тобой вожжаемся, а жизнь мимо идёт. Перспектив у нас нету. Мне моя жизнь, правда, без надобности, хочешь – бери, но ты-то молодая почти, красивая, образованная, ты и судьбу свою можешь соответственно уладить. На кой чёрт тебе время со мной терять?
– Ты это искренне?
– А как ещё? Я тебе благодарен, за нос меня не водила, счастьем женским дарила. Пора и честь знать. Отпускаю тебя на все четыре стороны. Большому кораблю большое плавание.
– Ничего ты не понял, Пашенька… – печально вздохнула она.
– Чего я должен понять?
– Я думала, ты в женщинах разбираешься… Ну чего ты вдруг напридумывал? Разве я тебе не угождаю? Баба я обыкновенная, ничего мне от тебя не нужно, Не гони только… Пропаду я без тебя, Пашенька, Никому таких слов не говорила, тебе первому… Любый мой! Дурашливый мой! Всю жизнь их в себе носили, дал бог вымолвить… Не гони, Пашенька!
Поражённый, он аж в стенку вдавился. Видок у неё был, как у тучки грозовой. Казалось, сейчас ринется на него, смахнёт со стула своими грудями, плечами, коленками, а там – тьма без края и роковые колокола. Пишка мяукнул под столом, будто тоже почуял неладное. Пашута наблюдал за подругой как бы со стороны. Всё же устроила представление, вдобавок некстати, Через пять минут передача «В мире животных», как бы не прозевать. Он эту передачу из многих других выделял.
– Дак я что, – пробормотал, извиняясь. – Я это так, для уточнения.
– Для уточнения и у меня кое-что есть, Пашенька, – в сторону взгляд отвела. – Хочешь узнать?
– Конечно, говори.
– На третьем месяце я, Пашенька. Ребёночка жду.
– От кого?
Катерина Демидовна сдавленно хмыкнула, как об ступеньку споткнулась, а он в ответ хохотнул. Новость доходила до него туго.
– Подожди… Но тебе сколько лет?
– Сорок, Паша. А ты сколько думал?
– Но ведь вроде поздновато? Или нет?
Катерина Демидовна нахмурилась, как от пыли сощурилась. И тут, наконец, известие целиком уместилось в Пашутином сознании.
– Это меняет дело, – сказал он убеждённо, – Как я здесь выпендривался, забудь. Какое там поздно! Мне одна знакомая говорила, на востоке женщины в семьдесят лет запросто рожают. А в сорок – считается рановато…
– Успокойтесь, Павел Данилович, – посочувствовала Катерина Демидовна. – Ни ребёнок, ни я вам обузой не будем… Не надо над этим шутить, Я думаю… если женщина не рожала, то зачем жила? Всё ведь очень просто. Я теперь счастлива, Паша. У меня в душе покой. Ничего не боюсь. Как будет, так и будет.
– Ну и правильно. И нечего бояться. Родишь – и не заметишь. Ты вон какая…
Вскоре без предупреждения нагрянул в Москву Спирин. Пашута другу обрадовался, хотя Спирин изменился не в лучшую сторону. Прежде худой, теперь он стал похож на кочергу. В продолговатом лице ни кровинки, словно жизненные соки выпила из него тяжёлая болезнь, взгляд потухший и движения неприятно замедленные.
– Не молодеем, Паша, нет? – по-стариковски крякнул, усаживаясь в кресле.
– У тебя, Сеня, может, язва в желудке? Чего-то ты квёлый с виду.
– A-а! Какая разница, язва там или ещё что.
В Москву он прикатил за какими-то семенами, а заодно присмотреть инвентарь на сельскохозяйственной выставке.
– Значит, процветает коммуна? – бодро поинтересовался Пашута.
Взгляд Спирина на мгновение зажёгся прежним фантастическим блеском.
– Издеваешься? От деда Тихона тебе поклон да от старушенций – вот и вся коммуна. Эх, Паша! Пожалеешь когда-нибудь, попомни мои слова. Накормить страну – мечта красивая, крупная. Тем более сейчас возможности появились.
Были у Спирина и забавные новости. Пётр Петрович Хабило неожиданно и странно окончил свою карьеру. По осени полез с землемерами в воду, видно, по пьяной лавочке, – чего уж ему в студёной реке, которую он, кстати, в первую очередь собирался вспять поворачивать, чего уж ему там понадобилось, то ли раков искали на закуску, то ли брод мерили, – но промочил ноги, застудился, обернулось воспалением лёгких; а когда оклемался и пошёл больничный закрывать, по какому-то недоразумению ему пять дней не оплатили. Он в арбитраж ринулся, в суд, несколько месяцев правду-матку искал, и так испсиховался, ни о чём больше думать не мог. Впал в оголтелое разоблачительство, грозил кому ни попадя, объявил публично, что обнаружил мафию, которая стоит поперёк дороги техническому прогрессу, ходил по инстанциям, шумел, колготился, в горячке припечатал лихим словом кого-то из облечённых властью – короче, по-тихому отправили его на пенсию, хотя ему едва за пятьдесят отстукало. Хабило собирается тоже в Москву, он намерен добраться до самых верхов, где якобы справедливость обретается в нетленном, чистом виде.
Подивились друзья затейливым росчеркам судьбы, которая умеет неожиданно укорачивать самых прытких.
– Урсула как поживает?
– Чего ей поделается. – Спирин в задумчивости провёл по глазам ладонью. – Эх, Паша, а жизнь-то не удалась наша.
– Почему, Сеня?
– Вот и я всё гадаю – почему и как? То ли мы не в своё время родились, то ли не с того бока жить начали… А только чего ни задумывали, всё глупо выходило. А ты, я вижу, вроде доволен?
Пашута приосанился.
– Дак а чего же, Сеня, о чём горевать? Как сумели, так и прожили. Не воровали, работали честно… Доволен ли я? Пожалуй, да. К тому же большие изменения у меня в жизни наклюнулись, Сеня. Ребёночек скоро родится. Новые хлопоты, новые радости. Нам себя хоронить рано.
– Разыскал всё-таки Варю, – без воодушевления порадовался за друга Спирин. – Слава богу. А то я всё спросить не решался. Значит, поздравить можно? А где же она сама?
– Вари нету, – ухмыльнулся Пашута, – а ребёночек от другой женщины. От хорошей женщины, Сеня. Она завтра придёт. Завтра я вас познакомлю. Такая женщина – богатырь! Ей родить, что нам с тобой сигарету выкурить.
Вид неуместно развеселившегося друга привёл Спирина в замешательство.
– Ты чего городишь, Паша? Какая женщина? Ты же Варю любишь.
– Когда это было, Сеня, когда было? Любил, точно. И сейчас люблю, отрицать нечего. Но как образ дальний. А здесь всё земное, настоящее, без обману. На две головы выше меня, шесть пудов весу. При этом ангельский характер и терпение. Повезло мне, Сеня, неимоверно. А ты говоришь, зря прожили. Погоди ещё бабки подбивать.
– Ты заговариваешься, Павел. Что с тобой? Ты болен?
Блаженная Пашутина улыбка замутилась, померкла, под ней проявились унылые, горькие черты. Пашута словно выплыл из счастливого беспамятства. Подхватился, побежал на кухню, но ничего оттуда не принёс. Заговорил спокойно, Спирина сверля взглядом, под которым тому занедужилось.
– Напрасно ты о Вареньке напомнил, напрасно. Я только-только забывать начал. А это нелегко. Сердечную боль убить, как душу вынуть… Она меня прогнала, не я её. Волю хотела надо мной взять, а я не стерпел. Ты прав: не удалась жизнь, не заладилась. Было и хорошее, да давно потухло. И ворошить не стоит. Наше горе никто не развеет. Я тебе скажу, в чём оно, наше горе, и ты сразу забудь, как я забыл… Маленькие мы людишки, Сеня, маленькие, а замахивались на большое. Вот и иссякли до поры. В любви замахивались и в работе. А вышел – пшик. Посмеялись над нами. Ты понял, про что я говорю, Семён Спирин?
– Ты не маленький, и я не маленький, – возразил неусмиренный Спирин. – Правильно, что замахивались. Не достигли цели – это другое дело. Не по нашей одной вине.
– По дядиной? – Пашута внезапно озлобился и загудел трубой: – По маминой? Не ври, Спирин. Где твой ум? К чему ты стремился? Какому подлецу хребет сломал?.. Сколь лихих людей вокруг нас ловчили, по-подлому нашу жизнь переиначивали, а мы лишь брыкались иной раз, да и то некрепко. Бились мы, как слепые котята, харей всё в одну и ту же стену. Даже дырки в ней не пробили! Гляди, седые оба, а на том же пятачке пляшем, те же жалкие слова говорим – стыдно… Не трожь меня больше, Сеня! Я сына хочу, пусть он крепче меня на ногах стоять будет.
У Спирина нашлись бы веские аргументы в этом споре, но уж больно Пашута нервничал: желваки со скул того гляди соскочут. Спирин попытался его утихомирить, улыбнулся своей младенческой улыбкой.
– Остынь, Паша, остынь! Не греши на себя… Ужином-то будешь кормить, всё же с дороги я?.. Бутылец там у меня в корзинке, пироги Урсулины. Для тебя пекла.
Ночью, под Семёновы всхрапы, приснилась Пашуте Варенька, как никогда не снилась. Ласковый был сон. В нём не было ни лиц, ни очертаний, но был он полон её дыханием. Не желая просыпаться, чтобы не расстаться с Варенькой, Пашута и во сне понимал, что рядом пронеслись их жизни, но не соприкоснулись.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ПОБЕДА (ОКОНЧАНИЕ)
– Всё равно ты умрёшь, – сказал Амин, лениво пружиня тело под кожаными доспехами. – Тебе нечем откупиться. Но твоё мужество вызывает уважение. Ты мог стать хорошим сотником в моём войске. Судьба распорядилась иначе. Я пришёл сюда из любопытства. Давай поговорим как обыкновенные люди. Забудь о моём могуществе. Говорят, солнце светит одинаково и рабу, и владыке. Хочу спросить тебя кое о чём.
Десятеро отборных воинов целили из луков Улену в лицо и грудь, а хан выдвинулся вперёд, восседал в седле величаво. Улен стоял перед ним в узком проходе, не хоронясь, простоволосый, беспечальный. Конь похрапывал за близким выступом, невидимый хазарам. Он предупредит Улена, если враг прокрадётся сзади. Время отсчитывало для Улена, вероятно, последние мгновения, но что с того. Дыхание его угаснет уж никак не по воле злого человека, снедаемого скукой.
– Спрашивай, хан, я отвечу тебе.
– Где ты научился нашему языку?
– Я много странствовал. У разных племён свои собственные слова, но выражают схожие чувства, поэтому их нетрудно запомнить.
– Какие чары спасали тебя? Ты должен был погибнуть, а всё ещё жив. Говорят, тебе помогают духи?
– Над духами я не властен, как и ты, хан. Но удача всегда со мной.
– Постарайся не сравнивать нас, – нахмурился Амин. – Иначе ты укоротишь нашу беседу.
Улен покорно склонился, на миг потеряв из виду целящихся в него лучников.
– Прости, хан, я не хотел задеть твою гордость.
Амин не жалел, что поддался на коварные уговоры Урды, таящего злую думу. Вон какой зверёк с отчаянным сердцем заперт в каменную ловушку; с таким чем дольше играешь, тем щекотнее отдаётся в желудке. Есть изысканное наслаждение в том, чтобы любезно говорить с человеком, зная, что это труп, и следить, как с губ праха слетают слова, как он скалит зубы, как из смелых глаз вдруг высечется смертная мольба. В такие мгновения открывается истинный смысл жизни, её призрачность; и ослепительная догадка о том, что ты единственный зрячий среди слепцов, наполняет желанным покоем звенящий от напряжения разум.
Хан милостиво кивнул пленнику.
– Ответь, чужеземец, зачем ты пришёл к нам? Это тоже непонятно мне. Ты слишком слаб, чтобы отмстить за поругание рода. Мне говорят, на подвиги иногда толкает мужчину тяга к женщине. Убогие песнопевцы называют это любовью. Неужели и впрямь возможно такое? Неужели ты ринулся на верную погибель в надежде вернуть женщину, подобную тысячам других? Если это так, признаюсь тебе, россич, я не могу уважать тебя. Кто платит слишком дорогую цену за обыкновенный товар, тот глуп и ничтожен.