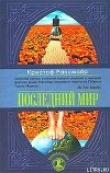Текст книги "Последний воин. Книга надежды"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
– Всё в порядке, Олег Трофимович, наше дело в шляпе. В сейфе уж точно полно изоляции… Небольшая заминка – ключа у меня нету. Но мы его сейчас и так раскурочим. Вы присаживайтесь поудобнее. На топчан садитесь, не стесняйтесь. Он чистый.
Олег Трофимович, несколько оглушённый внезапной расторопностью дворника, послушно опустился на топчан и даже задымил предложенной сигаретой. Пашута долго возился с проклятым ящиком, сломал отвёртку, один за другим погнул несколько ключей, какие были у него на связке, но взломать сейф не удалось. Хитрый замок был смонтирован топорно, но на века. В отчаянии он присел отдышаться на колченогий стульчик. Олег Трофимович, сняв очки, смотрел на него близоруко просветлённым взглядом. Он как-то весь обмяк на удобном Пашутином топчане.
– А почему, собственно, э-э-э…
– Павел Данилович Кирша.
– Почему, собственно, Павел Данилович, вы решили, что изоляционная лента в сейфе?
– А где ж ей быть? Вещь дефицитная, значит, спрятана надёжно. Что же делать с этим уродом? – Пашута пнул сейф пяткой. Стульчик под ним скрипнул и накренился.
– Удивительное дело. – Олег Трофимович глядел куда-то мимо Пашуты повлажневшими глазами. – Сколько хороших людей вокруг… Вы меня сейчас так растрогали, уважаемый Павел Данилович, стараетесь помочь, а ради чего? Не ради же только денежного вознаграждения.
– Найду ленту, копейки с вас не возьму, – пообещал Пашута. – Я на деньги неприхотливый. Что есть они, что нет – мне без разницы. А тем более, сколько ни дай, всё мало.
– Истинно так… Человек помогает человеку в силу своеобразной душевной потребности. Мы об этом забываем и потому живём скверно, пошло… Елена говорит, без ленты не возвращайся. Хоть раз, говорит, прояви себя мужчиной. Разве в этом суть? Эх, Павел Данилович! Нам бы сейчас самый раз опрокинуть по стопочке, а? Я бы за милую душу. Такое настроение вдруг образовалось. Мельтешишь, суетишься, продыху не знаешь, а вот встретишь случайно доброго, бескорыстного человека… всё просветляется. И утерянный смысл, представьте себе, заново обнаруживается.
– Вы посидите, – сказал Пашута, – а я мигом.
– Да что вы, я же так, к примеру.
Но Пашута был уже на улице.
Ему повезло, он сразу наткнулся на Вадима. Спросил, не здороваясь:
– Где взять?
Вадим заполошно вздыбился:
– За углом налево. Жми, парень! Четырнадцать минут осталось.
Через полчаса, мужественно одолев вторую стопку (раз уж сам затеялся), Олег Трофимович меланхолически оповестил:
– Понимаете, Павел Данилович, Елена замечательная женщина, чистоплотная, отзывчивая, мне с женой повезло, чего бога гневить… Но слишком, что ли, она суетная, неврастеничная. От неё много шума по пустякам, это утомляет. И потом, разумеется, привыкла верховодить. Тут, представьте себе, наследственное. Отец у неё слабый был человек, пьющий, вечно виноватый, а мать – напротив, властная женщина, волевая, из тех, знаете ли, которые коня на скаку остановят. Естественно, своим муженьком всю жизнь помыкала, он пикнуть лишний раз боялся, а Елена детским умишком всё это впитывала. Так у неё и сложилось представление, что женщина в доме – непререкаемый авторитет, и это будто бы в порядке вещей. Судить не за что, она другого не видела. Но мне каково? Молодыми были, влюблёнными, я и тогда замечал за ней: ни в какой мелочи уступить не может, ну просто не способна. Мир перевернётся, если она уступит. И всё это на нервах, на истерике. Я полагал, с годами помягчает, семья, дети её переменят – куда там! Только хуже стало. Бывает, из-за ерунды какой-нибудь, на скатерть, допустим, чаем капнул, – с такой ненавистью смотрит, как на лютого врага. И во мне ответное раздражение накапливается. Попался бы ей другой человек, пожестче, стукнул бы кулаком, дверью хлопнул, она бы опомнилась. А я не могу. По мне легче стерпеть, чем скандал. Я от женского визга совершенно теряюсь. Ну а Лена, понятно, вообразила, что я тряпка, раз сопротивление не оказываю. Вот блажь пришла, выгнала за лентой… Да что лента…
Олег Трофимович помрачнел, заглянув в дали семейного счастья, жалко улыбнулся, моргая близорукими глазами, – того и гляди прослезится.
– А дочка? Дочка на вашей стороне?
– Откуда вы знаете, что у меня дочка? – удивился Дамшилов.
– Так почему-то показалось, – исправился Пашута.
– Вы угадали. Дочка. Единственная… И на её воспитании деспотизм материнский сказался. Но я вины с себя не снимаю. Уж в этом вопросе отмалчиваться преступно. Но я рассчитывал – само моё присутствие должно оказать влияние. Принципы, Павел Данилович, передаются не на словах, а через живой пример. Словами они только закрепляются. Оказалось, и закреплять особенно нечего…
Олег Трофимович водрузил на нос очки, пристально поглядел на Пашуту: что ты за человек, мол, и по какому праву устраиваешь допрос? Пашута порезал ещё колбаски, лучок и редиску пододвинул поближе к гостю, в стопочку подлил немного. Душа его застыла в горькой истоме.
– Варька вообще родителей не признаёт, – продолжал исповедоваться Олег Трофимович, хотя Пашута его больше не подначивал, понимал, что и так слишком далеко зашёл. – Ни мать, ни отца… У неё переходный возраст затянулся. Девица своенравная, гордая, со всякими талантами. В институт не поступила, пропадает из дома, не спросясь, на недели. Запуталась, наверное… Самого худшего я жду, а помочь ничем не могу. Вы представляете, каково это, когда нечем помочь родному дитяти?.. Такая крохотуля была, ласковая, выдумщица… Больно это, Павел Данилович, так больно!
Последние слова, произнесённые на выдохе, криком отозвались у Пашуты в ушах. Он подумал, что после такого трудного разговора Олег Трофимович вряд ли захочет его когда-нибудь видеть. Так бывает, он знал по себе. Кому невзначай откроешься незащищённым нутром, того лучше бы на свете не было.
– Всё образуется, Олег Трофимович. С детями всегда большие хлопоты. А потом наладится.
– Уже наладилось, – равнодушно заметил Дам Шилов и тут же засобирался, заторопился. Схлынула волна откровения, пора было обоим возвращаться на круги своя. Только – увы! – Пашутин круг замыкался как раз там, куда спешил Олег Трофимович.
– Вы бы адресок оставили, я занесу ленту. Завтра занесу.
– Не стоит затрудняться, впрочем… – Он назвал дом и квартиру. Молчком выдвинулся из комнаты, пропал. Пашута не догадался его проводить. Номер Вариной квартиры горел в башке, как тавро. Глядя на разорённый стол, на недопитую бутылку, Пашута ни о чём не думал, словно растворился всеми клеточками в вечерней тишине, словно несло его в утлой лодчонке по тёмной реке и нигде не было видно берегов.
В НОВЫЙ ПУТЬ
– Я утомился ждать тебя, Улен, сын удачи, – такими словами встретил его Невзор. В старом, с седыми волосами, полу ослепшем человеке трудно было признать могучего и мудрого вождя, но Улена давно не обманывали роковые приметы времени. Тлеющий под пеплом уголёк иногда хранит больше жизни, чем гибельный лесной пожар.
– Млаву увели в полон… Но она жива. Это всё, что я знаю о ней…
Улен склонил голову в знак того, что принял известие как должно. Торопиться им было некуда. Перед ними угощение – просяные лепёшки, нарезанное большими кусками копчёное мясо кабана, кувшин с терпким травяным питьём. Тлела лучина в плошке. Тёплый ночной ветерок всплесками накатывал на плетёные стены хижины. Так можно просидеть хоть вечность, коли есть о чём говорить.
– Ведаю, ты пойдёшь за ней, – продолжал Невзор. – У тебя нет иной судьбы. И это хорошо… Открою тебе то, что сам уразумел лишь за долгие годы. Россичи неистребимы, но скудны разумом. Степняки, у которых лики как смеющаяся луна, застали нас врасплох. Но они слабее нас. Дух жизни накапливается поколениями, племя поднимается медленно, как дерево, но из года в год раскидывает побеги всё шире. Мы сильны, потому что молоды, но в этом и беда. Мы не умеем помышлять о будущем, а прошлое у нас коротко, как остриё стрелы, на него не обопрёшься. Те, которые приходили, алчут чужой крови, чтобы продлить свои дни, и живут минутным торжеством. Но за ними опыт побед. Они ненасытны и жестоки. Однако наступит срок, и мы расплатимся с ними.
– Я понял тебя, мудрый Невзор, – сказал Улен. – Но когда наступит этот срок?
– То никому не ведомо. Каждое поколение засевает новое поле, и каждый из живущих оставляет на нём своё семя. Эти семена прорастают в потомках.
Улен отпил глоток из берестяной чаши. Он на миг смежил веки, и душа его растеклась далеко по ночному миру.
– Ты умрёшь в этом лесу, Невзор. Я уйду за Млавой и сгину на дальней стороне. Какой прок от того, что мы жили?.. Прости, это печаль говорит за меня. Я вернусь, а ты дождёшься меня. Мы построим новый город.
Невзор запрокинул голову, и по его седой бороде запрыгали звёздочки влаги. Он пил жадно, точно никак не мог напиться. Потом ответил Улену:
– Если ты погибнешь, враги узнают цену россичу. Когда ты их догонишь, многие пожалеют об этом походе. Разве не так, сын удачи?
– Надеюсь, – сказал Улен.
Невзор хлопнул в ладоши:
– У меня есть для тебя подарок.
В ту же секунду чья-то рука приподняла полог и втолкнула к ним мальчугана лет пяти, смуглого и полусонного. Он забавно раскачивался на крепких, коротеньких ножках и из-под прищуренных век беззастенчиво оглядывал трапезничающих.
– Тебя кто-то обидел, мальчуган? – спросил Невзор, тая в горле смех. Впервые его голос пророкотал звучными, памятными Улену струнами.
– Я спал, – буркнул малыш. – И во сне хотел убить гадюку. Старуха Невзея разбудила меня и притащила сюда.
Улен спросил:
– Как тебя зовут, дитя?
– Проша. Прон.
– Чудное имя. Так назвала тебя мать?
– Да. – Мальчик отвечал с достоинством, коротко и внятно.
– Ступай, Проша, – ласково произнёс Невзор. – Убей во сне свою гадюку.
После ухода мальчика Невзор и Улен некоторое время сидели молча, и их молчание напоминало трещину в древесной коре. Оно было тяжко обоим.
– Старая Невзея спасла мальчика, – сказал Невзор. – Ты видишь, он умён. Млава родила тебе хорошего сына. Он не похож на других.
– Он и на меня не похож, – усмехнулся Улен.
– Он твой по сердцу. Подожди, скоро тебе снова захочется его увидеть. Любовь к ребёнку входит в мужчину постепенно.
Наутро Улен пошёл к Невзее, и она рассказала ему про тот страшный день. Они прятались с Прошей в отхожей яме и чуть не задохнулись. Ночью переползли в лес. Духи хранили их хрупкие жизни. Они видели, как корчились в предсмертных муках сильные мужчины, как чужеземцы, визжа, бросали в костры детей, забыв, что сами вышли из тёплой женской плоти. Даже тем, кто не сопротивлялся, они для забавы ломали хребты и упивались зрелищем продолжительной смерти. Камни истекали кровью в тот день. Но мальчик, пока они выбирались из проклятого города, хранимые тенями предков, ни разу не заплакал. Глаза его источали не страх – ненависть. У самого леса он подвернул ножку, но не дался ей на руки. Он никого не подпускал к себе, царапался и кусался. И почти два дня не брал в рот еду. Он сказал: «Скоро вернётся отец, он отомстит». Это необыкновенный малыш. Невзея вынянчила много детей, своих и чужих, но таких не видала. Горе тому, кто встанет у него на пути, когда он возмужает.
– Вон как! – сказал Улен, выслушав длинный рассказ. В благодарность он подарил старухе серебряную чашу с диковинными узорами на стенках. Невзея поклонилась ему и спросила как о чём-то непреложном:
– Ты разыщешь их, воин?
– Я отправлюсь через два дня, – ответил Улен.
Он пошёл искать маленького Прошу и обнаружил его в травяном укрытии неподалёку от хижины вождя. Мальчик сидел на земле, расставив толстые ножки, и возводил из палочек домик. Перед ним лежал Анар и наблюдал за игрой. Улен подкрался неслышно, он давно не умел ходить по-другому, но Анар почуял его, покосился и дружески тряхнул хвостом. Мальчик разговаривал с собакой, советуясь с ней, куда воткнуть очередную палочку.
– Ты – пёс и не умеешь строить, – говорил Проша. – У тебя нет рук. Посмотри, какая получается крыша. Мало кто построит такой дом. Отец ещё пожалеет… Я бы сам освободил мать, но не знаю дороги. Тебя я бы взял с собой, Анар. У тебя крепкие зубы, ты бы мне пригодился. Я возьму лук и пробью главному хазарину глотку стрелой. А ты загрызёшь остальных.
– Хорошо придумал, – заметил Улен. – Но хватит ли у тебя силы натянуть большой лук?
Мальчик обернулся, в тёмных глазёнках мелькнула досада.
– Когда я вырасту, – сказал он, – то уж не буду подбираться к детям, как дикая кошка.
Улен присел на корточки, потрепал по холке Анара. Пёс равнодушно зевнул.
– Постарел Анар. Прежде он никому не позволял до себя дотрагиваться. Видишь шрам, сынок? Это следы его зубов. Помнишь, Анар?
– А этот откуда? – мальчик ткнул пальцем в причудливо изогнутый рубец на предплечье Улена.
– Долгая история, – улыбнулся Улен. – У меня много шрамов.
– Наверное, и у меня будет много, – вздохнул мальчик. В повадке его проступала недетская властность, и Улену было приятно смотреть в ясные, пристальные глаза. Да, у этого человечка будет много шрамов.
– Расскажи что-нибудь про маму, сынок. Я так давно её не видел.
Мальчик взглянул на него подозрительно, но не заметил подвоха. Вдруг насупленное его личико, полное тайной печали, просветлело и на нём проступила задорная гримаска Млавы.
– Возьми меня с собой, отец!
– Не могу.
Мальчик хмыкнул что-то неразборчивое и отвернулся.
– Когда вернусь, – пообещал Улен, – я научу тебя всему, что должен знать воин.
Мальчик, забыв обиду, доверчиво привалился к его бедру, не замечая, что раздавил пяткой с тщанием возведённый домик.
Через день Улен покинул поселение. Конь под ним был лютый, степной. Анар увязался за хозяином и, спотыкаясь, роняя из пасти розовую пену, бежал следом так долго, что Улен испугался, как бы он не сдох на бегу. Он спешился и обнял старого друга за жилистую шею.
– Останься, Анар. Храни мальчика от бед. Это мой сын. Млава ошиблась, думая иначе. Что ж, ошибаются и духи. Прощай, Анар!
Когда оглянулся в последний раз, пёс сидел на том же месте. Улен подумал: нельзя обмануть судьбу, но можно её осилить. Прощай, Анар!
3
«Как ты уехал, Пашка, всё расстроилось по твоей милости. И опять я при разбитом корыте. Ну да бог тебе судья. Твоё увлечение Варенькой я понимаю, жалею, что не сумел помочь в этой беде. Я вёл себя как свинья, но не суди строго. Наша общая (надеюсь) мечта рушилась, мечта о вольной жизни, и как-то я не мог до конца поверить, что тебе важнее совсем другое. Меня угнетает, что я был нечуток. У кого ждать поддержки в трудные минуты, если друзья только собой заняты. Но тут, конечно, сыграло роль ещё одно: мне дико представить, чтобы тебя сбила с толку смазливая девица. Прости, что так говорю о Варе. Теперь-то, очутившись у разбитого корыта, я опамятовался и вижу, что ты как всегда прав. Пишу не для того, чтобы ловчее покаяться, нет, такова правда. Я натура увлекающаяся, суетная, а ты всегда видишь мир в истинном свете и не путаешься в трёх соснах. Потому люди к тебе тянутся, что есть в тебе неколебимая твёрдость, на которую можно без опаски опереться. И если уж тебя зашатало, то мне следовало вовремя смикитить, до какой степени это серьёзно. Прости, друг и брат!
Я рад, что ты полюбил. Отбери у меня Урсулу – и что останется? Ничего, пустота. Отчизна и воля – слова великие, но без женщины и они скудны. Может, наши женщины, и твоя Варя, и моя Урсула, самые обыкновенные создания, даже скорее всего так, но мы их любим, и для нас они полны такого смысла, что дух захватывает. Не знаю, к чему я завёл эту песню…
Приезжал давеча Хабило личной персоной. Свирепствовал. Чем-то ты его крепко допёк, молодец. Он тебя, Паша, собирается под суд отдать. Как твоё имя помянул, весь затрясся, раздулся, я думал, его родимчик хватит. Меня грозит на одну скамью с тобой поместить. Я его спрашиваю деликатно: а какие же вы преступления нам с Павлом Даниловичем инкриминируете? (Правильно я это слово написал? А то что-то от натуральной жизни в грамотёшке ослаб.) Ну вот, а он отвечает: твоего дружка посадят за нарушение трудового договора, то есть за то, что ты самовольно покинул фронт работ, куда он тебя определил разнорабочим, а меня – за то, стало быть, что приваживаю уголовный элемент (это тебя), а ещё за то, что использую посевные площади как бы на личные нужды (это про картошку, которую мы засадили). Объяснил, что припаяют нам от трёх лет до восьми, и это мы ещё должны будем за него бога молить. Паш, чем ты его до печёнок достал, поделись опытом? Я, естественно, возражаю: а ведь вам, говорю, Пётр Петрович, при таком раскладе побольше нашего сроку дадут. Чего?! – он орёт. Извини, Паша, но я ему сказал, что привлекут его за использование служебного положения и за развращение несовершеннолетней девицы. Надо тебе знать, твоя Варя, видать, насолила ему покрепче, чем ты. Как он про неё услышал, трястись перестал, зато позеленел, глаза выпучил и впал в столбняк. Дед Тихон на ту пору рядом был, не даст соврать. Мы его квасом отпаивали, а то бы он задохнулся. Мы в самом деле испугались, как он начал ртом воздух хватать, такого прежде не было. На обочине в теньке минут двадцать в себя приходил. Тихон прямо ему сказал: «Вам бы, Пётр Петрович, при вашем умственном напряжении и при большой власти, как уж вы за всех людей радетель, поберечь себя надобно. А то ведь окочуритесь на всём скаку. Даже орден не успеете получить». Хабило, хотя и помирал от злости, всё же пообещал деду Тихону, что и его под статью подгонит якобы за антисоветскую пропаганду вредных идеалов. Короче, укатил и никаких руководящих указаний не оставил. Но это всё, сам понимаешь, я в шутку пишу, чтобы тебя развлечь: такие люди, как он, сами по себе не помирают.
Ладно. Проехал и этот поезд. Интересно, как у вас складывается с Варей? А почему бы тебе, старому чёрту, не жениться на ней? Это бы решило все проблемы. Или я чего-то опять недопонимаю?
Дед Тихон тоже тебя и Вареньку вспоминает. Говорит, вы парочка подходящая. Ему можно верить, у него опыт. Ты вот не знаешь, а он казак геройский: полдеревни наших старушек, если не все, в прошлом его полюбовницы. Кстати, дед Тихон уверяет, что может тебя «привесть обратно» в любой момент. Какая-то тайна в нём всё же есть, ты согласен? Он последнее время заскучал, говорит, пора ему к тем самым, которые по ночам ходят. Жалко будет, коли старик помрёт.
Что тебе сказать напоследок? Не теряю надежды, что когда вы с Варей сладитесь, то вернётесь к нам. Может, ты так и не понял, но для меня всё это очень важно. Детей у нас с тобой нету, так хоть оставить людям клочок обихоженной земли. Прости, если чего не так наговорил. В нашем возрасте, Паша, мы все немного чокнутые становимся. Кланяемся тебе низко и я, и Урсула… Да, будет случай, передай привет Раймуну и Лилиане. Я толком не уразумел, зачем они приезжали, но люди, видно, хорошие, тоже со своей маетой в душе. Мне почему-то кажется, коли ты вернёшься, они все опять за тобой потянутся. Ну, и особый привет Владику Шпунтову и его супруге.
Преданный тебе Семён Спирин».
Пашута читал письмо с раздражением. Он подумал, что Спирин обуян гордыней, ни словечка не скажет в простоте душевной. Весточка от друга только соли сыпанула на его рану. Зачем Спирин наворотил на бумаге столько дури? Советует поскорее жениться на Вареньке. Такого тонкого яда и лютый враг не додумается в чашку плеснуть. И не постеснялся, гад паршивый, напомнить обиняком, как Варя сбежала к Хаби-ле. Для какой цели? «Нет уж, – думал Пашута, – не нами подмечено, сытый голодного не разумеет. У меня теперь другие игры, Сеня. Каждое неосторожное слово летит камнем мне прямо в лоб».
Выйдя на улицу – в кармане у него лежал моток изоляционной ленты, он за ней днём смотался к себе на квартиру, – у подъезда наткнулся на страдающего Вадима. Взгрустнул: а ведь этот человек, пожалуй, сейчас ближе ему, чем все остальные. В нём нет двуличия, и, как Пашута, он жил одной страстью.
– Ну как вчера, поспел? – с огромной заинтересованностью спросил Вадим, и на его унылом лике отразилась готовность и пылко обрадоваться, и загоревать. В зависимости от того, каким будет ответ.
– Успел, слава богу, – доложил Пашута. – В последний момент подскочил. Уж двери запирали. Если бы не ты – амба! А как раз ко мне нужный человек заходил, обязательно требовалось уважить. Ты сам как сегодня?
– Дак чего, с утра принял частицу, давно рассосалось. Мелочишка вон звенит кое-какая в кармане. Не поддержишь?
– Морально, – ответил Пашута, – только морально. Я ж тебе говорил – хвост за мной. Вчера случай был особый… Да вот могу рублевичем ссудить. На, бери.
Вадим принял металлический рубль с мнимой небрежностью фокусника, взгляд его вспыхнул жизнью, туловище ворохнулось в сторону арки.
– Но – до субботы! Как в банке! – сказал он так сурово, будто более всего опасался, как бы Пашута не назначил иной срок возврата долга.
– Не думай об этом. Отдашь, когда разбогатеешь… – он ещё не прочь был поболтать с пропащим человеком, но чудесным образом Вадим переместился уже под самую арку – мелькнула его сутулая спина и скрылась.
Не успел Пашута зажечь сигарету, как подплыли дамы-аристократки. По их суматошной торопливости понял, что беда подступила к ним вплотную.
– Опять шалят?
– Ой, Павел Данилович, прямо потолок трещит!
На чердаке на сей раз Пашута застукал табунок молодняка. Три парня и две подкрашенные девицы школьного возраста устремили на него дерзкие взгляды. Вино они убрали с глаз, но плохо – горлышко бутылки торчало из-за ящика.
Пашута сказал:
– Где дамы, там и шампанское? Мир честной компании!
– Чего?! – с вызовом ответил чернявый парень. Одна из девиц пискнула:
– Садись, дяденька, с нами, угостим!
Пашута присел на свободный ящик. Ему ведь где бы ни быть, лишь бы время шло. С любопытством разглядывал девушек. Взбитые чёлки, подведённые глаза, голые коленки сверкают из-под коротеньких полотняных юбочек – кто такие? Где их отцы и матери? Он раньше не обращал внимания на такую мелюзгу, но теперь иное. Что раньше проскальзывало мимо, нынче оставляло в памяти неожиданные зарубки.
– Да пейте хлопцы, не тушуйтесь. Я не милиционер, я дворник.
– А чего притопал? – поинтересовался белоголовый крепыш, видно, вожачок у них.
– По жалобе жильцов, – объяснил Пашута. – Больно вы шумите… А что это я у вас курева не вижу? Под выпивку дымком затянуться – самый смак. Я сколько шпаны перевидал, те всегда дымили.
– Угости, дяденька, закурим, – пискнула та же девица. Голосок у неё был какой-то зачаточный, и слов она тратила немного. Пашута пустил пачку «Столичных» по кругу. Зачиркали спички, и ему дали прикурить молодые руки. Писклявая девица одарила его многообещающим взглядом, в значении которого трудно было усомниться.
– А вы, дяденька, ничего мужичок. Только насчёт нас ошиблись, мы не шпана.
– Ошибся он, как же, – раздражённо бросил крепыш. – Его эти чумовые бабки послали. Теперь придётся хазу менять.
Выудил бутылку из-под ящика, набуровил в стакан, из которого они, бедолаги, хлебали по очереди. Кивнул Пашуте:
– Ну что, причастись, гражданин дворник, раз выследил. А бабкам мы устроим престольный праздник.
Пашута понюхал стакан, сказал огорчённо:
– Не-е, я такое не принимаю, у меня изжога. Я думал, у вас шампанское или коньяк. А этим тараканов морить. Как только вы его глушите?
Крепыш тут же продемонстрировал, как они пьют. Полстакана проглотил одним глотком. Снова налил и передал чернявому. Тот проделал со стаканом то же самое, но с видимым усилием. Третий, худенький гороховый стручок, с неразвившимися детскими плечами и грудью, для того, чтобы удобнее было пить, далеко запрокинул голову.
– Ага, – заметил Пашута глубокомысленно. – У вас, значит, так заведено, что сначала мальчики, а потом девочки? Это правильно. Я однажды с ворами гулял, те вообще – иной раз дам обносят. В целях экономии. Опять же пьяная баба во сто раз гаже мужика Это всё врачи знают.
– Ты, дворник, всё на грубость нарываешься, – обернулся белоголовый. – Мы тебя сюда звали? Пришёл, сиди тихо, не рыпайся. Пей, Клавка!
У Клавки, не той которая пищала, а у её подруги, на симпатичной мордашке обозначилось отвращение:
– Не хочу!
– Ты из-за этого лаптя, что ли? Пей, не бери в голову. Человек пришёл, человек уйдёт. Не уйдёт, поможем. Верно, ребята?
Ребята дружно кивнули, но приуныли. Особенно «гороховый стручок». Тот вообще взгляд отвёл в чердачный лаз. Он, похоже, всерьёз задумался, как это можно помочь уйти мужику, у которого в каждой пятерне уместится три его шеи. Пашута сказал крепышу:
– А вот насильно не заставляй девочку пить. Вино тогда в радость, когда в охотку. Да и рано ей эту гадость сосать. Тебе-то, наверное, шестнадцать стукнуло, а ей… Тебе сколько лет, Клава? Шестнадцати Бедь нет?
– Фуй! – девочка вскинула подбородок, выражая своё презрение ко всем дворникам на свете.
– Вот я и говорю, рано. Тебе бы, дочка, лучше чифирку попробовать. Не знаешь, что такое? В тюрьме всё одно научат. Отличная вещь! С непривычки можно сердечко надсадить, но если постепенно втягиваться… Сначала, положим, полпачки на кружку… Вы в какой класс ходите, детки?
– Мы давно студенты, дяденька, – писклявая выцедила вино, не отводя от Пашуты взгляда, полного соблазна. А он подумал, что и Варенька умеет так смотреть. Что же это за лихая молодость подросла? Как-то так мозги у них устроены, вроде они стыда не ведают. Может, и правда не ведают? Стыд и страх рядом растут, а эти поднялись непугаными. Они вызывали в Пашуте не раздражение, а оторопь. Будто он с инопланетянами встретился на московском чердаке.
– Тебе чего всё же от нас надобно, мужичок? – поторопил его белокурый крепыш. – Ты откройся, может, разойдёмся по-доброму. Ты учти, я два года каратэ занимался.
– Тебя как зовут?
– Это тебе ни к чему. Меньше будешь знать, целей будешь.
– И то верно, – согласился Пашута. – Только ты грубый, каратист. Какой-то плохо воспитанный. Мне любопытно, почему ты такой злой? Или тебя дома обижают? Я в одной статье читал, там написано, если отец алкоголик, то сын обязательно придурок. Но я в это не очень верю. Алкоголики недавно появились, после постановления, а дерьма всегда хватало. Помню, когда я был таким же сопляком, некоторые и с железяками ходили, и с кастетами. И дрались стая на стаю. У нас один был, Минька-татарин, так он без финяги на улицу не показывался, на целый район масть держал. Масть, – пояснил Пашута девочкам, – это в воровском значении всё равно как у вас этот каратист. Но Минька пострашнее был, предельно озверелый. Впоследствии отчима своего зарезал и ещё кого-то. Десять лет ему дали. А ты, часом, не татарин, каратист?
Крепыш, осатанев глазами, потянулся за бутылкой с таким выражением, будто сейчас же использует её по назначению. Пашута предостерегающе поднял палец.
– Не шали с посудой, малыш. Мне тебя пополам сломать, что за угол сходить. Никакие каратэ не спасут.
Белоголовый переглянулся с дружками, пренебрежительно хмыкнул, но доброму предостережению внял. Чтобы не уронить себя в глазах девушек, подлил из бутылки в стакан, словно только затем её и трогал.
– Давай греби дальше, но покороче. Верно, парни?
Хорошей беседы не получалось, и Пашута заскучал.
Наиважнейшее дело у него впереди, а он тут засиделся. Чего ради, спрашивается? Одно отрадно: теперь и Клава, и её подруга не сводили с него головокружительно невинных глаз, в которых плескался откровенный женский вызов. Неужели он может приглянуться таким малолеткам? Тогда, выходит, рано хоронить последние надежды.
– Ну, ладно, хлопцы, подвожу итоги. Чердак закрываю на карантин, стакан оставляю вам. Учитесь получше, дети. Я вот был троечник – и ничего в жизни не добился. Дальше дворника не пошёл. Хотя и эта профессия хорошая, жаловаться грех. Будет желание, девочки, приходите в гости. Научу листья сгребать. Отличное занятие, доложу я вам. Уж лучше, чем по чердакам ошиваться… Тебе, каратист, особый сказ. Ты языком молол насчёт бабок чумовых, которым ты престольный праздник устроишь, – про это сразу забудь. Мне даже в груди холодит, как подумаю, что с тобой после этого будет.
– Боялся я тебя, как же!
– А и не надо ничего бояться. Человек человеку друг, товарищ и брат.
Пашута вывел слабо упирающихся подростков на свет божий и вторично посоветовал им идти всем в школу. Чердачный лаз заклинил железной скобой.
Жалобщицы поджидали его, схоронясь за углом. Они с таким восторгом его благодарили, словно он совершил геройское деяние, сравнимое лишь с самопожертвованием. Пашута пообещал навесить на чердак вскорости новый замок и передать им на вечное хранение запасные ключи.
Было около восьми вечера, когда он кругами добрался к дому Вареньки. Удачно пристроился на скамеечке: дом был виден как на ладони, со всеми четырьмя подъездами и восемью этажами, а сам Пашута, закрытый кустами акаций, находился как бы в засаде. Свёрток с изоляционной лентой, перевязанный кокетливой голубой тесёмкой, Пашута прихватил с собой на всякий случай – это не значило, что он непременно собирался зайти к Дамшиловым. Он никуда не собирался, а попросту ждал неведомого знака от стихии. В вечерний час, когда городская суматоха сникает и воздух насыщается тенями, Пашуте было приятно оттого, что он беспомощен и жалок. На укромной скамеечке, точно в склепе, он ощутил свою малость почти как блаженство. Ему чудилось: если сейчас из подъезда выскочит Варенька, у него не хватит сил встать ей навстречу, а уж тем более окликнуть. Да это и не нужно. Он достиг цели и успокоился, как, вероятно, успокаивается путешественник, преодолевший все препятствия на пути к обетованной земле и настолько ослабевший, что очертания незнакомых берегов уже ничего не говорят его воображению.
Пашута не заметил, как к вечернему городу вплотную подступила гроза. Когда по скамейке, по асфальту, по темени зацокали крупные капли, он поднял голову и подивился тому, как причудливо заострился небесный свод. Чёрный, багрово-алый и лазурный цвета распределились почти равномерно, и небо стало похоже на гигантский ломоть трёхслойного мармелада. В этом шатком цветовом равновесии, на которое падка стихия, Пашута уловил глумление над человеком, особенно над таким, как он, застигнутым врасплох и, подобно листочкам на деревьях, не смевшим даже трепыхнуться.
Гроза в Москве – вообще дело особенное, двусмысленное. Она смывает пыль и грязь с городских улиц и заодно выколачивает много дури из горожан. Она не обещает скорую благодать, какую сулит обыкновенно природа, а полна угрозы что-то непоправимо порушить и в без того противоестественном людском скопище. Многие, кто это чувствует, совершенно теряют голову, спасаются под арками домов, лезут в чужие подъезды, с диким хеканьем ныряют в разверстые жерла метро. Грозовое электричество, видимо, высвобождает разом из множества сердец дотоле мирно копившуюся там истерию, разбивает в прах иллюзию человеческой общности перед лицом беды, коли она ещё сохранилась.