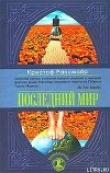Текст книги "Последний воин. Книга надежды"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
– Люблю её, Сеня. Кажется, впервые женщину полюбил.
Спирин вздохнул, полез за сигаретами. Закурили на ходу, и два огонька поплыли по смуглому холсту ночи живыми точками. Воздух был такой, что протыкать его сигаретами было кощунством.
– Такая ли тебе нужна, Паша? Я ничего против Вареньки не имею, молодая, красивая, но тебя ведь она не поймёт. Вы с ней в разных мирах живёте.
– Знаю, Сеня.
– Я тоже сперва насчёт Урсулы сомневался. Другая кровь, всё такое… Оказывается, это значения не имеет особого. Страшнее, когда время разделяет. Она ведь у тебя, Паша, во французской кроватке, верно, качалась, пока мы с тобой куску ситного радовались, как празднику… Смотри сам. На неё годы запросто можешь ухлопать.
– А куда их копить? – со смешком спросил Пашута.
За полночь вернулся Пашута домой. Постоял малость на крылечке, послушал, как дышит ночь. Первобытное это дыхание будоражило, от него в грудь натекала небесная истомная влага.
На кухне щёлкнул выключателем – электричество отключено. Впотьмах нахлюпал воды в кружку, попил. В комнату пробрался, полежал поверх одеяла, не раздеваясь. Варина дверь, как водится, полуоткрыта. «Шалунья, – подумал с печалью. – Ведь спит, поди, давно без задних ног».
Но Варя не спала. Она слышала, как Пашута стоял на крыльце, как пил воду и как лёг, не заскрипев пружинами. Варя чувствовала себя несчастной, маленькой и потерянной. Днём бодрилась, но ближе к вечеру накатывало странное беспокойство, неведомое ей прежде. Иногда чудилось, что из темноты подкрадывается что-то бесформенное, с тусклыми глазами. Невнятный страх цеплял за сердце бархатной лапкой. Ей стоило усилий лежать неподвижно, особенно когда оставалась одна. Она пыталась понять своё новое состояние. «Может быть, – думала она, – начинается расплата за выброшенные на ветер, прекрасные юные годы?» Мысль была смешной. «Да перед кем я виновата? Только перед папочкой и мамочкой. Но им я не принесла большого горя. Не рассчитывали же они всерьёз, что я буду вечно тереться возле их ног, как домашний зверёк? У них своя жизнь, у меня своя. Пусть я её не слишком складно начала, но всё ещё сто раз переменится. О чём горевать? Я красива, молода, умна – и так будет долго. Поскорее бы только появился человек, который оценит мои достоинства и полюбит меня и которого я тоже полюблю. Лишь бы кто-то догадался, как охотно, жадно и покорно я сумею любить… Вот Павел Данилович догадался, но кто он?»
Она не заблуждалась на его счёт. Хороший» добрый человек, она ему благодарна. Он понапрасну терзает себя и теряет время: то, что он ищет в ней, она вполне может дать ему. Ей самой всё чаще хотелось прижаться к нему, обнять такого сильного, властного, но ничуть не загадочного. В нём всё на виду. Он не тот, от кого могла бы «забалдеть» современная «герла». Бедняжка Пашенька и сам это знает. Он высоко замахнулся. Он ждёт от неё не ласки, а любви. Но этот предмет, увы, от наших желаний не зависит. Да и какая с ним была бы жизнь? Бесконечные хлопоты по хозяйству, рождение детей, тупое сидение у телевизора – и ничего кроме. Это не для неё… Пусть лучше обнимет её и задушит. Она не против. Пусть лучше гибельная ночь утопит их обоих в чёрной жирной земле. Она согласна… Но будущее с Пашей вдвоём? Нет, она уступает это счастье без борьбы. Бери, кто смелый.
Но вот чудно, когда Варенька начинала так насмешливо думать о нём и его предостерегать, беспокойство её утихало и блаженное тепло растекалось в груди. Сто раз собиралась удрать в Москву, но её останавливала мысль, что, значит, она никогда его больше не увидит. Павел Данилович не простит ей побега. Как на это решиться, если она постоянно – что же это такое? – ощущает его тихое присутствие.
«Приходи, – умоляла Варенька, – сядь на кровать, протяни руку. Я ничем тебя не обижу, и мы вместе во всём разберёмся. Ну, чего ты ждёшь? Или хочешь, чтобы я сама? Ты ведь очень плохо обо мне думаешь, ты ведь думаешь, что мне это ничего не стоит… Ну и жди, безмозглый чурбан, ещё хоть тысячу лет!»
8
Наконец пришла пора сажать картошку. Спирин в ту ночь, как перед сражением, почти не спал. Выход на картошку он планировал как психологическую операцию, которая, по его замыслу, должна объединить собравшуюся здесь публику в боеспособный трудовой коллектив. Картошка была как бы пробным шаром, который, надеялся Спирин, пробьёт в индивидуальном сознании каждого селянина оптимистическую брешь. Он даже хотел провести праздничный митинг, чтобы втолковать людям смысл предстоящего трудового подвига, но Пашута его отговорил. Пашута напомнил, что метод предварительной накачки на митингах скомпрометирован всякими недоносками, подобными Хабиле, а ему, Спирину, революционеру аграрного дела, надлежит искать какие-то иные подходы к людям.
Спирин уловил насмешку, но всё же с другом согласился.
– Ладно, работа сама себя покажет, – заметил он, мечтательно потирая руки.
Поутру на поле вышли не все разом, а как бывает именно на празднике – тянулись парами и поодиночке. Спирин развёл всех по местам довольно умно. Старух разместил кучно, чтобы им сподручнее было соревноваться и отдыхать, остальных определил согласно пожеланиям. У кого пожелания не оказалось, тех расставил по собственному умыслу. К примеру, Владика Шпунтова отделил от Вильямины, но так, чтобы они двигались навстречу друг другу. Вильямина высказала мысль, которая, наверное, у многих была на уме:
– Мне всё равно, где стоять. Я вообще не понимаю, зачем пришла.
У Спирина готов был ответ:
– А мы никого не неволим. Дело добровольное. Кто хочет, работает, кто не хочет – дома сидит. На свежем воздухе денёк в земле покопаться – это никому, думаю, не повредит.
Он был взвинчен, левая щека у него подёргивалась. Но заметил это один Пашута. Он опять остро пожалел друга. Было бы из-за чего суетиться, а вот поди же ты. В который раз – волосы дыбом! – Спирин к нему подбежал: «Как думаешь, осилим?» Для Спирина очень важно было начать и кончить работу в один день. Он полагал, такая завершённость сама по себе произведёт сильное впечатление – особенно на новичков. Поле он наметил большое, и теперь озирал его с некоторым недоумением. Его испуганному взгляду оно представлялось необозримым. Неужели дал маху?
Пашута самолично выбрал лопату для Вареньки – полегче, поухватистей. Наряженная в его холстинные штаны поверх колготок, в спортивной курточке, она с изумлением вертела лопату перед своим дерзким носиком.
– Пашенька, а как копают, покажи, пожалуйста.
Она действительно первый раз в жизни держала в руках лопату. Вполне возможно, и в последний. И естественно, воспринимала происходящее как очередную забаву. Пашута велел ей натянуть рукавицы. Земля была мягкая, тучная, лопата вонзалась в неё уж точно как в масло, и Варя быстро приноровилась.
Остальных учить было не надо. Спустя некоторое время Пашута поднял голову и огляделся. Люди с разных сторон навалились на поле, как на пирог с начинкой, лица были задумчивы и светлы. Картина, подсвеченная утренним солнышком, вызывала умиление. Старухи управлялись с лопатами ловко, как со спицами, но всё же изредка попискивали от забытого за зиму напряжения. Надо их будет вскорости отправить на отдых. Дед Тихон вальяжно опирался на орудие труда, как на посох, но уже опередил соседей на корпус. Неподалёку от него сумрачный Раймун вгрызался в землю с охочим упрямством первопроходца, и видно было, что доволен. Не было только Урсулы, которую Спирин оставил дома готовить на всех праздничный ужин. Лилиан вела полосу рядом со Шпунтовым, они уже перешучивались. Для неё лопата была, что для Вареньки кисточка. «Молодец, Сеня, – мысленно похвалил Пашута друга. – Будет, нет ли из всего этого прок, а всё равно – иначе жить нельзя».
– Ты с отдыхом, с отдыхом, Варюха, – обернулся он к девушке. – Не гони. С непривычки уморишься быстро. Ладошки береги, не елозь по черенку. Целый день впереди.
– Неужели за день можно такое поле перекопать? Ты что, Пашенька?
– И перекопаем, и взбороним, и картошку посадим. Видишь, мешки приготовлены.
Варя скинула рукавицы, заправила поаккуратней волосы под платок, туго его стянула – и совсем стала похожа на деревенскую девчонку. Полюбовалась, как Пашута пласты отваливает, красиво, без натуги, точно ровными ломтями хлеб режет, усмехнулась, подначила:
– Ты будто для лопаты родился, Пашенька.
– Каждому своё, это верно, – без обиды согласился Пашута. – Мне – лопату, тебе – мужиков с толку сбивать.
– Ты думаешь, я тепличная? Ну нет, Пашенька, ещё посмотрим.
Схватилась за лопату, чуть в ногу себе не вонзила.
– Осторожнее, – испугался Пашута. – Осторожнее, Варя. Работа суеты не терпит.
После первого напора, малость поустав, люди распрямлялись, перекидывались друг с другом словцом. Настроение у всех было солнечное, лёгкое. Спирин подошёл к старухам, их тут семеро копошилось, одинаково приземистых, шустрых. Все они были рады, что их не обошли, что спонадобились они на общей тяге, нет-нет да и оборачивались – то разом, то поодиночке – туда, где копал землю дед Тихон. Задирали его тоненькими, озорными голосишками:
– Старичок-то, девоньки, не сомлел бы на солнышке. Ишь как споро, сердечный, устремился.
– Мужик он ещё в соку. Упадёт, дак мы его под кустик отнесём, приголубим.
– Ой, девоньки, надо б его колышками огородить. А то он только спереди об черенок упирается.
Дед Тихон на заигрывания невест не отзывался, один лишь раз сверкнул в их сторону суровым взглядом.
– Расшамкались, курицы. Глядите, кабы челюсти не повыпадали. Подбирать некому!
Спирин отобрал у старух лопаты, несмотря на их недовольство и видимость сопротивления. Отвёл к мешкам с картошкой, велел перебирать клубни, какие годятся – резать на части, раскладывать по вёдрам, чтобы в нужный момент не было заминки. Старухи ворчали, то одна, то другая срывались с места, брались за грабельки, красуясь друг перед дружкой, рыхлили уже вспаханную, свежо блестевшую чёрным потом землицу. Такие неугомонные божьи птахи. Лишь бы кто не надорвался прежде времени.
Вильямина, без устали разглядывавшая Варю, вдруг ойкнув, отшвырнула лопату и побрела по бороздам к Пашуте. Сунула ему под нос большую свою розовую лапу.
– Во, Пашенька, глянь. Пальчик занозила, чего теперь делать?
Пашута покосился на Варю, та ковырялась в земле, как в альбоме с картинками. Уже с полчаса ворочала без отдыха. Пашута попробовал отшутиться:
– Иди к Спирину, он тебе его отрубит.
– Не-е, Пашенька. Ты наш командир, будь добр, помоги изувеченной женщине… Помнишь, как я руку кипятком обварила? Как ты меня тогда жалел… Ну вынь занозу, Пашенька!
– Да где заноза, не вижу? Придуриваешься, Вилька?
– Ну вот торчит, чёрненькая… Ой, столбняк может приключиться. Самое это страшное – ранку землёй загрязнить. Я читала. Больно, Пашенька, ей-богу, Ну выдерни занозу. Зубками выдерни. Ты же умеешь.
Пока причитала, пока кривлялась, косилась на Вареньку и как бы не замечала угрюмого молчания Пашуты. Она не собиралась устраивать ему сцену, а вот толкнуло в сердце, не выдержала, пришла поближе познакомиться с ослепительной соперницей. Пашуте страсть как не хотелось, чтобы день был омрачён житейскими тучками. Вон уже и Шпунтов набычился, того гляди сюда притопает. Опирается на лопату, как воин на копьё.
Тут Варя вдруг вмешалась:
– Можно мне вашу занозу посмотреть?
– Пожалуйста, девушка, полюбуйся.
С полминуты юная, беззаботная Варенька, дитя асфальта, и повидавшая виды, опасная, как тайный удар, Вильямина не пальчик изучали, а пожирали одна другую взглядами, кто кого пересилит? Румянец схлынул с Виль-киных щёк, а Варины очи заполыхали прямо-таки адским огнём. Наконец склонилась девушка над ужаленным пальцем, приладилась длинными ногтями, дёрнула раз, другой. Вроде бы нарочно делала побольней. Вильямина и ресничкой не шевельнула.
– Вот она, вот! – радостно воскликнула Варя, демонстрируя на ладошке крохотный древесный волосок. – Вытянула. На, смотри, Павел Данилыч.
Вильямина небрежным движением отряхнула юбку, повернулась, пошла на своё место. Всё же на середине пути оглянулась:
– Спасибо, сестрёнка!
– Три жены, – сказала Варя Пашуте, – и все картошку сажают. Какое-то неразумное распределение. Ты не находишь, дорогой?
Пашута копал, не отвечая.
– Она мне понравилась, у тебя хороший вкус, Паша. Такая высокая вся, костистая. Ей сносу не будет. И вторая ничего, которую ты из Прибалтики выписал. Только немного пышновата. Но с тобой она быстро похудеет. Да, Паша?
Пашута пыхтел, кидал лопату за лопатой.
– Ну отдохни, чего ты? Поговори со мной. Какой ты, однако, жук-трудяга… А ведь женщин не одной таской, но и лаской воспитывают. Вот зачем ты ей с занозой не помог? Она бы тебя после этого ещё крепче любила.
– Ну, завелась, Варька, – буркнул Пашута сквозь зубы. Ему показалось, вся их нестроевая артель с удовольствием прислушивается. Чего он по-настоящему не любил, так это публичных выяснений. – Сдались тебе эти несчастные женщины?.. Они же тебя не трогают.
– Ах, признаёшь, что они несчастные? Ещё бы! Тем более что меня одну при себе держишь. Мне лестно, но это несправедливо. Давай мы по очереди станем у тебя ночевать? Или так, которая больше картошки насадит, та к тебе идёт. Вроде как награда за беззаветный труд.
– Мочи нет копать, вот и балаболишь.
– Рабовладельцем бы тебе родиться, Пашенька.
Владик Шпунтов пахал как одержимый, не разгибаясь, перекуривал на ходу, сжигая очередную сигарету до фильтра. Словно в землю решил закопать отчаяние. На него сильно подействовало, как Вильямина со своей занозой к Кирше ходила. Но была в этом переживании и некая отрада. Кирша обошёлся с Вилья-миной заносчиво, занозу вынимала эта московская шлюшка – Варвара, новая присуха Пашутина. Кто такая Варвара, Шпунтов ни минуты не сомневался. Он таких девиц, длинноногих и остроумных, слава богу, перевидал на своём мужском веку предостаточно. Все они одним миром мазаны. В них радости нет. Это товар серийный. Продаются в розницу и оптом за фирмовые шмотки и за бутылку с иностранной наклейкой. Мнят о себе высоко, все с претензиями, а нутро пустое. И в башке труха. Шпунтов им цену знал, ни одной верить нельзя. И вот поди ж ты, Павел Данилович, кажется, мужик ушлый, огни и воды прошёл, а на мякину клюнул. Со стороны смотреть, смешно, пожалуй, а если вдуматься – смешного ничего нет. Такая Варька подсечёт по ногам хуже, чем бревном по темени. Ну да это не его дело, пусть Кирша сам разбирается. Судя по сегодняшнему случаю, он Вильямину от себя окончательно отстранил. Но смирится ли она с поражением? Дай-то бог. А то ведь если Вильямина пожелает, то уж, конечно, в два счёта управится с этой вертихвосткой. Они не соперницы. Это ясно как божий день. Всем ясно, кроме Кирши. И тут опять несуразность. Как можно предпочесть длинноногую шалаву, у которой в мозгу две извилины, такой женщине, как Вильямина, подобной богине. После этого что можно понять в этой жизни?
У Шпунтова со вчерашнего вечера, как огненные колышки, пылали в голове её жалобные слова. Он попытался в очередной раз поухаживать, вежливо, разумеется, без всяких претензий. Заварки ей подливал в чашку да и погладил легонько по руке, чтобы развеять смуту, синевшую в зачумлённом взгляде, который не на него, Шпунтова, был устремлён, а плавал в неведомых далях. Она его руку отстранила, незло укорила:
– Не надо, Владик. У нас же уговор. Потерпи немного. Сердце отболит – твоя буду. Честное слово, верной тебе подругой буду, если сам от меня не откажешься.
«Потерпи!» «Уговор!» Не было меж ними никакого уговора, но ждать он согласен. Им обоим остаётся только ждать и надеяться.
Отказаться от неё он не в силах. Глубока реченька, да ведь вынесет когда-нибудь на бережок. А пока худо, тонны воды над головой, сквозь них дневной свет еле брезжит. Дыхания скоро не хватит, пловец он оказался никудышный. Он сказал об этом Вильямине, может, ей легче будет. Веселее ведь на душе, когда рядом кто-то тонет.
– Я подожду, Вилечка, не сомневайся. Только дышать мне с каждым днём тяжельше.
– Ты хороший, Владик, ты хороший. Я знаю, какой ты хороший. Это я плохая. Обременила тебя, а ты лучшей доли достоин. Но не могу я сейчас. Раньше бы смогла, с любым другим смогла бы, а с тобой не получится. Хочешь, я тебе правду про себя расскажу?
– Не надо правды, – испугался Шпунтов. – Я и так про тебя всё знаю.
Прокатилась и эта ночь по темечку шершавым напильником, спать не дала. А сколько впереди таких ночей?..
Дед Тихон, когда поравнялся с угрюмым, как туча, Раймуном, окликнул его:
– Как тебе наша землица, Роман Михалыч?
Дед Тихон с первого знакомства переиначил имя Раймуна Мальтуса на свой лад, не желая коверкать русский язык. В отместку гордый латыш вообще лишил его имени и величал попросту «стариком». Как Пашута и предполагал, они коротко сошлись на философской почве. Хотя Тихон был постарше лет на двадцать, на многие вещи они смотрели почти одинаково. Правда, это «почти» было весьма существенным и вызывало меж ними ожесточённые споры. Тонкость была в том, что хотя они во всём и соглашались друг с другом, но всё же на каждый предмет смотрели как бы с разных сторон. Взять хотя бы вопрос о роде человеческом, чрезвычайно важный для Раймуна, который полагал, что люди окончательно опаскудились, не помнят добра и обречены в скором времени на вымирание, как ящеры минувших веков. Тихон тоже не сомневался, что нынешние представители рода человеческого, эти «сопляки», к коим он причислял всех, кто был моложе его хоть на год, а значит и Раймуна, и в подмётки не годятся тем, которые жили до них. Они слабы, бездушны, ни во что не верят, живут одним днём и желают всё получить задаром.
Однако было в их суждениях по этому пункту и значительное расхождение. Раймун был уверен, что люди сами во всём виноваты в силу врождённого внутреннего скотства и, таким образом, вполне заслужили свою горькую участь; Тихон же объяснял духовную деградацию общества изменившимися условиями жизни, которые облегчились до такой степени, что человек забыл, почём фунт лиха, и разучился ценить самые дорогие вещи – хлеб и свободу.
Они приходили к разным выводам, касающимся будущих времён. Раймун угрюмо предсказывал, что скоро люди, слава богу, наконец-то укокошат сами себя, и на земле наступит мир и покой, иными словами – царство мышей и тараканов, ибо почему-то именно этим тварям наука предрекает бессмертие. Тихон полемически утверждал, что вселенская катастрофа как раз пойдёт людям на пользу, и они быстро угомонятся, когда их жареный петух клюнет. Такое уже не раз бывало на свете.
Когда Тихон в споре доходил до намёков на свои потусторонние контакты, его суровый оппонент впадал в неописуемую ярость и однажды обозвал Тихона выжившим из ума старым придурком. В ответ на оскорбление Тихон благодушно заметил, что лучше быть старым придурком, чем, доживи до седых волос, остаться по состоянию ума в пионерском возрасте. В тот раз их с трудом развели в разные стороны Лилиан и Пашута, причём Раймун, когда его уводили, вопил, что он вообще никогда не числился в пионерах, а Тихон, размахивая палкой, злорадно уськал: «Молокосос! Молокосос!» Ссора меж ними тянулась до сего дня, и, окликнув Раймуна, Тихон как бы протянул руку примирения.
– А чего землица, – нехотя отозвался Раймун. – Не всё ли равно, куда зароют.
– Неужто тебе всё равно, Михалыч?
Раймун нахохлился, почуяв подвох. Оглянулся на Лилиан, которая копошилась неподалёку.
– Беспокойный ты, однако, старик, словечка без подковырки не скажешь.
– Сроду никого не подковыривал, – искренне удивился Тихон. – Интересуюсь из чистого любопытства. Неужто всё одно тебе, где лежать? Я тоже молодой был, но сколь себя помню, тянуло ближе к дому. А как же! Тут родичи захоронены, да мало ли… Услада душе там, где с деревцами, с травой рос. Даже волка в лес околевать тянет, на родину, словом. Никогда волк на равнине не сдохнет.
– Про волка ты верно сказал, старик, – снисходительно согласился Раймун. – Это самое удачное для человека сравнение. Только я-то шерстью пока не оброс, заметь себе. Мне иные, не волчьи мысли доступны. Не желаю гнить в куче со всяким отребьем. Коли ты о смерти заговорил, старик, по моему разумению, лучше нет конца, нежели в огне сгореть. Пусть ничего не останется. Одна зола.
– Верно! – обрадовался Тихон. – Издревле славяне покойников на кострах сжигали. Это хороший обычай. И на капище богу огня молились тож.
– А ты откуда знаешь?
– Да как же, как же… – Тихон замешкался, вспомнив, как злобно относится гость к его откровениям, но остановиться уже не мог. – От сведущих людей знаю. Приходят некоторые, мы и обсуждаем… Да это же тебе всё в диковину, Михалыч.
– Ну-ну, давай дальше.
– Не серчай, Рома, понапрасну. Ко мне приходят, к тебе нет – ну и что? Обиды для тебя никакой. Доживёшь до моих лет, может, и к тебе наведаются. Ты не ждёшь, а они явятся. Вполне может статься. Ты человек неплохой, хотя и озлобленный. Они тебя постепенно утешат.
Раймун резко обернулся к Лилиан:
– Одного не пойму, зачем ты меня сюда притащила? У нас что, своих дураков мало? Прогуляться захотелось, бегуна своего повидать! Ну, повидала. Рада? Копай теперь, копай… Надеешься, заплатят?
Лилиан сделала вид, что оглохла. Она ещё, кажется, ни разу спины не разогнула, но далеко не продвинулась. Так копала, точно под каждым пластом мужа искала. Откидывала кучку, аккуратно её разрубала на мелкие части и подолгу разглядывала. Вид у неё был сиротливый. Не дождавшись от неё ответа, Раймун вдруг отбросил лопату и пошёл к деду Тихону, на ходу доставая сигареты, чтобы старик не заподозрил чего худого.
– Закуривай, дедуля, – сказал неожиданно приветливым тоном и даже расплылся в подобии благожелательной улыбки.
– Не курю, соколик. Как есть с войны в рот не беру эту отраву и тебе не советую.
– Опасаешься рак получить?
– А вообще оно ни к чему.
Раймун задымил, огляделся по сторонам, спросил, понизив голос:
– А скажи, старик, как они выглядят?
– Кто?
– Которые, говоришь, навещают.
Дед улыбнулся просветлённо:
– Стало быть, уже припекло?
Раймун крякнул, рванулся уйти, но всё же смирился. Он грехов за собой не ведал, он, как и многие прочие на земле, надеялся некую общую истину в мире понять, А она ему не давалась.
– Припекать не с чего, – ответил угрюмо, но честно. – А и впрямь блазнится иной раз чертовщина. Вот будто окликнуть кто хочет, а голосу ему не хватает. Опасаюсь я этого, старик… От психушки никто не застрахован. Не хочется, чтобы на цепь посадили на склоне лет.
– Не посадят, – обнадёжил Тихон. – Ты шибко об этом не распространяйся – и не тронут. Я вон целый пока… А я-то гадаю, с чего ты на меня аки пёс бросаешься? Выходит, у тебя малое знамение было.
– Что за малое знамение, старик?
Раймун более не таил свой острый интерес, но по сторонам глядел зорко, оттого стал похож на коршуна. Тихон поискал глазами, нету ли поблизости пенька, заговорил неспешно, чинно огладив бороду:
– Перед прибытием, сынок, они завсегда сначала дают знамение. Кому голосом, как тебе, кому сквознячком. У них способов много. По сердцу скользнут, как шерстинкой, главное, чтоб ты услыхал. Это вроде проверки. Если услыхал, обязательно придут. Тут сомневаться не приходится. Жди со дня на день.
– А зачем?
– Что – зачем, сынок?
– Зачем приходят и кто? Предупреждаю, старик, коли ты надо мной глумишься, худо будет. Я не погляжу, что из тебя труха сыплется.
– Ничего из меня пока не сыплется, – возразил Тихон. – Скажи, Роман Михалыч, кто тебя по-русски так складно обучил говорить? Вроде без всякого акценту. И жена твоя тоже шпарит, упаси бог. Вы кто по нации?
Раймун, видно, уже пожалел, что поддался слабости и подступил к чумному старику с расспросами. Нижняя губа у него брезгливо полезла на верхнюю.
– Латыш я. Ну и чего?
– Латышей я знавал, серьёзные люди. Латышские стрелки были при революции, тоже прославились… Что ж, тогда к тебе твои земляки и наведаются, латыши. К каждому свои ходют, так уж заведено.
– Зачем ходят-то? Ты можешь ответить?
– А ни за чем. Посидите, покалякаете. Они тебе обскажут, как прежде жили. Ты своими горестями поделишься. Но большого утешения от них не жди. Они много сами не ведают. Зато не лукавят. Им лукавить смыслу нету. Это мы привыкли, как чего, дурачками прикидываться. А им без нужды. Они своё честно отбыли.
– Всё сказал, старик?
– А чего тебе ещё?
Раймун молча побрёл к своей делянке, проклиная себя за неуместное ребячество. По дороге наткнулся на Спирина, у которого с самого утра лопата в руках мелькала, как ложка у изголодавшегося едока. За ним чёрная борозда стелилась, точно трактором вспаханная. Лоб у него блестел от пота, глаза лучились радостью.
– Притомился немного, товарищ Раймун? – спросил с уважением.
– Мне притомляться рано. Я тогда притомлюсь, когда тебя отсюда на телеге вывезут. Ты скажи, как будешь оплачивать наёмный труд?
Спирин рассмеялся от полноты чувств.
– Поглядите, какой день, Раймун! Какое солнце. И мы все вместе на картофельном поле. Это ведь блаженство для души. Разве вы не чувствуете?
– Хитрый ты парень. Все вы тут, я смотрю, не простаки.
Владик Шпунтов и Вильямина сошлись посреди поля, куда их привела каждого своя борозда. Владик еле дождался этой минуты.
– Ну что, – спросил осторожно. – Удостоверилась?
– В чём, Владик?
– Напрасно себя унижаешь, Виля. Ты ему больше не нужна. Хоть ты к нему с занозой приди, хоть с подарком, он не оценит. Мне жалко тебя. Неужели у тебя никакой гордости не осталось?
Её взгляд просиял небесной чистотой.
– Пустое, Владик. Ты об этом не думай. Ты не устал?
– Оставь его в покое, Виля. Ему эта девчонка так кишки перемотает, его никто не спасёт. Нам о себе подумать пора.
– Никого я не собираюсь спасать. Какой ты смешной сегодня, Владик. Ты дыши глубже.
К тому часу, когда солнце укрепилось прямо над полем, подоспела Урсула с пятилитровым бидоном молока и корзиной с пирожками и бутербродами. Устроили большой привал. Земля была перелопачена почти вся, оставалось прорыхлить – и можно начинать посадку. Огромную корзину с припасами умяли за пять минут, даже старушки насыщались с таким рвением, будто всю зиму просидели зубы на полку.
Спирин оглядывал всю бригаду торжествующим счастливым взглядом. Пашуте подмигнул победно: а ты, мол, сомневался. Но у того не так уж весело было на душе. Картошку высадить артельно – дело нехитрое, свычное большинству из этих людей. Но о чём это говорит? Человека с земли согнали, посулами его не вернёшь. Да и какая в том особая необходимость? Возвращаться к земле затем, чтобы опять всего на Руси в избытке стало, – вряд ли стоит. Тут можно обойтись иными средствами, которые уже придумал машинный век. Правда, чего греха таить, сорвавшись с исконных мест, человек точно становую жилу себе надорвал. Он теперь живёт в бегах, не чуя принадлежности своей к великому вселенскому духу. Человек не земле изменил, а сокровенному достоинству в самом себе. Оттого оказался бесприютен и сир в больших и удобных городах. Там скопление, но не общность, там каждый сам по себе держится, уповая хоть в собственных квартирах ненадолго укрыться и уцелеть. А от чего уцелеть? Город давно болен манией самоуничтожения, и обитатель его редко просыпается по утрам с безмятежной улыбкой. Страх неминуемой беды невыносимо давит на сознание. Но что же делать? В деревнях, как эта, доживают век последние старики, они унесут с собой, как тайну, запрятанную в крови первозданную радость бытия. Они этой тайной уже не смогут поделиться. Природа схоронит её вместе с ними и этим отомстит безумцам, замахнувшимся на её величие. Спирин тщится влить новую струю в разбитый сосуд. Но кому это по силам? «Как жизнь коротка, – думал Пашута. – Ничего не успел понять, а она уже пролетела. Что теперь? Остаться со Спириным, значит, Вареньку потерять навеки. Она здесь всё равно не приживётся. С ней в Москву вернуться – как за туманом погнаться…»
– Варенька, как твои ручки-ножки? Держат ещё тебя?
– А то! Мне любая работа по плечу, ты не думай. – Голубая молочная капля нежно стекает у неё с подбородка…
После привала Спирин командировал старух с Урсулой, чтобы они помогли ей с праздничным ужином. Старухи поартачились для виду, но подчинились, уж больно их солнце разморило, поплелись к посёлку печальной вереницей.
Остальные разделились на две бригады. Одни, кто пожилистей, доканчивали пахоту, другие – во главе с дедом Тихоном – занялись картошкой. Тихон к своей задаче отнёсся серьёзно, собрал вокруг себя девиц и произнёс напутственное слово:
– Значит так, городские дамочки. На каку глубину пихать и на каком расстоянии – всё сейчас покажу раз и навсегда. Баловства быть не должно. Это вам не конфеты хрупать. Посля войны мы шелуху садили, а урожаи были не чета нынешним. Это всем надобно помнить. И ты, Варька, не скалься сверх меры. Чуть чего не так – во! Поняли, девицы-красавицы?
Кулак у деда был мосластый, жёлтого цвета, и понять его было нетрудно. Однако Варя уточнила:
– Может, нам тоже шелуху посадить, дедушка? Раз от неё урожай больше.
Тихон ей не ответил, а Вильямина и Лилиан поглядели на юную соперницу с неодобрением.
Ближе к вечеру, когда работа пошла на убыль, а Варе чудилось, что она уже сто лет ползает взад-вперёд по этому проклятому, стылому полю, по дороге от села подкатил «жигулёнок» и остановился в отдалении. На него поначалу никто не обратил внимания. И самого Петра Петровича Ха билу, одетого в тёмный плащ военного покроя, заметили, когда уж он приблизился вплотную.
– Начальство прибыло, – окликнул Спирин Пашуту. – А ведь сегодня воскресенье. Какой чёрт его принёс на наши головы?
– Ничего страшного. За нами вины нет. Картошку садим для общей потребности.
Хабило, насладившись зрелищем трудящегося народа, зычно гаркнул:
– Варвара! Эй, Варя! Поди сюда на минутку.
Варя зов услышала, подняла голову и из последних сил, но приветливо Хабиле улыбнулась. Однако к нему не пошла, ей оставалось два рядка, и она прикинула про себя, что дойдёт до края, там ляжет на траву и будет лежать до тех пор, пока рабовладелец и самодур Павел Данилович не донесёт её на руках до самого дома.
Своим поведением она поставила Хабилу в неловкое положение. Кричать вторично было смешно, идти самому по перепаханному полю в лаковых штиблетах – далеко и глупо, стоять на месте и делать вид, будто о чём-то задумался, значило ронять авторитет руководителя.
Хабило достал сигареты и закурил. «Ну, погоди, – подумал он. – Ты ещё узнаешь, девочка, что со мной нельзя так обращаться».
Тут, слава богу, за очередной порцией картофеля к мешкам подошёл дед Тихон. В руках у него болтались две пустые корзины.