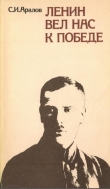Текст книги "Подвиг пермских чекистов"
Автор книги: Анатолий Марченко
Соавторы: Олег Селянкин,Авенир Крашенинников,А. Лебеденко,Н. Щербинин,Иван Минин,Иван Лепин,Галим Сулейманов,И. Христолюбова,Ю. Вахлаков,В. Соколовский
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
– После операции отмечалось заметное улучшение. Но сейчас опять плохо. Из Кудымкара главного хирурга вызвали. Сообщили, на мотоцикле выехал.
Раненый, метался. Его мучил то жар, то озноб. А доктор не появляется. Скоро сутки будет, как известили, что он выехал, а все нет и нет.
Приехал он только вечером шестнадцатого сентября, на шестые сутки после ранения. Все облегченно вздохнули: окружной хирург – доктор опытный. Уж он-то поможет, спасет.
Главный хирург округа Степан Петрович Вилесов, высокий, полный, в больших роговых очках, для своего внушительного веса довольно ловко выпрыгнул из люльки, вытащил из-под полога пузатый баул. В ординаторской он тщательно привел себя в порядок, переоделся во все белое, привезенное в бауле. Из него же он вынул и передал дежурной сестре ящичек с инструментарием:
– Обработать! А вы, милейший, – метнул он взгляд в сторону Емельянова, – распорядитесь по части операционной, чтоб стерильная чистота, блеск!
Операцию он провел уже ночью, при свете керосиновых ламп и свеч. Длилась она несколько часов.
После, пока санитары переносили больного из операционной в отдельную палату, хирург, потный и усталый, еле держась на ногах, ходил из угла в угол, молча, по-стариковски жевал губами, в забытьи вздрагивал. Затем, маленько успокоившись, он стремительно встал, толкнул дверь, едва не сбив с ног молодую женщину, стоявшую в коридоре.
– Почему вы здесь, сударыня? Прошу прощения!
– Я не сударыня. Я жена раненого. Как он, что?
– Говорить об этом рано, операция была тяжелой. Вам следует успокоиться, отдохнуть. У вас есть дети?
Надя ничего не ответила. Она только подумала: зачем о детях? И тотчас дрогнуло сердце, оледенело в груди: господи!
И опять потянулись часы, минуты, полные тревог. Еле дождавшись утра, Надя, сильно волнуясь, прибежала в больницу. Строгий хирург ее не принял, даже в палату не пустил. Он никого не пускал туда, даже Емельянова. Несколько раз приходил секретарь райкома Егор Кузьмич Густоев – и его не принял. Приходил Николай Васильевич Чугайнов. И тот ушел ни с чем. Было ясно: больной в критическом состоянии. Уже под вечер Егор Кузьмич и Николай Васильевич вновь заявились в больницу. На этот раз они застали хирурга в коридоре. Осунувшийся, он тяжело прохаживался туда-сюда, держа в одной руке очки, а в другой скомканный носовой платок.
На немой вопрос секретаря райкома он ответил не сразу. Делая вид, что сильно занят протиранием своих громадных очков, он виновато прятал взгляд, тянул время. Но сколько ни тяни, а говорить придется. Видимо, поняв это, доктор оставил в покое очки и тихо сказал:
– Увы, чудес на свете не бывает. У больного обнаружилось заражение крови. Если бы хоть чуточку пораньше...
Его мысль закончил секретарь райкома:
– Если бы не наши расстояния и не избитые дороги...
И сдернул с головы фуражку.
– Его жену искать не надо, – сказал доктор. – Она с детишками в палате. И беспокоить ее пока не следует.
– Да, да, – как эхо, повторил секретарь райкома и, не простившись с доктором, вышел на улицу. За ним последовал и Николай Васильевич Чугайнов.
Спускаясь с крыльца, Егор Кузьмич круто помотал головой и, глядя под ноги, тихо проговорил:
– Вот и потеряли еще одного человека-борца. Такого человека потеряли.
– Отчаянный был, самоотверженный, – ответил Чугайнов.
– Вот именно: самоотверженный, настоящий чекист. Его имя не забудет народ, – заключил Густоев.
Они миновали старый сад, повернули к райкому. У высокого крыльца толпились люди, стояли оседланные кони. В стороне от райкома, на скамейке под чугунным забором-решеткой, теребя кончик бесцветного измятого платка, сидела плохо одетая женщина с двумя ребятенками. Усталая, без единой кровиночки на лице, она смотрела на людей ничего не выражающим тусклым взглядом, была, казалось, совершенно безучастна к жизни. Детишки, как и она, были худые и бледные, одетые во что попало. Тут же суетился седенький, обросший до самых глаз сельский пастух Фектис. Когда секретарь райкома и Чугайнов приблизились к скамейке, он толкнул женщину в бок, помог ей встать.
– Кто такие? – спросил Егор Кузьмич.
Обращаясь к женщине, он повторил вопрос. В ответ она только кончик платка поднесла к губам, глаза и тут не ожили.
– Вот пришли, мил человек, – ответил за сестру старый пастух. – Борис Тимофеевич помочь обещался.
В разговор вмешался Чугайнов:
– Эта женщина – Матрена Архиповна Митюкова, супруга Сабана Прокопа, того самого, который, помните...
– Интересно, интересно. Продолжай.
Чугайнов рассказал все, что знал.
Под конец сообщил:
– Незадолго до ранения Борис Тимофеевич говорил: «Дело Матрены надо быстрее довести до конца, надо спасти детей». Старших он хотел определить в учение, а маленьких устроить в детдом. Хотел устроить на работу и ихнюю мать.
Секретарь райкома выслушал его до конца, ни разу не перебил, затем долго морщил лоб, размышлял.
– Ну ладно, коли так, – произнес он наконец. – Борис Тимофеевич знал, что делал. Доведем его дело до конца. Веди, их, Николай Васильевич, чтоб оформили нужные документы. Без всяких проволочек. Слышишь, дед? Идите в районный исполком. Там все сделают.
Пастух низко поклонился, затараторил:
– Спасибочко, спасибочко. Дай бог здоровья и вам, и доброму человеку Борису Тимофеевичу...
Он еще не знал, что его благодетеля уже нет в живых.
На улице стояло бабье лето. В безоблачном небе, собираясь в теплые страны, протяжно курлыкали журавли-сеголетки: курлы, курлы! Прощай, красное лето...
Круто забирал листопад. Катился к закату тяжелый и тревожный тысяча девятьсот тридцать первый год.
«Его имя не забудет народ», – сказал первый секретарь райкома Егор Кузьмич Густоев. Слова его оказались пророческими. С той драматической поры прошло полвека, а память о доблестном чекисте жива. Из поколения в поколение передаются о нем рассказы, воспоминания. В центре села Коса, под вековыми тополями и березами, где похоронен Борис Тимофеевич Боталов, поставлен памятник. Его именем названа одна из улиц села.
Народ помнит своего сына.
Иван ЛЕПИН
Тревожные километры

1
Афонин целился тщательно, наверняка. Из-за угла лесной избушки-зимовья ему хорошо была видна старая ель, за которой стоял боком к нему тот, кто только что чуть не убил его, Афонина-старшего, – пуля прошила воротник полушубка.
Афонин целился в голову, а точнее – в шапку, немного видневшуюся из-за дерева.
Не дыша, он, наконец, выстрелил.
Афонин видел, как на уровне шапки из ели брызнул пучок золотистых искр-щепок, но человек не упал. И тут же он ощутил боль в правом плече; опуская руку, державшую маузер, в сыпучий снег, выругал себя:
– Мазила... Теперь мне – конец...
Стоявший за деревом, поняв, что обитатель избушки ранен, махнул кому-то в глубь леса рукой:
– Ребята, заходи сзади. Теперь он – наш.
2
Кулаки-мироеды братья Афонины были осуждены за убийство молоденького председателя колхоза Гаврика Монастыренко. Летом тридцать пятого года они с группой бывших кулаков и белогвардейцев совершили побег из мест заключения. Два месяца ушло на безуспешные поиски преступников. Казалось, что они провалились сквозь землю – никаких следов не оставили после себя. И вдруг в Гаринское районное отделение ОГПУ Уральской (ныне Свердловской) области в начале октября поступил тревожный сигнал: неизвестными зверски убит председатель сельсовета. По всем приметам, среди них находились братья Афонины: Герасим, старший, и младший – Федор. Численности банды никто не знал, но было предположение, что в ней находилось пятнадцать-шестнадцать человек.
Шестого октября оперативный уполномоченный Павел Власов вместе с милиционером Конюховым вышел к месту происшествия, находившемуся от Гарей за шестьдесят с лишним верст. Шли по глухим лесным дорогам, утопая в осенней грязи. Шли под мелким дождем, всухомятку подкреплялись небогатым провиантом, приготовленным Власову женою, а Конюхову – матерью: не успел еще жениться двадцатилетний комсомолец. Нередко попадались болота, словно губка, пропитанные водой. Идти по ним было страшновато и небезопасно: болотная дернина под ногами дышала, как живая, иногда казалось, что стоит сапогом продавить ее – и гнилая жижа мгновенно засосет ногу, затянет в свою бездонность.
В поселке Кама, где было совершено злодеяние, к чекистам присоединился местный лесник Боталов. От него Власов и Конюхов узнали об очередном преступлении. На этот раз бандиты не пощадили двух колхозных активистов.
Надо было действовать быстро, оперативно, не теряя ни минуты времени.
Боталов поведал также, что, по свидетельству охотников, бандиты орудуют небольшими группами, по два-три человека, прячутся они в заброшенных скитах и охотничьих избушках.
Подсушив обувь и одежду в доме лесника, Павел Власов приказал своим спутникам собираться в дорогу, благо к вечеру выпал снежок, малость подморозило. Вечером же, не желая быть замеченными, они покинули поселок.
Небо было ясным, звездным. Дышалось легко, свободно. Снежок похрустывал под сапогами. Мысли приходили самые радужные: вот нападут они на след бандитов, переловят их поодиночке, и – через какую-нибудь неделю – можно докладывать о выполнении задания.
Всем нам, людям-человекам, свойственна слабость – детски наивная вера в скорое торжество справедливости. Все-то нам не терпится приблизить этот счастливый час. И потому спешим-торопимся, подгоняем время.
Не осудим мы и Власова, который без конца подстегивал своих спутников:
– Быстрей, ребята, быстрей! Далеко от нас бандиты не уйдут.
Если бы он знал, что намеченная им для операции неделя растянется на долгих два с половиной месяца! Может, тогда не через десяток дней, а сразу же по выходе из поселка понял: не для того бандиты бежали из тюрьмы, чтобы запросто попасться в руки молодого работника ОГПУ. Не для того! Они еще раз попытаются свести счеты с советскими активистами, со свидетелями, которые выступали против них на суде, просто с честными людьми – по-звериному ныне озлоблены Афонины на всех честных людей.
Первый снег продержался недолго, два-три дня, и снова тайгу окутали густые серые туманы. Шли на север, там, в таежной глухомани, по слухам, обитали бандиты, там они продолжают чинить свои черные дела.
Если не попадалось зимовье, спали под открытым небом – под густыми елями, на настиле из мокрых хвойных лапок.
Только на восемнадцатый день были схвачены первые два бандита. Они указали местонахождение некоторых других членов разбойничьей шайки.
И снова – тайга, немеренные километры, пронизывающий до костей холод. Особенно тяжело было переносить длинные осенние ночи. Усталость буквально валила с ног, нестерпимо хотелось спать. Уж давно свыкся Власов, свыклись его товарищи с не очень сытными лесными буднями, к неустроенности привыкли, к опасности, наконец: из-за каждого дерева могли в тебя целиться бандиты. А вот холод донимал. Отчаявшись уснуть, дрожа, стуча зубами, подхватывались среди ночи и устраивали пробежки, начинали бороться, чтобы хоть маленько согреться. Или на свой страх и риск разводили ночью костер из кряжей, уложенных накрест. И чем дальше на север они шли, тем становилось холоднее, морозы теперь не отпускали, тайга покрывалась ровным слоем снега.
Но приходилось терпеть, приходилось привыкать и к холодам.
А что делать? Возвращаться, не поймав Афониных? Просить смены? Ну дадут ее, допустим. Так разве сменщик – железный человек? Он не будет страдать? «Ладно уж, Власов, – говорил он сам себе, – негоже с полдороги возвращаться».
Иногда жену вспоминал, Матрену Ивановну. Как она там с детьми управляется? Помогает ли ей Галя, семилетняя старшая дочь? Обещала помогать, когда он уходил из Гарей, приглядывать за двухлетней сестричкой и полугодовалым Генкой.
Матрена к его службе относится двояко. С одной стороны, она понимает, что Павел у нее – человек нужный, полезный обществу, член партии. А с другой стороны, какой это жене понравится такая, как у них, жизнь? Судите сами.
Двадцать седьмой – двадцать девятый год. Армия. Служил в кавалерии. За басмачами по среднеазиатским степям да пустыням гонялся. Ранен был. Зрение потерял. Потом оно, правда, восстановилось, но комиссовали.
Ладно, армия есть армия. Дело общее, как говорится. Главные путешествия начались позже. Его, уроженца деревни Власово Свердловской области, избирают председателем Усть-Салдинского сельсовета. Недалеко это, а все равно переезд, новые люди, новое устройство хозяйства.
Через восемь месяцев Власов – избач, а одновременно и секретарь партячейки села Красная Гора. Вскоре райком партии рекомендует его для избрания председателем колхоза «12 лет Октября» в селе Верхотурье.
Жили, считай, на колесах. Потому что уже в марте 1930 года председателя колхоза Павла Власова, отлично показавшего себя в борьбе с кулачеством, приглашают на работу в Верхнетуринский отдел ОГПУ. Через два месяца его переводят в Надеждинск (ныне Серов), где он ведет оперативную работу.
В феврале тридцать второго года Власов уже в Гарях – сначала в райкомендатуре, затем – в отделении ОГПУ. Тут малость задержался. Матрена Ивановна не верила себе: «Неужели осели мы наконец?» – «Надо думать, что осели», – успокаивал ее Павел.
Пока же о предстоящем переводе Власов не знал и, вспоминая жену с ребятишками, думал, что Матрене теперь укорять его не за что, жизнь на постоянном месте наладилась. А что он отлучается надолго, так тут его вины мало: просто огромна территория района, ее не то что пешком, на коне за неделю не объедешь.
Одно сейчас тревожило Власова: слишком затянулись поиски остальных членов банды – двенадцать человек уже были пойманы, двое сами сдались местным властям. Выследили они и младшего Афонина – Федора. Нелегко, правда, дался он: Конюхова, милиционера, гад, ранил в левую руку. Конюхов покинуть оперативную группу отказался под предлогом легкого ранения, но Власов не верил его словам, слыша, как во время сна тот постанывал. Да и температура у него уже не раз поднималась. «Перевязку бы ему сдалать по всем правилам, иначе может случиться непоправимое», – размышлял Власов.
И посему торопился разделаться с Афониным-старшим.
Впрочем, была еще одна причина.
Уж очень ему хотелось отметить свое тридцатилетие дома, в кругу семьи. Оно у него будет скоро, через несколько дней – накануне Нового года.
Он устроит настоящий праздник! Обещали приехать из деревни мать с отцом, может, из братьев и сестер кто пожалует. Павел всегда рад гостям. Доброму человеку в его доме никогда не было отказа – и накормит, и напоит, и спать на лучшем месте уложит. Павел с детства воспитан приветливости да доброте. Зная, какой ценой достается хлеб трудящемуся человеку (батрачил он с десяти лет), Павел, однако, считал жадность позором. Он не мог себе представить такого положения, чтобы бедняк бедняку, пролетарий пролетарию не протянул руку помощи. Сколько раз, бывало, Павел последним делился даже с людьми вовсе незнакомыми! Сколько людей делилось последним с ним, тоже незнакомым. Взять вот эти месяцы скитания. В какую бы деревню, в какой бы хутор ни заходили они, нигде и никто не отказывал им в куске хлеба, в миске горячих щей.
Ни разу Павел не отмечал как следует свой день рождения. Все недосуг, все некогда, а порой просто забывал про него, вспоминал задним числом. А тридцатилетие уж он отметит! Во-первых, он заодно и свое возвращение отпразднует, во-вторых, не просто возвращение, а успешное, благополучное выполнение важного задания. Иного конца, кроме успешного, он и в мыслях не допускал. Остался ведь один Афонин-старший. Только бы Конюхов со своей раненой рукой не подкачал...
Павел неожиданно споткнулся о выгнувшийся змеей корень ели, чуть не упал. Выругался про себя: «Фу, черт! Что это я, как сонный иду, под ногами ничего не вижу?»
И тут в глубине леса он заметил охотничью избушку. И человека возле нее. Одет он был в белый полушубок, сидел у дверей, покуривая.
Треск сучьев под ногами Павла заставил человека насторожиться.
Власов мигом спрятался за деревом. Посмотрел по сторонам. Слева, метрах в тридцати, и чуть сзади шел милиционер Конюхов, он не выпускал из вида Павла и тоже притаился за елью.
А где же лесник Боталов? Он должен быть справа. Но, видимо, увлекся ходьбой, ушел вперед. Как бы не напоролся...
Тех секунд, которые Власов потратил на поиски товарищей, хватило незнакомцу, чтобы исчезнуть из зоны видимости. «Неужто сбежал?» – похолодело внутри у Павла.
Прячась за деревьями, он стал приближаться к избушке.
В какое-то мгновение он заметил за углом избушки уголок воротника и не целясь выстрелил.
А сам снова спрятался за толстой елью.
Власов не предполагал, что мог попасть в Афонина. В том, что они наскочили на Афонина, Павел почему-то не сомневался. Эта неожиданная встреча, это ощущение близкой развязки придали ему сил и разумной отчаянности.
Но вот раздался выстрел, несколько мелких щепок от ужаленной пулей ели впилось в лицо Павла.
Павел не слышал слов стрелявшего: «Мазила... Теперь мне – конец...» Он сделал знак рукой в глубь леса:
– Ребята, заходи сзади! Теперь он – наш...
И продолжал внимательно наблюдать за избушкой.
Несколько минут прошло в напряженном ожидании. И тут раздался выстрел.
«Ружейный», – определил Павел. Значит, стрелял Боталов.
Павел сделал несколько прыжков к избушке. И увидел: возле нее корчился Афонин, белый полушубок его был вымазан кровью. Из леса, навстречу Власову, бежал Боталов, крича:
– Хорош!.. Сколько веревочке ни виться...
Да, это был Афонин – его опознали в ближайшей деревне.
...Свое тридцатилетие Власов скромно отпраздновал в тихой заснеженной Чердыни.
3
Сотни больших и малых дел прошли через руки Павла Ивановича Власова. Одни вскоре забывались, другие держались в памяти дольше, но все равно со временем выветривались, растаивали, словно льдинки на солнце. Были – и нету.
А вот «дело Тивуртия», самое значительное после операции по уничтожению банды братьев Афониных, запомнилось. Почему? Да, видно, очень уж оно необычным было. Деликатным. И во многом поучительным.
После Чердыни Власов успел поработать в Ирбите, Уинском, а когда образовалась Пермская область, его перевели в областное управление НКВД. В марте тридцать девятого года это случилось.
А «дело Тивуртия» началось в сентябре того же года.
Предыстория его такова.
В начале тридцатых годов на территории Кировской области развила бурную деятельность секта истинно православных христиан. Возглавлял ее ярый враг советского строя, бывший белогвардеец Пермяков. Члены секты находились на нелегальном положении, не признавали Советскую власть, отказывались от получения документов, вели активную антисоветскую агитацию: призывали не участвовать в государственных мероприятиях, отговаривали молодежь от службы в Красной Армии, от общественного труда.
Секта к тому же была изуверской. Пермяков и его верный помощник Тивуртий Накоряков всячески терроризировали членов секты, принуждали их к массовым самоумерщвлениям, совершали насилия над женщинами и несовершеннолетними детьми.
Изуверству Пермякова и Накорякова, казалось, не было предела. Жертву, доведенную в своей вере до фанатизма, они обычно заставляли голодать до десяти дней, затем истощенного, обессилевшего физически и нравственно человека принуждали к самоубийству. Методы – самые разные: сожжение, утопление в прорубях рек, болот, отравление ядами. Своим жертвам главари секты обещали после смерти «мученический венец и вечное блаженство на небе».
Сколько их, обманутых религиозным невежеством людей, вот так ушло из жизни!
Естественно, мириться с деятельностью изуверов было невозможно, и главари кировского придела секты были справедливо осуждены.
На том процессе не раз подчеркивалось, что Советская власть не выступает против религии в принципе, наоборот, она гарантирует свободу совести. И верующие, и атеисты в нашем государстве пользуются одинаковыми правами. Но никому не дозволено, ссылаясь на свои религиозные воззрения, заниматься противоправной деятельностью.
Отбыв наказание, Тивуртий Накоряков (кстати, мирское имя его – Алексей; все члены секты отказывались от обычных имен) поселился в Перми, не думая, однако, прекращать прежние связи, прежние занятия. Вслед за ним потянулись и активисты секты: Анифаиса Капаева, сестры Феофила, Аглаида, Пелагея Антоновы (обратите внимание на имена!), Христофор Хитрин, Хотинья Мосягина, Ефимья Скворцова... Живя без прописки, без документов, они организовали пермский придел секты и приступили к пропаганде своих идей, вовлечению в секту новых членов. Их щупальцы протянулись довольно далеко: в Верещагинский, Ильинский, Оханский, Очерский, Кунгурский, Большесосновский районы, в некоторые районы Свердловской области.
Плели паутину сектанты искусно, скрываясь под личиной благодетелей, добрых советчиков, бескорыстных помощников. И попадали в эту паутину, как правило, люди легковерные, слабовольные. Хотя и не только они. Всячески поддерживали сектантов, охотно вступали в их ряды бывшие белогвардейцы и кулаки, всевозможные преступники, избежавшие возмездия в силу различных обстоятельств.
Вот что примерно знал оперативный работник Власов, приступая с товарищами к работе по выявлению членов группы Тивуртия, занимавшихся враждебной деятельностью.
4
Роста он чуть выше среднего, худощав. Обут был в высокие сапоги домашнего пошива; в поношенной косоворотке; на голове – старая помятая шляпа; в правой руке – суковатая палка. Странник – и только, а не чекист Власов. Он шел из села в село, из деревни в деревню. Будучи по характеру общительным, разговорчивым, легко вступал в беседы с местными жителями. Расспрашивал о житье-бытье, о колхозах расспрашивал, как дела в них идут, какие проблемы-трудности возникают у крестьян.
– А сам ты кто будешь? – не раз ответно интересовались собеседники.
– Человек, – улыбался Власов. – Вот ищу, где бы да к кому пристать.
За разговорами – серьезными и шутливыми – выяснял, не слышно ли чего об истинно православных христианах.
В небольшой деревеньке Андрюшата один старичок, в избе которого Власов остановился, доверительно сообщил:
– У нас свои, местные, все на виду. А вот у Софрона Голубкова две неизвестные женщины часто ночуют. Сам он – мужик замкнутый, недобрый, с расспросами к нему мы не пристаем. Слышно, однако ж, что женщин этих в соседних деревнях видели. Вроде б, как ты говоришь, из особых они христиан, в церковь нашу не ходят и других отговаривают...
Павел Иванович вежливо простился со старичком, на прощание пахучей махоркой его угостил, не показывая вида, что его заинтересовали те самые женщины и их особая вера.
В сельсовете он выяснил личность Софрона Голубкова. Да, сказали, человек сложный. В колхоз вступить отказался: «обижен» на Советскую власть – в конце двадцатых годов отбывал наказание за избиение сезонного работника. Сейчас – единоличник. На последних выборах не стал голосовать.
Выяснилось вскоре, что тем двум женщинам Софрон не только давал приют, но и снабжал их рекомендательными списками «своих» людей.
Дело Софрона до конца доводили чекистские органы, а странник в высоких сапогах и с суковатой палкой в руке шел дальше.
Нити паутины редели, Тивуртию все труднее приходилось управлять своими подопечными, а сам он все чаще менял места жительства и тщательнее конспирировался.
В середине ноября Тивуртия все-таки задержали. Возле Оханска, в одном из скитов.
Вскоре удалось выследить и сподвижницу Тивуртия Ефимью Скворцову. Женщина эта горела ненавистью ко всему новому, советскому. Отпрыск дворянской семьи, она всячески восхваляла царский режим, дореволюционные порядки, призывала бойкотировать любые начинания Советов. Двадцать три года – со времен Октября – находилась Скворцова на нелегальном положении, вела паразитический образ жизни. По заданию Тивуртия неоднократно для связи с другими главарями секты выезжала в Горький, Казань, Астрахань, в подпольный центр истинно православных христиан.
Власов присутствовал на суде. Слышал ужасные подробности деятельности Тивуртия – Алексея Накорякова.
Вот лишь некоторые показания.
Аглаида Антонова:
– На моих глазах была сожжена двадцатилетняя девица.
Анифаиса Капаева:
– Голодной смертью умерла девица Марфа, сорока лет. Она голодала по приказу Тивуртия.
Еще одно показание – Феофилы Антоновой:
– Однажды из деревни Мураши Тивуртий увез куда-то инокиню Агнию. Вскоре он привез ее мертвой – ее утопили. Нам же Тивуртий объявил, что Агния умерла своей смертью. Но я знаю, что это не так.
Подсудимая Скворцова:
– При мне голодала девица Олимпиада, двадцати двух лет. Потом я уехала в Казань. Позже мне Тивуртий передал, что Олимпиада якобы попросила сжечь ее на костре, что и было сделано.
Власов, слушая, вытирал со лба холодный пот. Слушал и размышлял: «Зачем же вы скрывались от нас, от чекистов, бедные люди? Мы ведь жизни ваши спасали, будущее ваше и детей ваших. Идите, обманутые, с нами, становитесь в наш строй».
И вот, наконец приговор. Власов слышит четкие слова.
– ...Суд считает: враждебная деятельность сектантов полностью доказана...
Из зала суда Павел Иванович уходил с тяжелым осадком на душе. Закончилось очередное «дело», позади тревоги, волнения. Вроде бы радоваться надо – зло помог пресечь, – но вспоминал бесцветные глаза Тивуртия, Скворцовой, и опять наплывали тяжелые думы. Ну что бы людям не жить одной дружной семьей, не заниматься одним добрым делом? Ан нет! Неймется кое-кому, мутят воду. И сколько ж нужно еще сил приложить, чтобы очистить родник жизни нашей!
На улице было не холодно – не более десяти градусов мороза. Падал редкий снег. Он ложился на пальто, на шапку, при свете уличных фонарей игриво посверкивал. Власов шел не спеша, стараясь настроить свои мысли на веселый лад. Послезавтра – Новый, 1940-й год. Надо будет обязательно сходить с детьми в городской сад. Взять санки – и самых маленьких повезти в санках. И там, в еаду, он вдоволь покатает ребятишек с зеркальной горки.
5
Главари придела были преданы справедливому суду, но зло, чувствовали чекисты, еще до конца не пресечено, не все еще ниточки связей оборваны. И убедились в этом они довольно скоро.
Шестого марта в Кунгурский городской отдел областного управления НКГБ обратился рабочий подсобного хозяйства лесхоза Иван Григорьевич Ерофеев со следующим заявлением:
«Как я недавно узнал, знакомая моей сестры Громова Марфа в настоящее время ведет странный образ жизни: она нигде не прописана и прописываться не собирается.
В разное время в разговоре со мной Громова высказывала антисоветские измышления, заявляя, что она будто состоит в каком-то кружке верующих...»
И далее шел пересказ измышлений. Для Павла Ивановича и его товарищей – Александра Сонько, Андрея Шалаева, Ибрагима Кадырова – не новых.
Прочитав заявление, Власов полузакрыл глаза, долго сидел неподвижно. Размышлял, что делать, как действовать. И лучше прежнего, опробованного уже плана ничего не находил. «Надевай-ка снова, Павел, – говорил он сам себе, – сапоги, те, что повыше, да потрепанную шапку-ушанку, фуфайчонку, палку суковатую бери в руки и – в путь. Ты Урал и с той и с другой стороны не один раз измерил своими широкими шагами, придется еще разок постранничать...»
Правда, Матрена Ивановна начнет серчать-хмуриться: «Опять меня оставляешь с этим детдомом?» – и кивнет в сторону расшумевшихся ребятишек (к тому времени у Власовых их было семеро: пять своих и два приемных – сироты Витька и Галина). Сказать-то так она скажет, да тут же начнет тебя в дорогу собирать: найдет за шкафом ту самую палку, сапоги смажет, съестного на всякий случай положит. И даже перестанет тяжко вздыхать, чтобы не расстраивать тебя перед долгой отлучкой.
Вечером ты дашь своему подразделению конкретное задание, а рано утром по заснеженным мартовским улицам заспешишь... Куда заспешишь? Ты уже разработал маршрут: Кунгурский район; ребята же поедут в Ординский и другие районы.
Главная задача – установить адреса явочных квартир, где главари секты проводят враждебную деятельность среди рядовых сектантов.
На попутных машинах и лошадях Власов доехал до села Лобанове, а дальше – по Сибирскому тракту – пешком.
Приближалась середина марта. На Урале в такое время не редки еще тридцатиградусные морозы. Но нынче день выдался весенним, на чистом небе светило – до боли в глазах – уже позолоченное, а не багровое, как зимой, солнышко. Вдоль тракта небольшими стайками шмыгали воробьи, с криком и суматошной дракой налетая на свежий конский помет или пучок соломы, оброненный местным возницей, доставлявшим с дальнего поля корм колхозному скоту.
В полдень у мосточка через неширокую речушку, намертво скованную льдом, Власов присел отдохнуть. Снял фуфайку – солнце припекало, затем постелил ее на крепкий осевший снег, а сам – сверху.
Есть хотелось – жутко. Достал из вещмешка сваренную в мундире картофелину, не спеша очистил ее, посыпал солью, затем отрезал ломоть хлеба и, безмятежно глядя на небеса, на горизонт с темным лесом, на дорогу, стал есть.
Перекусив, захотел пить. Посмотрел туда-сюда вдоль речушки – не видно проруби. Решил перетерпеть.
И зашагал дальше, в сторону Кунгура. Расчет его был прост: до вечера «случайно» оказаться в той деревне, где, по сведениям, в настоящее время проживала Марфа Громова. Надо уточнить сообщенные сведения, заодно постараться выяснить, впрямь ли Громова такой человек, каковым предстает из письма, нет ли тут наговора.
За спиною он услышал гул мотора. Оглянулся – его догоняла полуторка. Власов вышел на середину дороги, поднял руку. Машина скрипнула тормозами, вздрогнула и резко остановилась у самых его ног.
В кабине, рядом с парнишкой-шофером, сидела неопределенных лет женщина в коричневом платке, опущенном до самых глаз.
– Подвези, сынок, – попросил Власов парнишку.
Тот взглянул на женщину – не возражает ли? Женщина не возражала.
Власов одну ногу поставил на колесо, другую перемахнул через борт. И полуторка тронулась.
В деревню он пришел, когда уже начали сгущаться сумерки. Деревня небольшая, дворов пятьдесят, стояла на угоре, под темным пологом леса.
Павел Иванович зашел в крайнюю избу. Во дворе слышен был голос хозяйки, незло поругивающей корову, – та, должно, мешала накладывать в ясли сено. Он подождал, пока хозяйка закончит работу, и нарочито громко спросил:
– Есть кто в этом доме?
Из стайки вышла невысокая женщина лет сорока. В руках она держала вилы – забыла поставить на место, испуганная неожиданным голосом.
– Здравствуйте, – дружелюбно улыбнулся Власов.
– Здравствуй, – ответила хозяйка. Измерила незнакомца проницательным взглядом, сказала: – Заходите в избу.
Зашли, сели за стол, друг против друга. Как водится, хозяйка стала расспрашивать: кто да откуда? Он сказал, что получил извещение о болезни отца и вот добирается теперь на родину, в Уинский район.