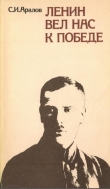Текст книги "Подвиг пермских чекистов"
Автор книги: Анатолий Марченко
Соавторы: Олег Селянкин,Авенир Крашенинников,А. Лебеденко,Н. Щербинин,Иван Минин,Иван Лепин,Галим Сулейманов,И. Христолюбова,Ю. Вахлаков,В. Соколовский
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Иван МИНИН
Ранний листопад

1
На десятое сентября 1931 года уполномоченному окружного отдела ОГЛУ по Косинскому району Борису Тимофеевичу Боталову был разрешен выходной день – нечто вроде отгула. Целое лето он мотался по деревням и хуторам, сутками не слезал с седла. Гоняясь за бандитами, он не раз смотрел костлявой в глаза, устал. И вот наконец выходной. На дворе осень. Это значит, в лесу поспела боровая дичь, на болотах и озерах вовсю бесятся от жира кулики и утки. Завтра будет пожива.
Да ведь не повезет – так уж не повезет. Случилось самое неприятное: нежданно-негаданно Борис Тимофеевич проспал утреннюю зорьку. Когда он открыл глаза, в комнате было уже светло, неутомимые ходики показывали десятый час.
– Надежда, почему не разбудила?
Жена, рослая, черноглазая южанка-смуглянка, – в Грузии встретились, там и поженились, когда служил на границе, – готовила завтрак. Она лукавым оком стрельнула в угол, где на широкой кровати посапывали сыновья – четырехлетний Славка и годовалый Николка, и прошептала одними губами:
– Тише ты, разбудишь. – И улыбнулась виновато. – Крупно ты спал. Я, Боря, рассудила: такой сон во сто раз дороже всех куликов и уток на свете.
– Рассудила! – незлобиво, для порядка, проворчал Борис Тимофеевич. – Добрые люди небось накрошили дичи вволюшку, уже домой возвращаются, а тут...
Ставя на стол тарелку с хлебом, жена между тем сообщила:
– А тебя старичок давно поджидает. Позавчера спрашивал, вчера тоже. И вот сегодня ни свет ни заря.
– Старичок? Кто таков? Где он?
– Да на улице. Приглашала в дом – не идет. Подожду, говорит, на завалинке. Да ты знаешь его. Это пастух, что частную собственность жителей Косы пасет.
Сельского пастуха дедушку Феоктиста, а попросту Фектиса, он и впрямь знал хорошо: часто встречались с ним на улицах села, на лесных неудобицах-вырубках и на берегу реки, где старик обычно пас свое прожорливое стадо. Это был верткий бобыль, очень разговорчивый и веселый, но в мирские дела не вмешивался, на глаза начальству особенно не лез. Так что же его привело?
Борис Тимофеевич накинул на плечи старенькую куртку и выбежал на крыльцо. Уронив голову на грудь, как-то нехорошо скрючившись, на завалинке сидел пастух Фектис. Бесшумно спустившись с крыльца, Борис Тимофеевич тронул его за плечи, крякнул. Старик встрепенулся, живо вскочил на ноги.
– Вздремнул? Хе-хе... Ночью гульнул, поди? Вы, пастухи, народ ведь удалой, – улыбнулся молодой чекист.
Пастух не принял шутки. Он только устало махнул рукой и съежился. Затем провел ладонью по лицу, обросшему густым длинным волосом, забубнил глухо:
– Прощения просим, Борис Тимофеевич. Не стал бы беспокоить, да нужда прижала.
– Говори, дедушка. Я слушаю. Что за беды такие?
– Лихие беды. Уж не буду я задерживать тебя, расскажу сразу. Наведалась ко мне третьево дни сестра моя горемычная. Погибает, говорит, лихой смертью, то есть с голоду. Детишки – их четверо у ней – опухли. Сама тоже.
Борис Тимофеевич лоб наморщил:
– Постой, погоди. Кто погибает? Почему? Ты, дед, что-то не то. Почему это вдруг такая погибель? Не в колхозе она, что ли?
Старик не стал тянуть, выложил все откровенно.
– В том-то и дело. Не приняли ее в колхоз. Неустойка. Мужик ейный в бандиты подался, уже более года у Курая...
Не удержался Борис Тимофеевич, так и присвистнул от неожиданности:
– Как это произошло? Кто он?
– Сабан Прокоп. Так известен миру. А фамилия – Митюков.
– Сабан Прокоп? Это который коня с колхозного двора умыкнул и в Усолье пропил? Он ведь где-то у Дениной жил?
– Точно так. Поди, и сгинул давно, а сестре моей из-за варнака житья нет, детишкам – того хуже. Только заявятся мальцы из хуторка в деревню с делом каким, а деревенская орда, мальчишки-озорники, на бедолаг с палками: бей бандитское отродье! Лупи насмерть! И сестру в колхоз не записали: проваливай-де, без тебя обойдемся. А детишки рази виноваты в чем? Они рази ответчики за бандитские грехи?
– Худые дела, – согласился Борис Тимофеевич. – Хуже некуда. И не сразу раскусишь твой орешек. Давай уточним: сестра твоя – супруга бандита Митюкова Прокопа. А звать-то ее как?
– Матрена Архиповна... Фамилия опять же Митюкова и есть. Вот надежда на тебя. Христом-богом умоляю. Жалко мальцов. На тебя вся надежда. Уж так жалко детишек.
– Успокойся, отец. Разберемся.
Нет, что ни говори, а жизнь – она жизнь и есть. Подкинет штуку-каверзу, не сразу и ответишь. В самом деле: глава семейства – бандит, головорез, на честных людей руку поднял, а семья у этих людей защиты ищет...
Борис Тимофеевич глаза прикрыл, пробормотал вслух, как это случалось с ним в минуты крайнего волнения:
– Черт-те что... Несуразица какая-то. А так...
В раздумье он поднялся на крылечко, обернулся назад, с тоской посмотрел на зубчатый ельник, где изредка громыхали охотничьи выстрелы, успокоил себя: лес, он никуда не уйдет. Надо сначала головоломку решать. Сходить, что ли, к братве, посоветоваться?
Он почувствовал, что пока не решит дедушкино дело – душевного покоя не видать.
– Принеси-ка, Надежда, мою амуницию, переоденусь, – проговорил, войдя в дом. – Вылазка в лес пока отменяется.
– Садись за стол. Завтрак готов.
Сел Борис Тимофеевич за стол, вилкой вооружился, а тут сразу же стук в двери, настойчивый, требовательный. Не ко времени он, этот стук, да делать нечего, хозяин отодвинул тарелку, посмотрел на жену и крикнул:
– Заходите, чего уж там. Открыто!
И гость пожаловал.
Ввалился собственной персоной сосед, шутливо поклонился чуть ли не до земли:
– Хлеб-соль. Приятного аппетита, стало быть.
– Заходи, заходи, Николай Васильевич. Топай к столу.
Николай Васильевич Чугайнов, русоволосый детина лет тридцати, недавно ездил в Кудымкар, где утвердили его уполномоченным контрольной комиссии окружкома партии по Косинскому району. Жил он по соседству с Боталовыми.
– Ну, как он, твой выходной? – спросил хозяин.
Николай Васильевич только руками развел:
– Выходной мой – тю-тю! С полчаса назад вызвал сам первый, приказал немедленно отправляться на село. Задание такое: подготовить материалы на бюро о ходе хлебозаготовок. И еще к тебе шугнул. Найди, говорит, товарища Боталова, скажи, пусть в райком зайдет.
– У нас же баня сегодня! – не выдержала Надя. – А вечером в клуб собирались. Посиделки там.
– Обожди, – мягко остановил ее муж. – Баню и клуб пока никто не отменял. И повеселимся, и попляшем.
– Да чего уж тут... Не впервые.
У первого секретаря райкома партии Егора Кузьмича Густоева, человека пожилого с задумчивыми усталыми глазами, Борис Тимофеевич Боталов пробыл не более четверти часа. Районный руководитель умел ценить время, был краток.
– Обстановка круто переменилась. Ты уж извини, товарищ Боталов, прошу понять. Позвонили из округа: прибывает к нам обоз с переселенцами. Эта партия направляется в поселок Усть-Коколь. А поселок, как ты знаешь, к приему людей не готов. Имею сведения, что прораб там безобразничает: присвоения, приписки... Задание тебе, Борис Тимофеевич: выезжай сегодня же в Усть-Коколь. Разберись во всем на месте, прими строжайшие меры. Поселок должен быть готовым к приему людей.
– Ясно, – мотнул головой Борис Тимофеевич.
Секретарь райкома встал из-за стола, заложив руки за спину, ссутулясь, заходил из угла в угол:
– Это еще не все... Да, это еще не все. Сообщили утром из Кочевского райкома: пришел с повинной в отдел милиции подручный тамошнего главного бандита Гришки Распуты некий Рисков. Он сообщил, что Гришка Распута и наш бандит Курай договариваются об объединении. Наша задача ясна: не дать нм такой возможности. Объединятся – могут еще натворить бед. Они знают, что обречены. Вот и ударятся перед гибелью во все тяжкие.
– Наша задача, – проговорил твердо чекист, – разбить обе банды по частям. Так мы и сделаем.
– В том-то и дело. По частям бить гадов будем, легче расправимся. Надо сорвать их планы. Надо бы узнать, где бандиты намечают встречу, когда. Тот Рисков, к сожалению, об этом сообщить не смог.
– Вот поинтересуюсь по пути в Усть-Коколь. Может, и узнаю что дельное. Бродит там один...
Секретарь райкома пожал ему руку, пожелал успеха.
2
Из села выехали после полудня. Около семидесяти километров было от Косы до нового лесного поселка Усть-Коколь, путь неблизкий – вымотаешься в седле. Выезжая за околицу, всадники договорились без остановок сделать сорокакилометровый переход – до деревни Дениной, там переночевать у родителей Николая Васильевича (он был денинский), а завтра уже и доскакать до поселка.
Места за Косой равнинные, песчаные, но встречаются и болотистые, прямо-таки гиблые. В дождливую пору на таких участках грязь стоит непролазная, по брюхо лошади, – божье наказание для пешего и конного. Но лето нынче стояло жаркое, сухое. Топучие болота высохли, дорога наладилась, укаталась.
Начинался листопад. В закате лета такая пора самая грустная. Ярко-оранжевым огнем на обочинах полыхали рябины. В воздухе струились невесомые паутинки, тихо шуршала падающая листва. Стояло бабье лето.
Всадники ехали конь о конь, переговаривались. Борис Тимофеевич сокрушался:
– Жена баньку затопила небось. Уж так хотелось, так хотелось поласкать себя веничком.
– Вот доедем до Дениной, затопим баню, – отозвался Чугайнов. – Похлещем и бока, и спины. Баня у нас жаркая.
– Нет, баня на сегодня отпадает. Дела, знаешь ли. М-да... А еще в клубе сегодня посиделки. И опять же побоку. Жена тоскует, детишки тоже. Сам я целое лето гармонь в руки не брал, запылилась, наверное, моя ливенка.
Борис Тимофеевич страстно любил музыку. И музыкант он был отменный: одинаково лихо играл и на гитаре, и на балалайке, на любой гармони, на пианино. Его дружок милиционер Никита Попов не раз говорил:
– Не за бандитами бы тебе гоняться, а в столице концерты ставить.
– Концерты от нас не уйдут. Вот управимся с бандитами и будем давать концерты, – отвечал Боталов.
«Концерты от нас не уйдут», – подумал сейчас Борис Тимофеевич и, поиграв в воздухе нагайкой, пустил крепкого, откормленного коня на рысь: надвигался вечер, а до деревни Дениной было еще далеко. Гнали без роздыха километров десять, молчали.
Не останавливаясь, проскочили деревню Войвыл, большое старинное село Пуксиб, откуда был родом бандитский вожак Иван Васильевич Федосеев, по прозвищу Курай. Его отец, кулак и прасол, имел в селе свою лавку, сдавал в аренду под школу огромный дом. Сын, получивший в селе неплохое образование, в начале двадцатых годов служил делопроизводителем военного стола волисполкома, откуда был уволен за должностные преступления. Дерзкий и неуемный, он занялся конокрадством, был пойман и осужден. Когда вышел из тюрьмы, началась коллективизация, отца раскулачили, сослали. Выбрав момент, кулацкий сынок вместе с женой подался в леса, сколотил банду и вот уже несколько лет терроризировал местное население, грабил магазины и склады, издевался над советскими активистами, убивал их. И все это сходило ему пока почти безнаказанно: ловкий был оборотень, смелый и удачливый, что дьявол. Под стать ему была и жена: безжалостная, клыкастая ведьма, даже малолетних детей своих бросила, будто щенят, слезинку не проронила. У бандита и сердце бандитское. Вот и Сабан Прокоп тоже...
Вспомнив о нем, Борис Тимофеевич спросил:
– Где жил Митюков Прокоп?
– Он жил рядом с деревушкой Киршино, у болота.
– Придется заглянуть туда. Дело есть.
На полях работали колхозники, скрипели телеги, слышалось фырканье лошадей. Окрест пахло домовитым овинным дымком, сушеным зерном. Шла уборка урожая.
На гумне за селом Пуксиб тарахтела ручная молотилка, трещала сортировка. Из ворот выходили подводы, нагруженные хлебом, направлялись к тракту.
– Красный обоз собирают, – заключил Николай Васильевич.
Деревня Денина, дворов на тридцать, старая, обветшалая, рассыпалась на открытом холме по обеим сторонам большой дороги. Когда всадники подъезжали к ней, наступал уже ранний вечер. Сырая темень выступала из лесу, поднималась с низин и, набрав нужную силу, упорно наступала на деревню. Всадники завернули в нижний проулок, остановились у приземистого подворья. Тотчас мягко распахнулась калитка, вышел старик с палкой в руке.
– Мать честная, вот так гостеньки!
Поздоровавшись, он открыл ворота, завел коней в ограду.
– Как раз ко времени прибыли, – сказал радушный хозяин. – Вчера сшиб доброго косача. Я ведь охранником полей роблю, все время на поле. Сегодня тот гулеван с утра в печи токует.
Пока он ставил лошадей в конюшню, сходил на колхозный двор за сеном и овсом, стемнело окончательно. С полей вернулись люди, перестали скрипеть телеги, успокоились стаи ворон. Природа вроде бы замерла.
В избе на столе горела керосиновая лампа со сломанным стеклом. Согбенная старуха, поклонившись сыну и Борису Тимофеевичу, молча расстелила скатерть, поставила на стол жаровню с «гулеваном», нарезала хлебушка.
– Из нового урожая, – пояснил старик.
– Вот мы сейчас и попробуем свежего хлеба, – произнес Борис Тимофеевич, улыбаясь. – И с петухом расправимся запросто.
За столом говорили о жизни, о сегодняшних делах. Старик рассказывал, что народ работает от темна до темна, быстро привык к коллективному труду, чувствует себя в колхозе полным хозяином. Но пока случаются и казусы. Вот Левонтин Васька, мужик в годах, а каждое утро ходит на конный двор, чтобы лично убедиться, здорова ли его Рыжуха, сыта ли. Вздыхает всякий раз, жалеет кобылу.
– Привыкнет, – утешил Борис Тимофеевич. – Конечно, тяжело. Ведь лошадь в хозяйстве была кормилицей в полном смысле слова. Василия можно понять.
– Сабан Прокоп, говорят, тоже по утрам на конный двор бегал, целовал своего коня в губы, а потом угнал к цыганам, – вмешался в разговор Николай Васильевич. – Как бы и этот...
– Ну, Ваську с Прокопом не сравнишь. Серьезный мужик, – перебил сына отец. – Нет, не сравнишь. Тот самодур был, без винта в голове. А Васька крепко берется за колхоз, лучше всех робит. Прокоп...
– Он что, кулаком был? – спросил Боталов.
– Какое там! Отец его коновалил, справно жил. А когда помер, сынок-то и закуролесил: я да я. Поперешным оказался, с дерьмовым характером, вскорости порешил отцовское добришко, обеднял, как тот соколик. И вот украл коня, пропил. Ну да и ладно бы с годик за решеткой, глядишь, вернулся бы к семье. Так он, подлый, к Кураю, в разбой ударился.
– Говорят, семья сильно бедствует?
– Еще бы. Детей четверо. Кормить надо. Старшие, оно, пожалуй, уже работники, а младшие... Плохо дело у Матрены. Народ ее не любит: бандитская жена. Бандиты, известно, всем осточертели, хуже волков. Вот и мыкает горюшко баба, хотя и не виновата.
– И дети не виноваты, – вставила старушка.
– Дети не виноваты, – поддержал ее Борис Тимофеевич. – И помочь надо этой бедной семье. Надо переправить эту семью в другое место, здесь житья ей не будет. Вот поговорю с комендантом поселка Усть-Коколь, подскажу, пусть примет Матрену сторожихой, что ли. Или на кухню посудомойкой. Старших детей надо отдать в учение куда-нибудь. А младших, если мать не в состоянии прокормить, следует отдать в детдом.
– Это дело было бы, – согласился старик-хозяин.
Когда вышли из-за стола, Борис Тимофеевич сказал Чугайнову-младшему:
– Рано утром сходи к Матрене, обследуй все. И насчет детдома узнай ее согласие. В общем, так... Ясно?
– Ясно, конечно.
– И еще вот что: тот овес, что принесли для коней, отнесите Матрене. В случае чего сошлешься на меня.
Хозяин между тем завернул козью ножку, задымил у порога. Желая продолжить разговор, обратился к гостю:
– Сказывают, опять бандита словили. Ходил третьего дни кум Данько в село. Вели, сказывает, бандита по главной улице. Поди, уж самого Курая?
Борис Тимофеевич простодушно усмехнулся, тряхнул мягкими пушистыми волосами.
– Поймали одного, отец. Но пока что не самого оборотня.
– А ты расскажи, занятно слушать.
Позавчера по главной улице Косы верховой милиционер Никита Попов действительно конвоировал пойманного бандита. Был беглец грязный, обросший, одетый во все с чужого плеча – награбленное. Могучий и злобный, он и сейчас внушал страх.
Рассказывать о своих схватках с бандитами Боталов не любил, считал, что хвастать нечем: ловились пока одни сморчки, Курай – этот злой дух – не попадался. Не стал бы чекист и о последнем эпизоде распространяться, да хозяин сильно настаивал – говори. Старика полагалось уважить. Боталов, не вдаваясь в подробности, рассказал:
– Взяли мы его в глухой деревне Пыдосово, куда вышел на разбой прямо посреди бела дня. Действовал раскулаченный дьявол нагло, был уверен в безнаказанности. На виду у деревенских баб спалил скирду в семь промежков, забрал у одной хозяйки кринку с маслом, набил котомку хлебом. Видит, что народишко боится его, распетушился вконец – залез еще и во двор, чтоб овцу придушить. Но мы с Никитой Поповым уже скакали из села Бачманово на дым горевшей скирды. И подоспели к сроку. Народ галдит, детишки плачут. Шум стоит: бандит с ружьем разбойничает. Мы с Поповым бегом во двор, команду дали: «Выходи, бросай оружие!» А он, выродок, дверь хлева распахнул, ружье выставил: «Разбегайсь, стрелять буду!» Бабы врассыпную, мужики тоже притаились. Я подмигнул Никите, показал на свою фуражку. Он головой мотнул: мол, понял. И тут же достал из-под стрехи длинные вилы, те самые, которыми снопы на скирду подают, снял с головы одного мужика малахай, поддел его острыми вилами и давай ту шапку осторожно вдоль стены к дверям хлевушки толкать. Тихонько толкал, притаившись, и – раз! – выставил шапчонку в дверной проем. Видит бандит: чья-то голова сунулась, бабахнул – от малахая одни клочья полетели. А я наготове был, в ту же секунду бросился в хлев, смял стервеца.
– Здорово! И не страшно было? А если бы он ножом?
– Не успел бы, расчет тонкий был, да и раздумывать в таких случаях нам не приходится.
Борис Тимофеевич, махнув рукой, неожиданно спросил:
– Пимокат-шерстобит мне нужен, тот, подслеповатый, убогий, как его... Васько Митрий вроде бы. В ваших краях в эти дни не бродил?
– Бродил, бродил! – оживился хозяин. – Шерсть, сколь было в деревне, бил, несколько пар валенок скатал. Заходил и ко мне. Тоже работу спрашивал. Разговаривали дивно время. Я, помню, еще спрашивал, мол, не страшно тебе по лесным тропам бродить? Ведь бандиты кругом. А он рукой машет: «У них свои заботы, у меня свои. Да и Курай давнишний мой знакомый. Еще у отца евонного, богатея пуксибского, месяцами живал – валенки катал, сукно на зипуны выделывал. Нет, не трогает меня Курай».
– Куда он из вашей деревни подался?
– Старикашка-то? На Гришкинскую сторону собирался.
Борис Тимофеевич брови нахмурил, приуныл.
– Далеконько чесанул. Да что делать? Придется и мне туда. Зима на носу. Валенки скатать загодя бы.
Хозяин козью ножку рассыпал, застыл в удивлении.
– В такую даль, на ночь глядя?
– Надо идти. Дело важное, – твердо сказал чекист.
Он накинул заместо шинели хозяйский дождевик, натянул на голову старенький малахай и вышел. Хозяин выглянул в окно. Там сгустилась сатанинская темень, хоть глаз выколи. Человека будто и не бывало, сразу утонул в ней, растворился.
3
Утро следующего дня вставало мглистое, сырое и тревожное. Чугайнов-старший, проводив сына к Матрене, несмотря на ранний час, больше не ложился. На дворе он задал скотине корма, затем натаскал дров, полную кадку воды. Он часто поглядывал в сторону дороги, прислушивался: не идет ли отчаянный человек Борис Тимофеевич? Нет, не слыхать пока.
В десятом часу вернулся сын. И он сильно забеспокоился: не стряслось ли чего?
А чекиста все нет и нет. Тревога накалялась, даже о завтраке позабыли. Но все обошлось благополучно: в сенях раздались шаги, со скрипом открылась дверь.
– Ну, вот и я.
– Наконец-то. А мы тут...
Был он по пояс в болотной грязи, промок насквозь. Но держался молодцом – улыбался вовсю, глаза сверкали радостью. Значит, все в порядке.
Борис Тимофеевич привел себя в порядок, переоделся.
– Подавай лошадей, Николай Васильевич. Времечко не ждет – уже одиннадцатый. В поселок вот-вот нагрянут переселенцы.
Наскоро перекусив, гости заторопились в путь. На улице было зябко, сыро. Густой туман висел над лугами и полями, косматой наволочью клубился над перелесками. За деревней на скирде громко верещали сороки. На другой клади во все горло каркала ворона.
Едва вышли на дорогу, Борис Тимофеевич спросил:
– Чем закончилась твоя миссия?
– Пока ничего определенного. Овес она приняла со слезами, благодарила. Надо сказать, кто-то сердобольный уже побывал у ней, притащил мешок охвостья. И все-таки нужда неописуемая. Детишки, что голодные волчата, – худющие, рваные. Когда увидели хлебушко, так и набросились: «Дай, дай...»
– О детдоме разговор был?
– Был. Выслушала меня, пригорюнилась. Но ничего не сказала. Я велел с младшими денька через три прийти в село.
Борис Тимофеевич затормошил коня, пустил вскачь. Побежали назад придорожные деревца, замелькали телеграфные столбы. Более четверти часа скакали вершники молча, торопились вперед.
У темного лесного родника Сия напоили коней, перевели дух и снова вскачь.
– В Чураках будем останавливаться? – спросил Чугайнов.
Борис Тимофеевич головой помотал:
– Думаю, не стоит. В селе у меня полно друзей. Начнутся расспросы, то да се, немало времени потеряем. Остановимся на обратном пути, побуду на родине, побеседую с земляками.
Родина! Детство!
Уже около полутора десятка лет прошло, как Боталов покинул Чураки, а будто вчера все было: и учеба в местной народной шкале, где учительствовал отец, и грибные вылазки в лес, и отчаянные ребячьи драки. Все было.
– Рассказывают, после чураковской школы ты в Чердыни учился? – спросил вдруг Николай Васильевич.
Очнулся Борис Тимофеевич, плечами дернул.
– Учился. В реальном училище. Там и революцию встретил, и гражданскую войну. Не успел я учебы завершить, Колчак помешал. Взяли белые городок в девятнадцатом, сразу же сцапали меня: кто-то донес, что брат после революции был военным комиссаром в Косе, а отец и сестра сочувствовали большевикам. Сам я в ту пору состоял в юношеской организации «Интернационал молодежи». Вот и понравился я белякам. «На коммуниста выучился, чучело? – спрашивают. – Так, так. Жди своего часа в кутузке. Ужо повесим на осине». Но что-то у них не сработало, не повесили. Четверо суток продержали в клоповнике и выпустили под расписку о невыезде. Да я и не стал ждать, когда снова заберут: при помощи добрых людей добрался до деревушки Савино Юсьвинской волости, на родину отца, где жила моя мать. Через полгода записался я в комсомол, учился в Кудымкаре в школе второй ступени. А после работал в Юсьвинском райкоме комсомола, вступил в партию.
За разговором и не заметили, как до Чураков доехали. Отсюда до Усть-Коколя уже рукой подать, километров двенадцать будет, не больше.
4
Все чаще и чаще встречались прогалины, сплошные вырубки. На них стояли, источая острый скипидарный запах, длинные поленницы дров – верный признак того, что впереди близко деревня. У одного холмика дорога круто повернула влево, лес неожиданно расступился, впереди блеснуло поле. Метрах в трехстах, чуть ли не вплотную прижавшись к лесу, ссутулилась деревушка Киев.
На западной стороне тянулись, чередуясь, небольшие поля, сплошь уставленные суслонами. На некоторых полях копошились жнецы, у лесочков-сколков дымили костры – там деревенские ребятишки, верно, пекли картошку. У самой деревни стояла приземистая рига, покрытая соломой, в ней стрекотала ручная молотилка. От риги несло приторно-сладким солодовым запахом: в овине сушился хлеб.
А сама деревня была пустынна. По случаю пасмурного дня, что ли, у домов не играли детишки, не базланили петухи, не брехали собаки. Подъезжая к околице, Николай Васильевич вдруг круто остановил коня, глянул на товарища:
– Мужички... Кто такие? Один-то на Ярашку похож...
Выйдя из-за угла старого дома, быстрыми шагами спускались вниз по улице два мужика. Борис Тимофеевич впился взглядом им в спины, что-то припоминая, хмурил брови. Мужики показались подозрительными. Привстав на стременах, он пригляделся зорче и удивился:
– Ярашко и есть! Ишь, руками размахивает.
Герасима Степановича Федосеева, прозванного Ярашкой, Боталов знал хорошо: он был чураковский, когда-то жил по соседству. И уже тогда отличался одним – беззастенчиво брал все, что лежало близко. Сперва крал мелкие вещи: салазки у сверстников, лыжи... Затем навострился тягать у соседей чересседельники, седелки, уздечки, топоры. Дальше – больше. То овцу у соседа в лесу зарежет, то замок снимет с амбара и муки унесет. Его много раз ловили с поличным, и всякий раз мужики колотили смертным боем. Бывало, неделями лежал пластом, но, оклемавшись, опять брался за старое. Так и проводил времечко: то в Косс, в арестантском помещении, то в тюрьме. А как загуляли в лесах бандиты, он сразу же нашел приют у них.
Всадники узнали и второго мужика. Это был административно высланный Медведев, недавно убежавший из арестантского помещения.
– Ах, наглецы! – возмутился Николай Васильевич. – Разгуливают по деревне среди бела дня. Без ружей, кажется?
– Без ружей, – ответил Боталов. – Возьмем обоих.
В это время Ярашко и Медведев одновременно оглянулись назад и, увидев всадников, от неожиданности чуть не присели на месте, несколько секунд стояли не шевелясь. Но вмиг оценили положение и тотчас пустились наутек. Бежали прытко. Поравнявшись с крайним домом, они еще раз оглянулись и юркнули в сени. Борис Тимофеезич пустил коня в галоп.
– Быстрее ступай на зады, за двор! – крикнул он Чугайнову. – Не пускай к лесу. В случае чего – стреляй!
Чугайнов, не мешкая, побежал за двор. А Борис Тимофеевич, спрыгнув с коня, поднялся на крыльцо, сильным ударом сапога толкнул дверь. В сенях было темно. На ощупь он добрался до двери в избу, нашарил скобу. Дверь подалась легко. В избе был полумрак.
– Кто тут жив? A-а, это ты? – заметив у окна старуху в чепце, произнес Борис Тимофеевич. – Кто заходил? Где он?
– Никого нетути. Никого, сынок! – бойко затараторила старуха. – Кто-то в сенях брякал. Через сени пробежал кто-то.
Борис Тимофеевич опрометью бросился из избы, устремился к двери, которая вела во двор. Но и тут, во дворе, бандитов не было. Тогда его взгляд невольно остановился на хлеве, стоявшем в темном углу. Там они, голубчики. Он быстро кинулся к хлевушке, потрогал дверцу – она была заперта изнутри. Оставалось одно: подняться на потолок, где лежала прошлогодняя солома, оттуда шугнуть притаившихся. Он не стал искать лестницу. Не мешкая, оттолкнулся от земли, ухватился за верхнее бревнышко сруба, подтянулся.
– Выходи, Ярашко, стрелять буду! – громко крикнул он в темноту.
Закончить фразу он не успел. И ответа тоже не услышал. Едва подтянулся на руках до уровня груди, как из хлевушки через лаз, устроенный для подачи корма, грянул неожиданный выстрел. И сразу же обширный двор, приземистый хлев, солома на нем полетели куда-то кувырком, все завертелось, закружилось, будто поднялся вихрь. Борис Тимофеевич медленно сполз на землю, но быстро поднялся на ноги, держась рукой за грудь, вышел на улицу. Навстречу ему бежал Чугайнов. Боталов слабо махнул наганом:
– Назад! Ступай во двор... Задержи гадов.
Выполнить это приказание Чугайнов не успел: Боталов резко покачнулся, медленно, точно раздумывая, опустился на колени. Николай Васильевич склонился над ним, дрожащей рукой снял полевую сумку, ремень с кобурой, расстегнул ворот френча.
– Люди-и-и! Мужики-и, на помощь! – закричал он.
Бандиты между тем вышли со двора, произвели в воздух два выстрела и, не таясь, побежали в сторону леса.
– Гады, гады! – прошептал Борис Тимофеевич. Он тяжело поднял руку с наганом, выстрелил в сторону беглецов. Но это был уже выстрел отчаяния.
С гумна прибежали люди. Они обступили раненого плотным кольцом, долго не могли успокоиться, ахали и охали. Но мало-помалу шум стих. Кто-то уже начал распоряжаться:
– Сбегайте за бабкой Анфисой. Пусть живо сюда!
Со стороны Чураков показалась подвода с мешками. На них сидели два мужика. Николай Васильевич, узнав земляков, распорядился:
– Разгрузите подводу! Увезем раненого сначала в Чураки, а там и в Косу. Быстрее, братцы, быстрее!
Чугайнова трясло. Не давал покоя и вопрос: откуда у бандитов ружье? Ведь не было, не было же никакого ружья!
Откуда было ему знать, что бандиты уже более суток находились в деревушке Киеве. Они знали: здесь открывается колхозная столовая. А где столовая, там и пекарня. Стало быть, будет хлебушко. Прибыв в деревню вчера под утро, бандиты быстро выяснили обстановку, стали ждать. Эту ночь они провели в соломе во дворе того крайнего дома. Там и прятали оружие.
Нет, не знал об этом Николай Васильевич. Об этом он узнает гораздо позже, когда бандиты будут обезврежены.
А люди продолжали торчать возле раненого. Знающие уже делали заключение: стреляли из дробовика центрального боя. Заряд прожег шинель, прошил френч, рубашку, вместе с пыжами и дробью вошел в левое плечо... Прибежала бабушка, притащила в берестяной коробке снадобья. Перекрестившись на восток, она опустилась возле раненого на колени, вытерла тряпочкой окровавленные места, припудрила рану какой-то мелкой пыльцой, наложила лист подорожника. И, убедившись, что кровь остановлена, туго запеленала грудь Боталова длинным полотенцем.
Наконец подъехала подвода. Бабы и мужики набросали в короб свежего сена, прикрыли его пологом и осторожно, чтоб не растревожить рану, подняли Боталова на эту постель. Николай Васильевич с трудом взобрался в седло, подъехал к товарищу. Боталов полулежал на телеге, не мигая смотрел в небо. Широкое скуластое лицо его сделалось желтовато-бледным, заметно осунулось, на пухлых губах проступали синие пятна: раненый искусал губы, пока бабка пеленала грудь и мужики поднимали его на телегу.
Подвода тронулась, миновала околицу. И тут Борис Тимофеевич вдруг забеспокоился, заворочался, поднимая руку.
– Слушай меня... Слушай внимательно, – прошептал он так, чтобы слышал один Чугайнов. – Если в дороге я того... Так передай секретарю райкома: встреча главарей в конце сентября на берегу речки Актыльшор, у деревни Гущино. Передай обязательно. Это очень важно.
– Передам, конечно. Но ты зря об этом.
...В Косу они приехали только во второй половине следующего дня. В больнице уже ждали. Местный хирург Емельянов, суетливый человек лет тридцати пяти, хоть и не имел большой практики, признаков растерянности не проявил. Осмотрев рану, он приказал приготовить инструментарий:
– Перво-наперво следует удалить из раны пыжи и дробь...
5
Потянулись длинные часы и минуты, полные тревог и волнений. Жена, неотступно находившаяся у койки больного, от горя и усталости осунулась, ее щеки запали. В больницу то и дело наведывались друзья, знакомые. Надя сокрушалась: