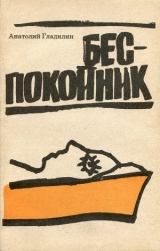
Текст книги "Беспокойник"
Автор книги: Анатолий Гладилин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
Погорел я из-за происков американского империализма во время гастролей Кливлендского симфонического оркестра. Мы тогда выступали в концертном зале Чайковского, и нас предупредили, что, мол, ждите, придут гости дорогие. Естественно, мы старались, в грязь лицом не ударили. Зал минут двадцать не отпускал, на «бис» Глюка исполнили. А потом, когда я уже трубу в футляр запаковал, вбегает в артистическую Садовкин. Леша, говорит, бери ноги в руки и дуй прямо в дирекцию. Я прихожу, ничего не понимаю, а там народу!!! Шампанское разносят, на бутерброды намекают. И все товарищи из Министерства, из Управления. Присматриваюсь. Из наших только трое: Главный, Самородов и Петухов – первая скрипка. При чем тут я, думаю, наверно, подшутил Садовкин, тем более что в центре внимания американец, пузатый и полосатый. За ним еще несколько лиц иностранного происхождения. Переводчики – соловьями заливаются. Я про себя решил, что Садовкин – сволочь, ведь прием для начальства! Начал я к выходу просачиваться, а Самородов по имени-отчеству окликает. Плохо дело. Не иначе как усмотрел, что я бокал шампанского на дармовщинку опрокинул. Ладно, думаю, я не виноват, все, как есть, расскажу, Садовкину не отвертеться. И вдруг Самородов меня, как лучшего друга, обнимает, сладко улыбается и к пузатому-полосатому подталкивает. Вот, говорит, Алексей Яковлевич Котеночкин, тот самый трубач, чье соло вам так понравилось! И переводчики сразу фридли-бридли-тру-ля-ля и замолкли, вроде бы подавились. Пауза возникла. Все на меня уставились. Гляжу – глаза у руководящих товарищей как после сытного обеда, с нежной поволокой. И улыбки прямо в воздухе тают. А пузатый-полосатый руку протягивает, лопочет какие-то курли-мурли-плиз. Тут мне незнакомый, спортивного вида малый в ухо шепчет: дескать, господин Неразберешь фамилию, антрепренер Кливлендского оркестра, за мое здоровье выпить хочет. Мне шампанское суют, я кладу глаз на Самородова, а Виктор Николаевич головой кивает и ласково жмурится. Спасибо, говорю (и сам удивляюсь своему визгливому, срывающему голосу), но я предлагаю выпить за искусство, которое объединяет все миролюбивые народы! В комнате улыбки запорхали, зашелестели крыльями, а наш Главный откуда-то с потолка спикировал: разрешите, говорит, Котеночкин, с вами чокнуться. Выпили мы, лихо опрокинули. Чувствую, пора линять. Но пузатый-полосатый шурум-бурум – переводчикам, значит, – не успокоился, продолжает провокации.
Вопрос:
– Сколько вы получаете?
Отвечаю.
Вопрос:
– Видимо, переводчик ошибся. Эту сумму вам, наверно, платят за одно выступление, а мне послышалось, что один раз в месяц?
И улыбочки, птички залетные, висят в воздухе, но не двигаются, застыли.
Ах ты, гад пузатый-полосатый! Сидел бы сейчас в ресторане, жрал бы икру ложками, так не ценишь ты русского гостеприимства, все шныряешь, шпионишь. Но со мной это номер не пройдет. Не на такого нарвался!
Отвечаю:
– Я не понимаю вопроса. Нас, советских музыкантов, деньги не интересуют. Мы высокому искусству служим.
И сразу птички перелетные защебетали, замахали крыльями – резвятся, как после грозы. Наш Главный на меня преданными собачьими глазами смотрит: давай, говорит, Котеночкин, выпьем за здоровье твоей драгоценной супруги. Я опять озираюсь на Самородова, а тот в хвойной ванне блаженствует. Опрокинули мы еще по бокалу, и только я за бутербродом полез, как пузатый-полосатый меня за пуговицу берет и без переводчика, с одесским акцентом, прямо по-русски шпарит:
– Скажи, Леша, что ты тут делаешь? Ведь ты «соль» достаешь, а наш Смит Джонс на «ре» захлебывается. Почему же тебя в Европе не видно?
Каюсь: сразил меня одесский акцент. Вместо того чтобы дать достойный отпор, я забормотал: дескать, когда-то сам Дакшицер меня боялся, и в Европу я готов поехать, вот, может, Министерство организует гастроли, и вообще музыка интернациональна...
А потом я опомнился, да поздно. Птичек не слышно, одни переводчики верещат, перед моим носом торчит спина Главного, а Самородов в углу застыл с улыбкой, но глаза у него – стеклянные.
Утро было туманное. В окно бил дождь, а Самородов ходил по кабинету.
– Конечно, – говорил Самородов, – на Западе трубач получает зарплату в десять раз больше. Это факт. Но почему? Да потому, что десять других музыкантов сидят без работы и умирают с голоду. А вам безработица не угрожает. Правда, у нас скоро конкурс на замещение... Не знаю, как комиссия... Кстати, господин антрепренер – он вовсе не музыкант, а известный разведчик. Госдепартамент таких специально командирует в соцстраны для установления контактов с неустойчивыми элементами.
– Виктор Николаевич, – взмолился я, – так ведь он, этот шпион проклятый, нахрапом действовал! Закусывать не давал. Я же после концерта, голова не варит, а господин тот шампанского подливает и на психику давит.
– Да, – вздохнул Самородов, – методы вражеской агентуры разнообразны и коварны. Вы знаете, сколько ЦРУ ассигнует на разведку?
– Виктор Николаевич, я еще ни одного политзанятия не пропустил.
– Вот некоторые наши товарищи скоро отправляются в Канаду. Культурное соглашение. Выступления в разных городах. Конечно, концерты пройдут с успехом. Социалистическое искусство завоевывает все более широкое признание. Но иногда, опьяненные аплодисментами публики, мы забываем о бдительности. А между прочим, кто там имеет возможность посещать филармонии? У пролетариата нет денег на входной билет. Понимаете, к чему я клоню?
– Виктор Николаевич, если вы говорите о том семинаре, то, клянусь, болен я был. Бюллетень вам лично сдавал. С температурой валялся.
– Мы вам верим, Котеночкин. И вы тоже записаны на гастроли. В Узбекскую Советскую Социалистическую Республику. Ответственная поездка!
И очередное наглое вранье в газете под названием «Весь мир рукоплещет». Ну как, как может весь мир, пардон, рукоплескать? Понятие «весь мир» включает в себя один миллиард китайцев, индийцев и пакистанцев! Они ведь с голоду умирают! Некогда им рукоплескать. Да и не каждый рабочий на цивилизованном Западе имеет возможность приобрести входной билет...
Нью-Йорк, Оттава, Гамбург, Киото, Порт-оф-Спейн, Нант, Сингапур, Рабат, Детройт, Гавана, Сингапур, Мельбурн, Гонолулу, Мар-дель-Плато, Веллингтон, Манила – какие города бывают на свете! Острова Феникс, острова Фиджи – такое и не приснится! Брюссель, Антверпен, Вена, Женева, Багдад, Карачи, Бостон, Буффало, Сакраменто, Монтевидео, Буэнос-Айрес – ведь это же все рядом, пять—десять часов на самолете! Пустите меня, ей-Богу, я там не останусь. Мне ведь только побродить по улицам, посмотреть. И деньги не нужно – всю заработанную валюту я отдам государству. И без переводчика обойдусь – музыку понимают даже дикие племена в верховьях Амазонки.
Факт присутствия биологической жизни пока не установлен ни на одной планете. Но меня скорее запустят куда-нибудь к созвездию Кассиопеи, чем разрешат пересечь Государственную границу, которую бдительно охраняет солдат в зеленой гимнастерке с начищенными до блеска маленькими желтыми пуговицами. Пуговицы лучше всего драить окисью хрома.
– Усатый Хозяин, – сказал Садовкин, – правильно делал, что никого не выпускал за границу. Ну, побывал я в Лондоне, а потом два года опомниться нс мог. Каждую ночь гулял по Пикадилли. Нет, уж лучше сидеть дома.
– Конечно, – сказал я. – За границей одно расстройство. Вот мы с тобой раздавим пол-литра, поплачемся, а утром спокойненько побежим сдавать бутылки. И полный порядок. Ведь на Западе, говорят, сплошная некоммуникабельность. Выпить не с кем.
Недавно я пришел на прием к Самородову и прямо с порога кабинета заявил:
– Виктор Николаевич, скоро предстоят гастроли в Сьерре-Леоне. Опять начнут утверждать кандидатуры.
– Простите, Котеночкин, – ответил Самородов, сурово глянув на меня поверх очков, – разве мы вам когда-нибудь отказывали в характеристике?
– Никогда, Виктор Николаевич. Я получал самую положительную. Но в последний момент, когда список окончательно утрясался, моя фамилия почему-то обязательно вычеркивалась.
– Министерство обычно сокращает фонды. Мы тут бессильны... Нехватка валюты...
– Виктор Николаевич, поймите меня правильно. Я не в претензии ни к Министерству, ни, тем более, к вам. Но я старый человек. Три месяца оформляешь бумаги, собираешь справки – лишняя нервотрепка, суета. А зачем? К чему ненужные хлопоты? Я лучше спокойно уеду в отпуск. Заранее приобрету путевочку. Ведь и на этот раз сократят список. Сами говорите, что плохо в стране с валютой.
– Присядьте, Алексей Яковлевич. Курите? Курите. Да, люди мы уже немолодые. Не заботимся о собственном здоровье. А пора. Как самочувствие? Что-то вы неважно выглядите последнее время. Нет, нет, какая пенсия? Мы с вами еще поработаем. Но беречь себя надо. Я вот давно думаю: почему бы вам не попросить путевочку куда-нибудь в санаторий? Например, в Кисловодск? Полезное дело.
– Так в Кисловодск не достанешь. Все нарасхват.
– А вы рискните. Мы вас поддержим. Напишите мне сразу заявление.
– Виктор Николаевич, путевка-то кусается. Я на курорт уеду, а семья без денег останется. Боюсь, ничего у нас не выйдет.
– В заявлении укажите, что просите бесплатную. За счет профсоюза.
– Неудобно. Товарищи скажут: почему Котеночкину вдруг такие льготы? Чем мне мотивировать?
– А это уж моя забота. Поняли? Пишите. Мы заинтересованы, чтобы лучшие наши оркестранты пребывали в добром здравии. Кстати, в Сьерре-Леоне очень тяжелый климат. Не рекомендую. Большой процент влажности.
– Повезло Котеночкину, – сказал потом Петухов, первая скрипка. – Нам опять лягушками и прочей нечистью питаться, а он к нарзану поближе устроился.
– А ты привези одной кофтой меньше, – сказал я. – Так ведь – на консервах – язву заработаешь.
Финал. Модерато э грациозо. Краткое содержание: то, что бомбежка кончилась, я заметил, когда почувствовал на щеке капли дождя. Да, шел мелкий грибной дождь. Лучи солнца сверкали на траве, на листьях, на мокрой зеленой кабине опрокинутого взрывом грузовика. И вдруг я услышал команду: «Оркестр, ко мне!» Посреди шоссе, около большой воронки, стоял полковник Щербаков, а за ним – двое со знаменем. Мы робко потянулись из кустов, опасливо поглядывая на небо, где совсем недавно юнкерсы резали верхушки деревьев. «Расчехлить инструмент! – приказал полковник. – Играть марш!» В воздухе, оглохшем от неправдоподобной тишины, раздались первые такты «Прощания славянки». Ту-ту, ту-ту, ту-ту, ту-ту – деловито вел на баритоне Вася Акселераторов вторую партию. Та-таа, та-та-таа, та-таа, та-та-таа! – взмыла моя труба. Жив, жив, думал я, а ведь казалось, что совсем убили, нет, стою, живой и вроде бы целый, не задели, сволочи, так думал я, а труба пела независимо от меня, словно она тоже ожила. Из мертвого, искореженного леса выползали наши ребята, отряхивались, матерились и становились в строй. Левее, в десяти километрах, полк уже обошла колонна немецких танков, но многие из нас этого так и не узнали.
Через витрину мастерской я вижу, как часовщик, прильнув к своему черному карманному окуляру, пытается разгадать тайну времени.
Когда за мной закроется занавес (горизонтальный, плоский занавес в крематории) и я на бесшумном скоростном лифте (модерн, финского производства, где уже в первый день кто-то, анонимный, нацарапал на стенках «Миша – дурак» и еще несколько неприличных слов) поднимусь прямо к архангелу, так этот архангел (Михаил Израилевич?), естественно, спросит:
– Скажи, Котеночкин, остался ли ты доволен своей жизнью?
И в семитских печальных глазах архангела я прочту откровенное разочарование.
– Эх, Котеночкин, – вздохнет архангел, – ведь ты родился трубачом! Мы-то на тебя надеялись!
– На Бога надейся, – отвечу я, – а сам не плошай. Мне зарплата с неба не капала. Кто платит, тот и музыку заказывает. Так на кого же мне было молиться?
На Самородова, на дорогого Виктора Николаевича!
Я трубач. Я отыграл концерт и выхожу на улицу. Я маленький человек и разбираюсь только в нотах. А на меня со всех сторон милиция и общественность, домоуправление и товарищеский суд, министерства и профсоюзы, исполкомы и горсовет, коммунальное обслуживание и школы, прачечная и химчистка, гражданский кодекс и политпросвещение, пресса и телевидение, детские сады и вражеская пропаганда, агрессивный блок НАТО и китайские догматики, экономическая реформа и морганизм-менделизм, модернизм, абстракционизм, ревизионизм, аполитизм, аморализм, бытовизм, продуктивизм (нет мяса в магазинах), спекулятизм, сексуализм, дефицитизм, социализм, алкоголизм и разные прочие соблазнизмы – их много, а я один! Кто же меня выручит, кто мне глаза раскроет, кто мне справку напишет, ребенка в спецшколу устроит, путевочку достанет, ходатайство в ЖЭК пошлет? Допустим, пьяный в троллейбусе драку затеет, меня вовлечет, так кто же от протокола спасет Котеночкина, в больнице койку забронирует, к распределителю прикрепит, телефон выхлопочет, уму-разуму научит, приголубит, приласкает? Только Самородов, Виктор Николаевич родимый. На него вся надежда.
Ну не пускали меня за границу. И правильно делали. Какой смысл меня туда посылать? Ойстрах и Ростропович ездили – и ничего, устоял проклятый Запад. А я сам человек неустойчивый, так Виктор Николаевич соблюл мою нравственность.
Я на спиртное падок, а вдруг после двух рюмок какая-нибудь блонда потащит меня домой унижать достоинство советского человека? Потом на собраниях позору не оберешься. Нет, на страже стоял Виктор Николаевич – честь ему и хвала!
Выйдет срок, и пенсию мне Самородов оформит. А умру, так семье беспокоиться нечего: Виктор Николаевич нишу у крематория выбьет, панихиду организует и о некрологе позаботится. И все, заметьте, за счет государства. Ценить надо такие удобства!
Не дай Бог заберут от нас Самородова. Страшно подумать, что будет! Молодые аппаратчики – люди надменные, от них душевного подхода не дождешься. Они себе дачи еще не построили, а Виктор Николаевич давно наелся. И ведь не воровал он, а другие еще как воруют! Многие инспектора звание народных артистов выхлопотали (хотя даже нот читать не научились), а Самородов умен, себя на посмешище не выставляет, у него свое, честно заработанное звание – полковник (говорят, он до сих пор в сейфе хранит погоны). Возможно, он мечтал дослужиться до генерала. Увы, у каждого свои трудности.
Новый инспектор, придя на место Самородова, карьеру захочет сделать, а инспекторская карьера – дело известное – основана на том, что нужно разоблачать, выискивать, распознавать и прорабатывать так называемых скрытых модернистов и низкопоклонников. И начнется в коллективе смута, склока, нервотрепка, и полетят к черту репетиции – одни персональные дела пойдут. А Самородов к месту прикипел, должностью доволен, поэтому он заинтересован в нормальной работе оркестра и лишнего шума подымать не будет.
Если инспектором назначат кого-нибудь из наших, так еще хуже. Скрипач все льготы струнным отдаст, духовик – личные счеты сводить станет, ударник одни марши в репертуар введет, дирижер – вдоволь наиздевается. А Самородов, он вне партий, вне группировок, для него все мы равны.
Вот почему, когда я замечаю в конце коридора знакомую фигуру, я радостно бросаюсь навстречу и от всего сердца приветствую:
– Доброго вам здоровья, Виктор Николаевич!
1971
Об авторе
АНАТОЛИЕМ ГЛАДИЛИНЫМ НАПИСАНО:
«Хроника времен Виктора Подгурского» (1956)
«Идущий впереди» (1958)
«Бригантина поднимает паруса. История одного неудачника» (1959)
«Дым в глаза. Повесть о честолюбии» (1959)
«Песни золотого прииска» (1960)
«Вечная командировка» (1962)
«Первый день Нового года» (1963)
«История одной компании» (1965)
«Евангелие от Робеспьера» (1972)
«Прогноз на завтра» (1972)
«Два года до весны» (1975)
«Тигр переходит улицу» (1976)
«Репетиция в пятницу» (1978)
«Парижская ярмарка» (1980)
«Большой беговой день» (1983)
«ФССР. Французская Советская Социалистическая республика» (1985)
«Меня убил скотина Пелл» (1991)
Анатолий Гладилин родился в 1935 году в Москве. После окончания школы работал электриком, в 1954-58 гг. учился в Литературном институте им.Горького. Наступало время оттепели, время необыкновенное, когда самый невинный вроде бы прозаический пассаж воспринимался как смелое разоблачение: «Стояли последние дни зимы. На одной стороне улицы еще мороз (сегодня минус двенадцать), а на другой с сосулек падают громкие капли». (Илья Эренбург, повесть «Оттепель».) Впрочем, метафоры действительно высвечивали реальность: на одной стороне – мороз, наследники Сталина; на другой – начало живой жизни. Гладилин оказался на той стороне улицы, где падали «громкие капли». Он и сам был «громкой каплей», ибо с его «Хроники времен Виктора Подгурского» (1956) началась новая литература – «молодая», или «исповедальная», проза шестидесятых.
«Молодая проза» пробила основательную брешь в канонах соцреализма, через которую и вывела на сцену нового героя (молодого горожанина), новый язык (разговорный, иронический), новую раскованную форму письма. Этот тектонический сдвиг в культуре имел далеко идущие – вплоть до постсоветских девяностых годов – последствия, с него началось наше новое самосознание. Возможности «молодой прозы» были тогда ограничены: например, в 57-м году Гладилин уже мог написать, но не мог опубликовать повесть «Беспокойник» – она стала чуть ли не первым Самиздатом, который естественным образом превращался в Тамиздат. Естественно также, что писатели этого поколения и умонастроения и составили по преимуществу третью волну эмиграции. В 72-м году роман Анатолия Гладилина «Прогноз на завтра» попал на Запад, а через четыре года туда попал и сам автор.
Ушла из жизни старая фразеология – та неистинная речь, против которой прежде всего восстала литература «шестидесятников». Но появился другой «новояз», столь же легко подменяющий живое слово и живую мысль. Потому и обаятельны для нас сегодня давние рассказы Анатолия Гладилина, собранные в книге «Каким я был тогда». Она увидела свет в 86-м году благодаря американскому издательству «Ардис», самоотверженно и бескорыстно поддерживающему русскую литературу.








