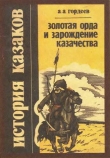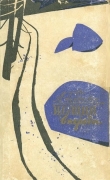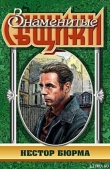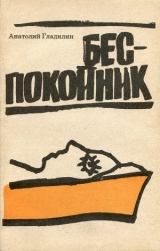
Текст книги "Беспокойник"
Автор книги: Анатолий Гладилин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
– Пауль, может, денег тебе дать?
Усмехнулся латыш:
– Я на чужой беде не наживаюсь.
Дохромал хозяин с чемоданчиком до шоссе (что-то с ногой случилось, впопыхах и не заметил) – а все уже разъехались. Пустота. Дождь. И шоссе чистое. Все следы смыты. Словно ничего и не произошло. Словно ничего и не было. И может, вот-вот появится из-за поворота маленький, «такой хорошенький, с ушками и глазками»...
Час «голосовал» Хозяин. Тянул руку. Тихо проносились мимо «Волги» и «Победы», да кто остановится? Много вас развелось вдоль дорог, любителей кататься на дармовщинку.
Хозяин промок насквозь, потерял всяческую надежду, – но тут притормозил старенький «Москвич». Любезные старичок и старушка. Без разговоров открыли дверцу.
...Шустрит «Москвичонок» к Риге. Скорость – не больше тридцати. Тепло в машине. Сухо. Уютно. Спокойно. А кто на 71-м километре остался, кто на дворе под дождем лежит, верный товарищ, сам погиб, тебя спас – да ладно, да хватит (так, кажется, говорил Красавец), распустил нюни, скажи еще спасибо, ведь жизнь продолжается...
– Разрешите сигарету?
– С превеликим удовольствием. Хотя, молодой человек, медицина утверждает, что никотин отрицательно влияет на здоровье.
– Совершенно с вами согласен. Вредная привычка.
Вернулся Хозяин только зимой. Сунулся по инстанциям. Ему объяснили, что нужно ехать в Огрский райотдел: там бумагу должны составить, дескать, не было в этот день дорожных происшествий, никого Красавец не сбил, не задавил, не опрокинул.
Огрский райотдел милиции – двухэтажное здание, как раз напротив универмага. Чистота, пустота, благолепие. Побродил Хозяин по коридору, почитал лозунги на стенках: «Создадим», «Добьемся», «Построим». Под плакатом «Все дороги ведут к коммунизму» секретарша чистила ногти.
Милый разговор произошел:
«Где Зам?» – «На занятиях!» – «Где Пом?» – «На объекте!» – «Где старший инспектор?» – «Участок объезжает!» – «Где начальник?» – «Нету начальника!» – «Когда его приемные часы?» – «В среду!» – «Так сегодня среда?» – «Ничего не знаю, вызвали начальника в район!»
Другой бы на месте Хозяина угомонился, явился бы в следующую среду, но Хозяин – человек нервный, взбеленился, вытащил красную книжечку, хлопнул ею об пол. Секретарша шею вытянула, обомлела: корреспондент Центральной газеты!
Юркнула секретарша в кабинет и оттуда выпорхнула, раскланиваясь, мол, проходите, пожалуйста, ошибочка вышла, я подумала, что вы простой, советский.
А в кабинете и Зам, и Пом, и старший инспектор, и сам начальник. Застегнуты, подтянуты, соответствуют должности, улыбками щелкают – прямо иллюминация, как в светлый праздник Седьмое Ноября.
– Просим! Садитесь! Пепельница слева! Лимонад или кофе? Позвольте узнать, чем наше скромное учреждение привлекло ваше внимание?
Хозяин дело понимал. Спросил о показателях. Показатели были все на уровне. Преступность в районе катастрофически падала. Бытовые происшествия пресекались профилактической работой сотрудников. Число аварий на дорогах (на тех, которые ведут к коммунизму) значительно меньше, чем в прошлом году.
Хозяин эти цифры аккуратно записал в блокнотик и как бы между прочим:
– Кстати, об авариях. Тут летом со мной случился казус...
Товарищи из райотдела мигом все схватывали, на ходу, подметки рвали:
– Оформим чин-чинарем! Грузовик достанем, вывезем. Где это произошло? На семьдесят первом километре? Скверный поворот. Там не то что «Запорожец», недавно трактор перевернулся! Но уже разработан проект, этот участок будем заново профилировать – смета утверждена. Поэтому не стоит в центральной прессе...
– Конечно, не стоит!
Руку долго жали.
И все-таки Хозяин тоже поехал на 71-й километр.
Во дворе хутора по пояс в снегу лежал Красавец. Передние шины спущены, попка задрана. Рожица, сплющенная от удара, застыла в болезненной гримасе. Пустые глаза мертвы. На лбу, где засохло варенье, – красные сосульки.
Отвернулся Хозяин, шмыгнул носом, утерся:
– Спасибо, Пауль! Спасибо, что выручил! Спасибо, что сберег. Вот деньги: купи ребятам три пол-литра. Пусть помянут добрым словом.
Технический паспорт Красавца и мотор купил какой-то народный умелец. Видимо, задумал смастерить себе механизированную тачку.
А кузов «Запорожца», бренные останки, куда девать?
Заседала авторитетная комиссия. Решала.
С одной стороны, было мнение, что раз характер Красавца бесспорно героический, то соорудить Красавцу памятник, прямо у дороги, на месте происшествия.
Но, с другой стороны, всплыли иные мнения. Дескать, морально Красавец был не очень устойчив (припомнили наезд на клумбу в нетрезвом виде, лихачество на Крымском шоссе).
А физически устойчив? Физически совсем неустойчив!
Зачитали заключение иностранного специалиста. Иностранец аж диву дался. Иностранец анализировал технические данные и утверждал, что, по идее, Красавец должен был попасть в аварию при первой же попытке обгона, перевернуться на третьем повороте, потерять колеса на четвертой тысяче своего километража, сгореть на пятой, рассыпаться на мелкие детали – на шестой.
Огорошила всех техническая экспертиза иностранца. Такой категоричности не ожидали. Правда, кто-то вякнул, что, мол, близко к истине: ведь не случайно сняли с производства старый «Запорожец», запустили новую, модернизированную модель – на ошибках учимся!
Но сурово сдвинул брови председатель комиссии.
– У иностранца кишка тонка! Не понимает, жук валютный, русского характера. Подумаешь, технические данные! А как во время войны? Хлеба четыреста граммов, луковица, три патрона в винтовке – и ничего, разбили немца! Победили! И все миролюбивые народы Европы нам до сих пор благодарны. Вот так!
Постановили: возвести на 71-м километре бетонный постамент, водрузить туда кузов Красавца и плакат соответствующий. Утвердили единогласно.
Однако, как иногда еще случается, решение приняли, а проведение его в жизнь – не проконтролировали.
Бетон для постамента, точно, достали. Но весной в колхозе коровник рассыпался, бетон туда и утянули.
Район задолжал Вторчермету, и пионеры кузов «Запорожца» на металлолом сволокли. Тем самым район план перевыполнил.
Зато плакат остался. Поезжайте на 71-й километр шоссе Рига—Даугавпилс, полюбуйтесь. Высокий плакат, красочный. Железные опоры, алюминиевая доска. А на ней несмываемыми, светящимися ночью буквами написано:
«СОВЕТСКОЕ – ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!»
Париж, 1976
КОНЦЕРТ ДЛЯ ТРУБЫ С ОРКЕСТРОМ
«Не повесть, не роман, не очерк, ...а просто соло на фаготе с оркестром – так и передайте».
В. Катаев. «Кубик»
Вся моя жизнь – концерт. То, что происходит со мной, помимо концерта, – затянувшийся антракт. Сон, утренний туалет, завтрак, прогулка, репетиция, обед, какие-то разговоры, общение с семьей – все это я воспринимаю как досадную, но, увы, необходимую паузу между выступлениями. Нас, оркестрантов, вероятно, можно сравнить с древними жрецами, которые целый день готовились, настраивались, приводили себя в особое, божественное (или, с точки зрения современной медицины, сомнамбулическое) состояние, чтобы на один час стать ясновидцами.
День – это какофония борща и перегретой электробритвы, драма пережаренной яичницы, конфликт между отцами и детьми из-за мусорного ведра, это поиски тишины в сапожной мастерской, это диспут на моральные темы в очереди за селедкой, это бег рысаков-прохожих по чужим мозолям, это пилка дров ржавой пилой со второго такта, это рыбная ловля «на блесну» в кошельке жены, это галантерейный набор старых анекдотов в курилке, —
но первый звонок врывается в вестибюль, как порыв ветра на аллею бульвара, вороша опавшие пестрые листья, —
день – это нисходящие, восходящие, уходящие, заклейменные липким шрифтом пишущей машинки проходящие бумаги, которые люди (в строгих серых костюмах, люди с высокими лбами и волевыми подбородками) разрисовывают косыми абстрактными автографами и передают друг другу (в этом пригородном вокзале циркуляров есть тоже свои часы «пик» – бумаги несутся, пропуская остановки, и нетерпеливо гудят); это протезные руки кранов, лениво шьющие ширпотребовский костюм нового квартала; это румяные блестящие машины, спрыгивающие с конвейера, как пятаки из разменного автомата, —
но второй звонок устраивает легкую карусель у дверей партера, —
день – это стиральная пена океана, в которой плещутся помятые стальные посудины; это мечтательные глаза лунатика-часового, прислонившегося к заиндевевшему основанию вороной межконтинентальной ракеты; это мозаика сигнальных лампочек на пульте управления космического корабля (а сам пилот искоса наблюдает, как намазанный маслом бутерброд кувыркается в кабине, гоняясь за полированным кружком копченой колбасы); это формула, извивающаяся и шевелящаяся в тетрадке ученого, марсианская бактерия, способная отравить или исцелить нашу планету, —
но третий звонок насухо подметает лестницу и фойе
дирижер застывает в позе распятого Бога, повернувшись лицом к освещенному алтарю
костел с кренделями хоров, в котором верующие столетиями просили отпущения грехов
церковь, где пели монотонные псалмы первые христиане
пещера со сталактитовыми сосульками люстр, в которой далекие предки прятались от ужасов первобытного мира, благоговейно любуясь жаркими плясками языческого костра.
И вот раздается вздох, низкий грудной голос нашей матери Земли.
Человек наедине с природой, наедине с самим собой, что было, то и будет, что делается, то и будет делаться под солнцем, но мы мечтаем об ином и будем мечтать, пока не умрем, будем надеяться на лучшее, так почему оно, это лучшее, еще не наступило, а если оно есть, то надо задержать навечно минуты счастья, а если оно прошло, то когда вернется?
Глухие аккорды струнных звучат на низких октавах. Равномерные взмахи лопат. Пехота все глубже зарывается в землю. Эшелонированная оборона виолончелей. Прячьтесь от злых сил холодного мира! Слабо всхлипывают передовые укрепления скрипок. Вздрагивают короткими очередями альты. Самоходка рояля заползает на рваных гусеницах минорных пассажей в укрытие. Тупо и обреченно ухают гаубицы басов и баритонов.
И вдруг в небо взмывает труба. Это поднят фланг наступления. Это идут наши самолеты, пехота выскакивает из укрытий. Альты обгоняют скрипки. Виолончели выстраиваются в штурмовые колонны. Рояль несется на мажорной скорости. Тяжелый калибр духовых стреляет прямой наводкой. Задыхаясь, семенит арфа-санитарка. Замполит-ударник бьет в литавры. Победа близка.
И все потому, что вступила труба.
Высокий звук трубы, повисший над низкими октавами струнных, дает ощущение забытого, доисторического счастья.
Господи, как хорошо тем людям, которые могут понять эту гармонию. Как ярка их жизнь! Можно сказать, на ровном месте, без тревог и волнений, они вкушают райское блаженство – и всего-то за рубль, рубль пятьдесят – цену входного билета.
Впрочем, и в гармонии должен быть порядок. Для нас, профессионалов, это система расположения на нотной бумаге семи знаков – до, ре, ми, фа, соль, ля, си (до-ре-ми-фа-соль-ля-си, села кошка на такси, заплатила сто рублей и поехала в музей), – это минорный или мажорный ряд с кавалерийскими наскоками бемолей и диезов, это... Впрочем, смотрите сами нотную грамоту. Для себя я давно заметил, что эти знаки на определенной октаве прочно вошли в мою жизнь. Я просыпаюсь под звук «ля» (гамма си-диез минор). Засыпаю на «до» в нижнем регистре. Жена моя начинает меня пилить с «ре». Доклад на международную тему обязательно кончается на «фа мажоре». Когда на репетициях у нас, допустим, вместо финала пятой симфонии происходит сеча русских с кабардой, то концертмейстер стучит по пюпитру и на жалобном «ми» произносит: «И не стыдно, товарищи?» «Соль» и «си» – это голоса моих детей. Вероятно, я не одинок в своих причудах, ибо помню, как в гостях у Петухова, первой скрипки, валторна Шенгелая рассказывала разные забавные байки и все смеялись, а альтист Садовкин сидел зажмурившись и покачивал головой. «Что вы заскучали?» – спросили Садовкина, и он, словно проснувшись, обволок нас своими вязкими синими глазами и сказал: «Какое чистое «ля» сейчас выдала девочка!»
Однажды все эти знаки приобрели четкий человеческий облик. Я вошел в вагон метро, достал газету и вдруг вздрогнул. Прямо передо мной сидела вся гамма. Причем самое странное было то, что знаки не перемешались, а расположились в строгой последовательности слева направо:
«До» – молодой парень с черными прямыми волосами, спадающими на глаза, без улыбки, серьезный, подтянутый – словом, именно таким я представлял себе этот звук.
«Ре» – ощеренный худой работяга, колючий взгляд, распахнутая рубашка, длинные руки.
«Ми» – благообразный лысый интеллигент, в меру начитанный, чуть ироничный.
«Фа» – человек с лицом «фа», просто копия знака, висящие щеки и уши, маленькие испуганные глаза.
«Соль» – пожилая домохозяйка, расползшаяся, но благопристойная, опора семьи.
«Ля» – удачливый, веселый, в светлом костюме субъект, балагур-остряк, душа общества.
Гамму завершали поднятые брови, закаченные подведенные глаза, вздернутый нос, взбитая прическа – в общем, типичное «Си» – романтически настроенной крашеной блондинки лет сорока пяти с кружевным бабушкиным воротничком.
Не хватало только ключа из пяти линеек. Возможно, я бы определил тональность, но тут на остановке ворвалась толпа визжащих детей со своими ошалевшими родственниками; гамма моя была растерзана в клочья: на месте «соль» и «ля» взгромоздились трое близнецов с двумя огромными хозяйственными сумками, и вообще пошел такой диссонанс...
Диссонанс возникает, когда люди не понимают друг друга. Я стою перед моложавым озабоченным человеком, который одновременно говорит по двум телефонам, дает указания секретарше, а в перерывах слушает мои сбивчивые речи. У меня в голове репетиция, у него – заграница. Он комплектует составы на зарубежные поездки, а я (в старом, обсыпанном перхотью пиджаке) никак не гармонирую, не вписываюсь в ансамбль, не соответствую. Он с раздражением посматривает в мою сторону. Перед ним типичный неудачник. Господи, как они ему надоели! Ведь, слава Богу, не безработный, и с жильем в порядке. Куда же я лезу? Ведь любому ясно, что могу бормотать тут целый день, но это ровным счетом ничего не изменит. Лишь занимаю время у занятых людей. Царапаю вилкой по стеклу. Диссонанс.
Много таких, как я, к нему ходит.
Все, наверно, на одно лицо. С готовой отрепетированной улыбкой. Заискивающий взгляд. Некоторая наклонность к юмору (конечно, только над самим собой), наклонность, по которой скользишь и падаешь (конечно, только в его глазах). Очень предупредительны. Готовы сразу признать превосходство, глубину мысли этого власть имущего хмыря. И все ради чего? Расположить к себе, растрогать, разжалобить, окрутить? Нет, не выйдет. Ибо если хмырь хоть что-нибудь понимает, то он догадывается о твоем подспудном искреннем желании плюнуть в его заостренное последними указаниями рыло, в отшлифованную инструкциями рожу – всех их штампуют на одно лицо, под копирку, в тиши таинственных кабинетов, у врат которых сидят на привязи лохматые дворняги-секретарши: не лают, не кусают, но в дом не пускают. Но, догадываясь о твоих желаниях, он уверен, что ты никогда не осмелишься: тебя будут отчитывать, а ты – станешь благодарить, над тобой будут вежливо издеваться (именно вежливо, в этом состоит правило игры), а ты – станешь извиняться.
Но ты же трубач!
«Когда трубач над Краковом возносится с трубою». Возносится!
День Страшного суда архангел возвестит сигналом трубы. Люди заткнут уши, чтобы не слышать, и уставятся в телевизоры, но там, на экране, вместо спортивной передачи, появится Конь Блед. Так вот, может, за минуту перед тем, как взять в руки трубу, архангел позовет меня и попросит дать консультацию, дескать, с какой ноты начать и как вести (на «фа диезе» или «ре миноре»), и надо ли доходить до верхнего «ля», – ведь архангелу не захочется схалтурить или сфальшивить, ведь архангел знает, что в нашем деле тоже техника нужна.
Я трубач, и тема трубы – призвание человека, его предназначение, единственный мотив, который прорывается сквозь шумовое оформление нашего лучшего из миров. Надо слышать эту тему, иначе мы потеряем самих себя.
Труба – это наша совесть. Но мы прячем трубу в футляр. Нам надо будить людей, а мы выдумываем мыльные пузыри танцевальных ритмов. Судьба играет человеком. Библейская истина. А человек играет на трубе. Анекдотец из мужской курительной комнаты.
Все верно. Верно потому, что нам не сыграть сигнал тревоги. Мы пасем стадо и своей мелодичной трелью зовем его к водопою. На пастушеских рожках. Да и сами мы стадо. И нас пасут. Дают пожевать травку на специально отведенных тощих пастбищах. И это состояние для нас привычно и естественно. Весь наш бунт сводится не к протесту против пастухов. Нет, мы недовольны только плохими пастухами! Нам бы сторожей-вегетарианцев – мы мигом успокоимся. Идиллия. Такого не бывает. Хорошо, говорим мы, но если вы закалываете на ужин кого-нибудь самоуверенно блеющего, то делайте это потише, где-нибудь в сторонке, по возможности объясняя остальным необходимость сего их же безопасностью. Желательно, конечно, в такие моменты показывать нам новые ворота. Здорово отвлекает. И мы все воспринимаем как должное. Да еще благодарственный адрес подпишем. Волки и овцы едины! Приятного аппетита.
Короче – например, лично меня вполне устраивает Виктор Николаевич Самородов.
Повторение темы, басы:
и все они, эти люди, которые нас пасут, которых нам поставляют сверху, все они металлические, цельнометаллические. Не железные (это был бы комплимент, гвозди из них не сделаешь), скорее всего они жестяные, жесткие. И костюм у них тускло отсвечивает, и на лице отштамповано выражение превосходства (им известно, когда с каждого из нас спустят шкуру, – а мы строим иллюзии, беззаботно щиплем траву), и глаза – жестянки. И рот у них не улыбается, а открывается вполкруга (уголки рта презрительно опущены – отверстие достаточное, чтобы из банки вылилась очередная тонизирующая или охмуряющая жидкость). Но почему, почему он имеет право командовать? Он разбирается в музыке? Он умеет найти ключ к человеку? Из всех ключей он, естественно, орудует только консервным. Впрочем, мои слова его не пробьют. Он блестит на солнце жестяными доспехами, у него блестящее будущее, он и они далеко пойдут, но не очень, им далеко до Самородова, и это, пожалуй, единственное, что несколько успокаивает. Самородов – талант, умница, чиновник по призванию, ему не нужен кованый панцирь и металл в голосе. Он самородок, он родился, чтобы руководить.
Виктор Николаевич – полковник. В сорок восьмом году, для укрепления политвоспитательной работы, его перебросили в наш оркестр из бронетанковых войск.
Часть вторая. Аллегро модерато. Краткое содержание: тенистый парк шумит зелеными кронами. На ветру полощутся стяги дружественных армий. К пустынной скамейке около фонтана подходит героиня в бело-розовом платье. Она садится, поправляет подол, достает конспекты лекций и скромно закуривает. Тихо щебечут птицы и тонкие струйки фонтана. В центре фонтана стоит статуя Вождя. Голова запрокинута, правая рука вытянута вперед. Изо рта бьет мощный поток воды.
Часто мы выступаем под управлением гастролеров, наших и зарубежных. На концерте мы следим за каждым движением дирижера. Он рукой взмахнет, голову опустит, брови подымет – на все оркестр чутко реагирует. Ведь мы – послушный инструмент, мы – под управлением.
Гастролер собрал аплодисменты и укатил. Скатертью дорога. Нас, словно временно, сдавали напрокат. У нас же есть свой Главный.
Фамилия Главного печатается на всех афишах. Главный принимает поздравления и выступает «от имени» на юбилеях. Главный проводит большинство концертов, составляет репертуар, определяет так называемое лицо оркестра. Главный шпыняет нас на репетициях и дает персональные «домашние задания». Главный устраивает «конкурс», но уже тут он не совсем главный. Способности, профессионализм, конечно, имеют значение, но еще важна и анкета. А это в компетенции инспектора, Виктора Николаевича Самородова. Да и репертуар Самородов тоже контролирует. Дескать, не мне вам подсказывать, уважаемый Главный, но у нас намечается нехороший крен в сторону западной музыки, надо бы взять что-нибудь из русской классики или современное, советское, оптимистическое, в народных традициях.
Главные бывают разные. Некоторые ногой открывают дверь приемной министра культуры, и при них Самородов старается держаться в тени. Но Главные приходят и уходят. На моем веку их было восемь. А Самородов остается.
Самородов дает нам характеристику для загранки, включает в гастроли, выписывает премии, утверждает тарификацию.
К Главному обращаешься с какой-нибудь просьбой – он пообещает с три короба, а потом забудет. Что с него взять? Человек творческий...
Самородов если скажет «да» – значит, «да». Если «нет» – бесполезно жаловаться. Потому что Главный – он Главный, а Самородов – хозяин.
Помню, как квартиру получал. Давно очередь подошла, справок собрал на полтора килограмма (от нервного диспансера и от пожарной охраны ходатайства имелись), а исполком все тянул. Я к Главному бегал, и Главный не поленился, при мне звонил. Ему, конечно, пообещали протолкнуть, ускорить (все-таки он Народный и Заслуженный) – и опять ни с места.
Вот тогда я отправился прямым ходом к Самородову. Выложил все как есть.
– Виктор Николаевич, – говорю, – позвоните в исполком! Дети малые, в комнате не повернуться, соседка в суп мусор подкидывает.
Самородов посмеялся, а потом сказал:
– Звонить бесполезно. Я старый аппаратчик и знаю, как дела делаются. Я бумагу напишу. Придет бумага в исполком, а там тоже чиновник сидит. Он понимает, что у меня копия осталась. Бумага – вещь серьезная. От нее не отвертишься.
Составил он письмо, и через неделю мне ордер выписали.
Однажды я влип в неприятную историю и, как всегда, не вовремя. Проходил у нас очередной конкурс на замещение. И меня должны были перевести из артистов оркестра в солисты оркестра. Я подходил по всем статьям, вопрос казался решенным, но тут случилась аморалка между второй скрипкой Ватрушкиным и валторной Шенгелая. Вроде бы дело их личное, но в наши дни не такое уж простое: для морального разложения нужна свободная жилплощадь. Они оба – люди семейные, а я с Ватрушкиным еще в армии в одном подразделении служил. Вот и попросил меня Ватрушкин как старого друга помочь. Ключи я им от квартиры оставлял (моя жена с детьми на лето в деревню уезжала). Потом эта история всплыла, шум поднялся неимоверный. Муж Шенгелаи говорил с Ватрушкиным на улице и отправил его на бюллетень. Партбюро заседало, подробности выясняло. Где встречались? У Котеночкина. Ах так, значит, Котеночкин покрывал, потворствовал? И накрылась моя переаттестация. Даже к конкурсу не допустили.
Опять я побежал к Самородову плакать и рыдать. За звание солиста я бы надбавку к жалованью получил. Жена моя пальто рассчитывала купить, на холодильник записались. Что же теперь делать? Как жене объяснить? Заподозрит еще чего, и прощай здоровая советская семья!
Ладно, сказал Самородов, подготовьте бумаги, пробьем.
Прихожу я к Главному. Он сидит с Самородовым, мое дело листает. Самородов докладывает: так, мол, и так, Котеночкин просит перевести его в солисты, а я не могу, я наложу резолюцию, а вы, уважаемый Сан Саныч, спросите: «На каком основании?», по закону это компетенция конкурсной комиссии, а она соберется только через два года. Главный соглашается: дескать, он лично ничего против не имеет, но закон есть закон, у нас демократия.
Я стою, дурак дураком, понимаю, что они правы, а сам близок к истерике. Хорошо, закон есть закон, но зачем же вы, Виктор Николаевич, обещали? Зачем издевались над человеком?
Самородов продолжает:
– Я очень хочу помочь Котеночкину, но не вижу путей.
Сан Саныч и тут соглашается: действительно, что-то не видно.
Самородов повторяет:
– Я очень хочу помочь Котеночкину, но...
И они долго переливали из пустого в порожнее, а я уже в полуобморочном состоянии, дай, думаю, хлопну дверью и уйду, но тут Главный вдруг догадался.
– Хорошо, – говорит, – раз так хочет Виктор Николаевич, я это сделаю.
Самородов натурально удивляется: дескать, каким образом?
– В порядке исключения, – говорит Главный, – у нас был прецедент с Морозовым.
– Ну, если вы это дело санкционируете, то я подпишу, – сказал Самородов.
Только тогда я все понял. Не обманул меня инспектор. Просто он мужик ушлый и хитрый. Не хотел брать ответственность на себя. Самородов прекрасно изучил наш дружный творческий коллектив. Начинается склока, Самородова обвинят, что, дескать, у него любимчики. А теперь никто не подкопается.
Как-то Петухов, первая скрипка, выступил на собрании против Самородова. Дельно говорил, зло. И про администрирование, и про зажим критики, и про необоснованное вмешательство в репертуар. Присутствовали представители из Министерства, и мы решили, что запахло жареным. Все-таки Петухов – первая скрипка, да и человек осторожный, – значит, учуял что-то. Петухов говорил, зал одобрительно хлопал, а Самородов сидел спокойно. Правда, заметил я, что шепнул он слово секретарше, и та на каблучках тук-тук, и потом обратно тук-тук, с тонкой папочкой, которую передала Виктору Николаевичу. Кончил Петухов, гордо спустился с трибуны. Самородов взял слово.
Критика, говорит, хорошо. Замечены, говорит, отдельные недостатки, мы их учтем. Но хотелось бы обратить внимание товарищей на личность самого Петухова. Петухов, конечно, музыкант одаренный, но... И стал Самородов листать папочку, зачитывать некоторые бумаги: Петухов три года не отдает двести рублей в кассу взаимопомощи. Прошлым летом у него был привод в милицию за пьяный дебош в ресторане. Во время гастролей во Франции, когда весь коллектив отправился на кладбище Пер-Лашез возложить цветы у стены расстрелянных коммунаров, Петухов остался в гостинице, сославшись на недомогание, а потом побежал в стриптиз на рю де Мольер. В юности у Петухова была судимость за спекуляцию консервами на Тишинском рынке, на этот факт своей биографии Петухов не указывал ни в одной анкете. В студенческие годы за незаконную связь с несовершеннолетней школьницей...
Тут собрание зашумело, раздались крики: гнать подлеца из оркестра! убрать вообще из системы Министерства! культуру в народ надо нести чистыми руками!
Мы думали – конец Петухову. И вышибли бы нашу первую скрипку к чертовой матери, и пиликать бы ему до конца своих дней рапсодии на темы Дунаевского в кинотеатре перед вечерними сеансами, но потом, когда вопрос решался в высших инстанциях, за Петухова заступился... Самородов.
Впоследствии я сообразил, что ни к чему было Виктору Николаевичу увольнять Петухова. Петухов теперь, можно сказать, человек со сломанным хребтом. Будет шелковым. А с новым скрипачом еще работать и работать!
Моя жизнь – концерт. Я надеваю черный фрак с длинными фалдами, похожими на хвостовое оперение пассажирского лайнера, и на три часа улетаю к высотам чистого искусства – черный ангел с модернизированными короткими крыльями для преодоления звукового барьера (еще я похож на королевского пингвина в белой манишке). То, что происходит со мной, помимо концерта, – затянувшийся антракт. В старой полинявшей кофте я брожу по квартире, варю суп на газовой плите, кормлю детей, когда они возвращаются из школы, и играю на трубе. Гаммы и этюды. Доремифасольляси, села кошка на такси. Такой пушистый котеночек. Хвостиком помахала и уехала в жаркие страны. Теперь повторим в верхнем регистре. Ежедневно, часов по восемь. Отработка техники. Однообразно, но зато успокаивает. Гаммы и этюды – мои закадычные приятели. Нам все известно друг про друга, не надо вставать на носки, искать умные слова, выдавать себя за того, кем ты на самом деле не являешься. Привычная компания. В этом кругу проходит моя жизнь. «Одиночество бегуна на длинные дистанции» – читал я когда-то и эту книгу. Я забыл сюжет, но помню одно: чтобы показывать приличное время, бегун должен пробегать километров двести за неделю. Хочешь не хочешь – а надо. Надо поддерживать форму. И потому стайер остается в одиночестве. Это понятно. Кто же по доброй воле будет пробегать с ним тридцать километров ежедневно, в дождь и снег, да еще с ускорениями? Выступление на стадионе – концерт. Праздник два раза в месяц. Но в остальные дни – это кросс по пересеченной местности, интенсивная тренировка. Моя дистанция – это моя жизнь. Целыми днями я играю на трубе одно и то же. Поддерживаю форму. Зато на концерте (переходя на спортивную терминологию) я могу вырваться вперед. И хмырь болотный, слушая мое соло, скажет: класс!
Сначала соседи по дому смотрели на меня белыми ненавидящими глазами. Некоторые меняли квартиру. Но те, которые оставались, привыкли. И семья привыкла. Для жены мои пассажи как однообразный рев машин на улице. Она просто этого не слышит. Дети относятся ко мне снисходительно. Конечно, у других отец приходит с работы и сообщает анекдоты, происшествия, включает телевизор, проверяет уроки. А я скучный человек. Играю на трубе. Упражнения, которые всем осточертели. Но я все-таки папа. Кормилец. Глава семьи. Меня надо уважать или хотя бы делать вид, что, дескать, уважаю, за хвост беру и провожаю. Провожать по вечерам на концерт. Я забыл, что значит слово «хочу». Я знаю слово «должен». Тридцать километров, кросс по пересеченной местности в дождь и в жару. Обязан. Говорят, музыканты – тупые люди. А как тут не отупеешь? Мы словно в летаргическом сне – просыпаемся на три часа в день, когда начинается концерт. Легко и свободно мы взмываем в поднебесье и учим людей летать, и учим людей мечтать, и учим людей быть людьми. Но потом снова гаммы и этюды, повторение партитуры, одиночество бегуна на длинные дистанции. Боль в груди – это обычная вещь при моей профессии. И во рту постоянный медный привкус от мундштука.
По ночам я редко вижу сны. Сплошной черный занавес, свет отключен. Однако если сны приходят, то там я тоже играю на трубе.
Впрочем, мне – грех жаловаться. Ведь ничего другого я не умею.
Часть третья. Анданте кантабиле. Краткое содержание: однажды великий русский композитор лежал в постели и предавался приятным размышлениям. Вдруг в дверь спальни постучали. «Чего тебе, Архипка?» – спросил композитор очень недовольным голосом, ибо в доме все знали, что композитор по утрам не просто сибаритствует, а музыку пишет – да, да, нотная бумага на тумбочке, перо в чернильнице у зеркала, и весьма неплохо получается на свежую голову. «Барин! – сказал Архипка из-за двери. – К вам граф прибыли, из Императорского театра». Композитор чертыхнулся, проворно облачился в халат и вышел в гостиную. Действительно, там удобно расположился в кресле зам.директора Императорского оперного театра граф Н. «Чему обязан, ваше сиятельство?» – осведомился композитор, и в тоне этого вопроса даже немузыкальное ухо могло различить нотки недовольства и смущения. Недоволен был композитор потому, что ему прекрасно были известны причины раннего визита титулованного служителя Музы. Срок договора на новую оперу истек, а у композитора еще не была готова и половина партитуры. Смущение же композитора объяснялось тем, что в его спальне сейчас находилась дама, связь с которой он вообще старался не афишировать, а перед графом особенно. Граф встал, небрежно поклонился и начал, блистая амуницией и позвякивая шпагой, фланировать по комнате. Граф в изящных выражениях намекал композитору, что, дескать, общественность ждет новую оперу, срок пролонгации истек и через суд администрация может свободно аванс затребовать. Граф ораторствовал, а композитору казалось, что его сиятельство с любопытством поглядывает в сторону спальни, тем более что оттуда послышался звон разбитого флакона. Надо было срочно выкручиваться из неприятной ситуации, и тогда композитору пришла в голову гениальная мысль. Композитор сказал, что он уважает административный талант графа, но подозревает, что граф не очень разбирается в творческих вопросах. Партитура не закончена, ибо композитору надо поехать в свою деревню, поприсутствовать на какой-нибудь крестьянской свадьбе с песнями и танцами, послушать музыку в трактире и т.п. «К чему такие сложности?» – натурально удивился граф. «К тому, уважаемый, что музыку сочиняет народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем». Граф обалдел от такого откровения и поспешил откланяться, композитор облегченно вздохнул, а через сто с лишним лет в центральной прессе на всю полосу крупным шрифтом была набрана великая цитата: «Музыку сочиняет народ, а мы, композиторы...», и далее по тексту. Впоследствии эта мысль явилась основополагающей для ста двадцати одной докторской диссертации, а число кандидатов перевалило за две тысячи. Цитата переходила из книги в книгу, из статьи в статью, и долго еще художники выписывали эти слова на плакатах в районных клубах, на фронтонах музыкальных школ, в фойе консерваторий и филармоний. Модные песенники в тиши огромных государственных квартир лихо перекладывали бразильские фокстроты (народная музыка негров) на оптимистические авиационные марши, а за окнами в морозной дымке клубилась эпоха базиса и надстройки.