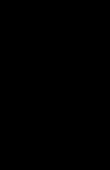Текст книги "Тайна Змеиной пещеры (Повесть)"
Автор книги: Анатолий Евтушенко
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
И вдруг донеслось с крыши сарая:
– Машина едет!
В атаку бросились все без разбора. Стрелки и подносчики, дозорные и медсестра. Машина повернула к кладбищу и помчалась в самую гущу боя на полном ходу. Митька сигналил без устали. Из кабины выглядывал Костя. «А что же не видно его „пиратов“»? Антон крикнул: «Ура-а!» Костя выскочил из кабины, но на помощь не торопился. У него какое-то странное выражение лица, растерянно смотрит на ребят. Антону показалось, что это вовсе не тот Костя. И Митька не тот выглядывал из кабины, положив голову на руки. Смотрел он и никого не видел. И вихор у него поникший, и не было на лице счастливой улыбки. «Разве с Васильком что случилось или с Натулей в больнице», – подумал Антон.
Только Митька уже не смотрел на него.
– Хватит, хлопцы, воевать-то… между собой. Сегодня утром напали на нас германцы. Теперь настоящая война началась.
Костя молчал. Ребята недоверчиво переглядывались. Поверить было трудно, а понять еще труднее. Зачем она, война, сдалась? Настоящая… а?
– Садись, Антон, в кабину, отвезу домой. Такое вот дело.
Ехали по улице не спеша. Костя сказал Антону:
– Немцы наступают по всему, фронту. Города бомбят.
За машиной, сшибая и обгоняя друг друга в облаках пыли бежали мальчишки. На разные голоса слышалось:
– Война! Война!
Встречные махали на них руками:
– С ума посходили что ли?
– Война-а! Война-а! – орали в ответ мальчишки, бежали дальше, разнося по селу недобрую весть.
Глава шестая

В середине дня занепогодило. И ветер, и гром, и молнии, и дождь – откуда только все взялось и налетело? В другой раз из хаты никто носа не показал бы, а тут – шли и шли. Не прикрываясь от дождя, промокшие, молчаливые люди собрались около конторы.
Председатель «сидел на телефоне», район долго не отзывался, линию повредило, что ли. Потом связь наладилась – сказали: проводите митинг.
Стояли у конторского крыльца изменившиеся до неузнаваемости односельчане.
Дед Нырько, потерявший руку не то в японскую, не то в империалистическую. Его мокрые висячие усы прилипли к подбородку. Струилась с непокрытой головы дождевая вода.
Грицько Хрипченко, здоровяк с завидной шириной плеч. В притушенных глазах его не было ни одной искорки-озорницы. Да полно, он ли это, тот самый Грицько, который не мог пройти мимо любого мальчишки, чтобы не учинить над ним какой-нибудь каверзы? Его жена, Паранька, маленькая, круглолицая, с ямочками на щеках, стояла рядом, держась за мужа.
Петя Ваштрапов, несмотря на то, что день воскресный – трезвее трезвого. Вмятины, оставленные на его лице оспой, заполнились дождинками – точь-в-точь, как соты медом.
Отец Васьки Пухова нетерпеливо топтался на одном месте, сплевывая дождевую воду.
Старый Деркач обводил людей прищуренным взглядом, крутил осторожно ус. Наверное, вспомнились ему те времена, когда был он пленником в Пруссии. До сих пор, ведь, слова прусацкие вроде «масер-васер-бутерброд» не позабыл. Умел он как никто газеты читать между строк. Такое иногда вычитает, что все село, услышав, ищет, ищет потом эту новость в газете, да и не найдет. Про то, как в Одессе трамвай с пассажирами под землю провалился. Или про то, как в нашем райцентре германского шпиона поймали – пробирался на лубяной завод, чтоб лично убедиться в прочности петропавловских веревок.
Митька сердито сопел и думал, наверное, про Василька и про Натулю.
Завхоз осуждающе качал головой – не предотвратили, мол, не управились. А дальше стояли женщины и девчата. По их пасмурным лицам ручьями текла дождевая вода, смешиваясь со слезами.
Председатель вышел на крыльцо тоже мокрый. Не от дождя – от пота. Серые, обычно приветливые глаза смотрели отчужденно. В лице – напряжение.
Немец наступает по всей западной границе от Черного до Балтийского моря. Объявлена всеобщая мобилизация. Митька призывается с машиной в распоряжение военкомата.
Толпа, наконец-то, заговорила, заколыхалась и поплыла, разбиваясь на потоки, по улицам, переулкам, дворам.
Дождь отшумел. Быстрые ручьи завели шумный хоровод. Через тын на улицу склонились омытые дождем вишневые ветки с однобоко загорелыми ягодами.
* * *
Маленькой Антоновой сестре пошел второй месяц. Она лежала в люльке, подвешенной на пружине к потолку. Молотила ногами и ловила рукой солнечные зайчики, прыгавшие у нее перед глазами.
Антон посмотрел на сестру и подумал: «Хорошо маленьким. Лежит себе и ничего про войну не знает. Смеется и все, а мать над ней склоняется и плачет».
Труднее всего для Антона – переносить материнские слезы. Глаза начинают мутнеть у него, моргает, моргает, и, как ни сопротивляется, все равно щеки становятся полосатыми. Одна дорожка мокрая, одна – сухая, одна – мокрая, одна – сухая. От всего этого единственное средство было у Антона: он старался поскорее убежать из хаты куда глаза глядят. Бежать по тропинке в огород, в сад. Если никого нет поблизости, отреветься, а если кто встретится, поскорее забыть, почему и отчего сбежал.
Уже второй день идет война. Мать плачет потихоньку, когда отец приходит домой обедать, и громко, когда остается одна.
Отцу ночью принесли повестку. Сегодня он еще мечется по полям и фермам, а завтра вместе с другими уйдет вслед за подводой, нагруженной баулами, по петропавловскому шляху.
Антон знает, что утешить мать нельзя. Старший брат где-то фезеушничает, а младший еще не вошел, как говорит мать, в пору, что с него возьмешь? Одна она останется с ребятишками, которых в семье ни много, ни мало – целых пять. Да сиротка, пригретая в семье.
Антон уже задумываться стал: как это будут они жить без отца? Уж как хотелось ему вырасти, раньше времени стать вровень если не с отцом, так хотя бы со старшим братом. Тянулся изо всех сил, но не успел. Началась война, а он, если даже привстанет на цыпочки, не достает отцу и до плеча.
Мать укладывала в мешок пампушки, когда Антон появился на кухне. И тут началось то, чего он больше всего боялся. Схватила сына в объятия, прижалась к его лицу мокрыми щеками и ну причитать! И столько было печали в ее нежном голосе, столько невыплаканного горя вместила она в единственное повторенное много раз слово: «Сыночек!» Сил никаких не хватило, чтобы не расплакаться вместе с ней. Рванулся Антон в дверь и побежал. Опомнился у самой Самары, за огородом. Перевел дух, оглянулся и видит – стоит среди разлапых тыквенных листьев мельник. Опирается на палку и сам себе что-то говорит. Увидел Антона, улыбнулся:
– А, воробей! Ну, что отец?
Перепрыгнул Антон через канаву, прыгнул еще раз, еще, выбирая маленькие пятачки земли, не покрытые тыквенной ботвой.
– Чего говорите, дедусь?
– Про отца спрашиваю.
– Нет его дома. Уехал в поле.
– На велосипеде?
– Нет, на лошадях. На велосипеде мать не позволяет. Отец на нем худеет очень, когда ездит.
– У вас мать молодец – ко всему у нее ум приложен. И борщ варить и с мужем и с людьми говорить умеет.
– Укладывает мешок и плачет.
– Все теперь плачут. В мою хату три бумаги принесли. Плачут бабы, а я в огороде спрятался. Сяду вот тут и буду сидеть. Тыквы цветут. Пчелы летают. Вишь, один цветок на короткой ножке у самой земли расположился, а другой рядом с ним произрастает, а ножка длинная и цветок вверх потянулся, над листьями маячит. В нижнем тыква зреет, а в верхнем – нет.
– Так тож пустой, – подсказал деду Антон.
Мельник поглядел на него и, покачав головой, не согласился.
– Говоришь, пустой? Пустыми, внучек, только слова бывают. В природе все полное. Только понятие обо всем надо иметь. Приглядись, – дед повел вокруг себя палочкой. – Эти, что ты говоришь, пустые, над зеленым листом горят огнем. Далеко видно их. Зовут они к себе пчелу. Она прилетела, поработала в цветке, вылезла, глядит, а под ним у самой земли второй, она и к нему заглянула. Вот и получается опыл. И так всюду. Один цветок живет ради другого. Этот призвал пчелу и погибает, а тот в силу входит. На вишне, на яблоне тоже, скажешь, бывают пустые? А в них секрет. Завяжись каждый цветок плодом и все дерево погибнет, не вынесет. Надорвется, что ли. После сильного урожая дерево или не рожает год-другой или вовсе сохнет. Пустой – это чистое оскорбление цветку, а не название. По правде если, так верно было бы назвать все это жертвоприношением собственной жизни другим на благо.
Антон сидел рядом с мельником и слушал его красивые слова, от которых так и веяло добром. Ох, дед этот! На что посмотрит, о том и быль-небылицу расскажет. И все-то ему неведомое ведомо и неслыханное им слыхано. Уж сколько Антон тыквенной каши съел и цветков этих перевидел, а знать такое про цветы ему не приходилось.
От слов мельника у Антона голова кружится. От них то сладко на душе, то муторно. Одни из них вдруг проясняют что-то в жизни, другие – сколько ни ломай над ними голову – не поддаются ни рассудку, ни смекалке.
* * *
Водяные, что в Самаре водятся – чепуха на постном масле, – все они на рыжего Афоньку смахивают, и Пухов тоже нарочно хорьков в Макаровой балке бесами окрестил. То для забавы, чтоб потехи было больше. Но дед Кравец всем потешникам потешник. У него не для забавы слова, как у других, а для смысла.
До сих пор для Антона остаются тайной сычи на ветряке и курганы на горбушке горы. Про сычей у деда лучше не спрашивать, а про курганы очень даже можно. Антон прильнул к нему, приластился.
– Дедушка, ты все на свете знаешь?
– Как можно, внучек? Все один господь-бог знает, да и то умные люди в ем сумлеваются. Это все, говорят, человек по слабости своей выдумал. Байка, значит. Силенок да образования не хватало людям, вот они и понапридумали себе помощников. От темноты это. А мы что ж – что видим, то и знаем.
– А про курганы ты что, дедушка, знаешь?
– Какие курганы? – удивился мельник.
– Вон те, что пагорбок оседлали. Над кручей которые, – Антон опустился на колени и замер перед дедом. Нетерпеливое любопытство так и подмывало его сказать мельнику: «Ну что тебе стоит рассказать?»
Мельник, как показалось Антону, умолк надолго. Корявое лицо его стало спокойным. Ровно вздымалась, словно дышала борода, в которой перемешались светлые струйки волос с темными. Они то текли рядом, то смешивались, размывали друг дружку. Мудрая улыбка затеплилась в его непоседливых глазах.
Нет, не под силу было Антону проникнуть в его молчаливые думы. Мельник и сам был не меньшей загадкой, чем те поросшие ковылем курганы.
А взгляд мельника все больше теплел. Какие-то слова зрели в дедовой голове. И вдруг, покачнувшись, не то запел, не то нараспев заговорил мельник:
Он, у недилю рано-пораненьку
Пид Умань выступалы,
А в понедилок ополуночи
Гарматы загулы,
А у вивторок до полудня
И Умани добулы.
Антон глядел на бороду, что качалась туда-сюда и вспоминал старца с пустыми впалыми глазницами. Звуки кобзы… Печальную песню про лихую недолю… И стриженого мальчика, увешанного торбочками, что так жалобно глядел тогда на Антона. Его босые ноги были чернее самой дороги. Древний кобзарь с впалой грудью пел собравшимся на перекрестке левадинцам:
Зажурылася перепелочка:
– Бедна моя та головочка!
Интересно и трогательно было слушать печальную песню про то, как горевала перепелочка – негде было ей гнездо свить. Как отозвался на ее плач «соловеечко»… Жалко стало Антону того мальчика, нет, видно, и у него своего гнезда. Ходит он по Украине поводырем слепого старца-кобзаря. Жалость берет Антона и стыд за то, что у него, у Антона, и ноги чистые, и рубашка белая с воротничком, расшитым петушками.
Услышал кобзарь, как всхлипывают вокруг него бабы, и оборвал печальную песню. Изменился в лице, встряхнул, повел тощими плечами и пошел, и пошел на другой лад наигрывать:
Ой, не шуми, луже,
Зеленый байраче,
Не плачь, не журися,
Молодой козаче!..
А там и еще веселее ущипнул кобзу за струны. И кобзу не узнать и кобзаря. Куда печаль девалась!
На городи пастернак, пастернак,
Чи я ж тебе не козак, не козак!
Смеются бабы. Блестят на щеках еще не высохшие слезы. Ох, уморил старик! Как топнет, топнет завернутой в онучу ногой – пыль разбрызгивается по сторонам. Разбегаются ребятишки по домам и тащат, как мать велела, из дому – малому бублик или пирожок, старому – медный грошик, а иногда, растрогавшись, добрую сорочку.
Много их, кобзарей, ходило в те годы по хуторам и селам Украины. А потом все разом перевелись. Жизнь переменилась к лучшему. Настоящего кобзаря разве что на свадьбе увидишь. Такой тебе старичина сидит в красном углу, усатый да сытый, – чисто генерал какой. И песни у них пошли новые.
На мельника, как и на Антона, напали воспоминания. Он сбивался, вспоминал и снова читал Антону разные кобзарские вирши.
Ох и говорили славные запорожцы
До Умани идучи:
– Нумо, братцы, будем драть
С китайки онучи.
Смолк. Но все еще оставался весь где-то далеко-далеко. Таинственно шуршала борода. В тыквенных цветах работали пчелы. Становилось жарко. По прибрежной тропинке бежал Васька Пухов. Антон ни за что бы не обратил на него внимания, но Васька так кричал, что заглушал все звуки.
– Анто-о-он! Анто-о-он!
Антон вскочил и пригрозил Пухову кулаком. Про себя подумал: «Мало тебе, горлопану, от батьки влетает».
– Анто-он! Анто-о-он! Сере-е-жки нету!
«Спятил, что ли?»
– Заткнись, Васька!
Пухов замер, стоя среди тыквенных листьев, как аист, на одной ноге.
– Садись! – приказал ему Антон.
Пухов плюхнулся рядом с Антоном.
– Сопишь, как мех в кузне. Открой рот – легче дышать будет. Тс-с-с, – командовал Антон, не сводя глазе мельника.
– Теперь уж нет тех кобзарей, – заговорил мельник. – Ох и даровиты были на всякие россказни. Что петь, что гутарить про старину… Взгляните на солнце, привяжите к нему шнурочек и опустите второй его конец на землю. Чего он коснется?
– Кургана, – в один голос ответили ребята.
– Верно, кургана. Вижу я плохо, глаза тускнеют и тускнеют. Все больше по догадке вижу… Этот курган заглавный. Древний из древних. Нечаем зовется. При Батые еще загинули хлопцы. Стояли за волю и пали за волю. Вот за это им курган насыпали. Прозвали курган Нечаем, по имени ватажка ихнего. Храбрый хлопец был. А сила какая! По три, по четыре супостата на пику накалывал.
Поменьше курган Голотой зовется. А тот, что подальше, тот просто – Журба. В одном – гайдамаки, в другом – запорожцы. У всех одна доля. Уж я и не знаю – байка все это или правда. Как старые люди гутарили, так и я вам. Ни больше, ни меньше.
Вон этот, четвертый, называют Приютом. Про этот мне дед мой еще толковал. Хлопец с дивчиной полюбились, решили сдружиться. Пан не позволил. Жених и невеста закрылись в подвале и яд приняли. Перед тем поклялись друг другу, что никто до смерти их не разлучит. Так оно и вышло. На этом свете не нашли приюта – нашли его под курганом.
Если старые люди брехали, то и я брешу. Только, кажется мне, злая балачка и на пустом месте прорастет, а добрую сеять надо да поливать, чтоб не засохла. Уж что-то было, раз люди столько веков про тех, про прежних доброе говорят. Я вам, а вы – тем, которые после вас жить будут, расскажите.
Васька дернул Антона за рукав. Хватит, мол, сказки слушать. Дела есть поважнее. Антон подвинулся к деду, спросил:
– А про меч ничего вам те, древние, не рассказывали?
– Про какой меч?
– Волшебный.
– Не слыхал.
– И про разрыв-траву – тоже?
– Ничего такого не помню.
– А где же он, меч? Где трава такая?
– Должно быть, – нахмурился мельник, – где-то есть. Искать надо. Меч, меч! – поднялся. – Я тебе кто? Господь-бог, что ли? Знал – не стал бы утаивать. – И пошел напрямик, без тропинки, путаясь большими стоптанными валенками в тыквенной ботве.
«Не признался. Быть не может, чтоб не знал он ничего про меч и про траву. Ваську тоже принесло – не мог подождать»…
– Не будь ты, дед бы мне все рассказал. Чего ты визжал? Чего за рукав дергаешь?
Васька сжал губы. Лицо его порозовело. Антон не стал слушать, когда его распирала новость. Он хотел поделиться. Это такая новость! Ее надо было сразу слушать. Очень нужны эти дедовы сказки про курганы.
Васька вскочил, посмотрел исподлобья на Антона и, чуть не плача, сиганул через канаву. Побежал, поблескивая босыми пятками, через огород в переулок.
Антону никогда не приходилось расспрашивать о чем-либо Ваську. Тот сам успевал все рассказать. Тараторит всегда, только слушай. Ничего не скрывал – даже плохое о себе рассказывал. А сегодня обиделся. Надулся – фырк! Как перепел во ржи – снялся и улетел. Кто знает, что случилось?
Антон пустился его догонять. Над глухим переулком вербы соединили, перепутали хрупкие ветви. На вербах колючими клочьями темнели сорочьи гнезда. На старых пепелищах под бузиной сидели квелые осовелые от жары куры.
Догонять Ваську в такую жару трудно, рубашка липнет к мокрой от пота спине. Ух, и шпарит… Пересек улицу – и в степь, по косой, поднимающейся в гору, дороге.
– Эге-ге-ге-ей! – кричит Антон вдогонку.
Бежит по-прежнему. Но уже заметно сдает. Еще раз оглянулся, затем еще. Перешел на шаг. Остановился и вдруг побежал навстречу Антону. Подбежал с кулаками и ну в отчаянии молотить Антона в грудь.
– Ты не друг! Ты не друг! Никому не друг, – и слезы вперемежку с потом полились по Васькиным щекам.
И снова побежал по дороге.
– Не сердись, Вась. Куда ты? – кричал на ходу Антон, – случилось что, а? Побежали вместе… Не сердись только…
– Пока ты побрехеньки Мельниковы слушал… – Ваське трудно говорить на бегу, – цыгане Сережку украли.
– Ты что? Как украли?
Бежали ребята из последних сил. Васька бросал обрывки фраз и с жадностью глядел туда, где дорога переваливалась через гору.
– Цыгане пригрозили… дом сожгут, если с ними не уедут.
– Ну и что?
– Ничего. Дядько Михайло закрыл ее…
– Кого закрыл?
– Не перебивай, – сердился Пухов, – тетку Эсму. А сам к твоему отцу… чтоб милицию вызвать.
– Ну и что же?
– А тут Сережка заявляется во двор.
– Ну и?…
– Цыгане Сережку сцапали. Кони у них уже в упряжке стояли. Только их и видели. Дядько Михайло прибежал… Говорят, ревел сердитей медведя. Эсму чуть не порешил. Вскочили на коней и догонять… Я к тебе прибежал, еле нашел. А ты…
На перевале остановились. На дороге, сколько видели глаза, было пусто. У самой дальней придорожной посадки стояло легкое облачко пыли. Но и оно вскоре рассеялось.
Глава седьмая

По селу, по дорогам с повестками о мобилизации бегали посыльные из сельсовета. Все торопились, хотя никто никого не подгонял. Каждому казалось, что где-то что-то в общей жизни случайно прорвалось, – стоит лишь силенок подсобрать, постараться, поторопиться, не пожалеть себя и все худое пронесется, как ночь, вместе с которой кончаются кошмарные сны.
Старый Деркач пустил слух, что немцы выдохлись на третий день войны. Он разносил по дворам побрехеньки. Притворно-спокойная ухмылка, просвечивающаяся сквозь рыжеватую щетину усов, говорила людям: «Что волноваться зря? Пустое».
У председательского двора Деркач позволял себе задержаться. Другие подождут немного, а начальство надо уважать. Может, жинка Григория Ивановича спросит о чем. А не спросит он и сам начнет разговор. Сейчас любому человеку лекарственные слова по сердцу придутся. Никому нет дела до того, что хорошие вести родятся не от сырости, а от добрых дел. А сейчас откуда им взяться? Немец лезет напролом, и что ни хата в селе – то с плачем. В одной – проводили, в другой – готовят своего в дорогу, в третьей – дожидаются того часу, когда принесут повестку и уже заранее готовят миску, ложку и сухари.
Председательский сидор с харчами уже стоял у порога. Сам председатель сдавал дела завхозу, а Дарья Степановна то и дело выбегала к воротам. Возвращалась скоро, в хате кричит малютка, две побольше стоят рядом у ворот – не отстают. Антона где-то носит нелегкая. Вот-вот отцу уходить, надо же быть всем дома. От старшего что-то писем нету.
Бежит Дарья Степановна в хату и снова трогает рукой приготовленный для мужа узел. Смотрит на него так, словно он в этом доме самый важный и его надо уважать, хотя бы потому, что и ему предстоит дорога, и что там будет в конце ее – неизвестно.
– Степановна! – крикнул Деркач еще издали. – Вот у почтальона письмецо для тебя выпросил.
Антон выскочил из огорода. Лежал битых два часа в тыквах и проверял слова мельника насчет того, что пустые верхние цветы приманывают пчел к нижним, сидящим на куцых толстых ножках у самой земли. Вышло, что мельник прав.
– Давайте, давайте! Отдам матери, – потянулся Антон к письму.
– Только матери! – ответил Деркач. – Дарьюшка! Возьми, Дарьюшка. Сынок из городу прислал.
Мать шла торопливо, прижав к глазам уголок фартука.
– Разбрасывает война всех, как ветер с дерева листочки, – начинает причитать мать.
– Ты что, ты что, Дарьюшка, – махнул на нее рукой Деркач, – войне этой проклятущей не за горами конец. Ты почитай газеты… как наши бьют их… нечистую силу. Пока твой Григорий Иванович до войны доедет, ей уж полный капут будет. В газетах этого еще нет, а по радио уже пошла балачка про такие дела, что сердце радуется.
– И чему там радоваться? – не соглашалась мать.
Ее глаза забегали по строчкам письма. Но даже со стороны Антону ясно, что она не видит и не различает ни слов, ни строчек.
– Да ты не силься, – остановил ее Деркач, – мелковато сынок написал. Ты дай вон Антону-сорванцу, он тебе мигом расшифрует. Или погоди, я очки на нос повешу… Уж задержусь немного, не беда.
А мать тем временем уже улыбалась просохшими глазами. Строчки перестали гнуться и буквы стали по своим местам.
– Сын пишет, что ФЗО закрывают. Скоро домой, значит.
– Вот-вот. А ты плачешь, – подстраивался Деркач. – Я же говорю, что все скоро кончится. Жизнь будет – лучше прежнего. Сегодняшнее радио сказало, что первую ихнюю линию и вторую мы уничтожили на корню. А третья линия подняла руки и кричит, мол, свои, не стреляйте. Это, надо полагать, рабочий класс ихний, пролетарьят. Первая линия – буржуйские офицеры, вторая линия – купеческая была. А третья – пролетарьят. В Германии с часу на час ожидается революция.
– Помоги им бог! – прошептала мать.
– Танки, Дарьюшка, у немцев оказались так себе. Ни то ни се. Пшик! Наша разведка пронаблюдала все до ниточки, до иголочки. Выезжает ихний танк на полянку, на опушку и стоп – остановка. Вылезает офицерик. Так, только слово, что офицерик, а на самом деле сморчок. Достает свою биноклю и в нашу сторону наводит. А сам по неосторожности возьми, да на танк и облокотись. Наши глядят и глазам не верят – танк прогнулся под локтем, как подушка. Фанерный! Ей-бо, фанерный, Дарьюшка. Хе-хе-хе, – зашелся Деркач в приступе смеха.
– Господи, господи… неужто правда это?
– Да что ты, Дарьюшка. Как можно сомневаться в нашей силе? Что наши на войну идут, так то прогулка им. Мой Мифодий описал, – идет на фронт. Я говорю, будет не дурак, еще и с барахлом вернется. С панянки немецкой лишнее платье для своей голодранки жинки привезет. Ты ж знаешь, Дарьюшка, какую расхристю мы ее к себе взяли. Одна исподняя, да и та домотканного полотна. А у них там есть чем поживиться. Я в первую мировую был у них в Пруссии, видел.
Наверно, Деркач сказал что-нибудь лишнее. Дарья изменилась в лице, отвела от него глаза, а под конец и вовсе сказала, едва сдерживаясь от слез:
– Э, дядьку Деркач, люди на войну идут, а вы про барахло балакаете.
* * *
Отец пришел домой пыльный и горячий, но чем-то довольный. Взял на руки из колыбельки дочь, сел на лавку, расставил колени, прижал к себе двух других дочек. Хотел и Антона прихватить – вырвался.
Мать поймала его, подтолкнула к отцу. Иди, мол, побудь с отцом. Антон думал, что отец начнет сейчас прощаться. И будут в доме все плакать.
К счастью, у отца в глазах было больше веселого, чем печального.
– Ходил по полям, пока не кончились силы. Обошел луга, сад, виноградник и так устал, что ноги отказались носить. За кручей такая пшеница! Если начнутся дожди, ох, поляжет. Достанется бабам без нас. Серпами да косами придется косить. А там ее пудов по двести сорок на гектаре будет. За школой жито – колоса поднятой рукой не достанешь. Не море житное, а лес. А конопля! И кукурузка такая будет! Нет, не зря старые люди говорят, что ломовой урожай – не к добру… – И замолчал. Сразу, вдруг.
Это было непонятно и так неожиданно, что Антон растерялся. Отец глядел молча на детей и больше не мог слова вымолвить. К горлу подступило что-то, закашлялся. Глаза блеснули… Жалостливый он, когда с детьми возится. Редко это с ним бывает, а этот случай особый – последний раз детей на коленях держит. Антон рванулся и выбежал во двор. Сил не хватило на отца глядеть. Антон понимал, что отцу трудно сейчас. Он ведь и про урожай заговорил только для того, чтоб отвлечь себя от тяжелых дум.
Еще издали Антон увидел, что на кладбище собралось много ребят. Что их сюда привело? Может, и они сбежали из дому, чтоб не видеть домашних слез?
У Васьки припухли веки. Плакал. И его отец сегодня уходит на фронт. Ух, и достанется от него немцам!
Колька Таран стоит расставив ноги. Широченные, как юбка, перекошенные на животе штаны. Одна штанина длиннее другой на целую ладонь. Волосы, как непричесанная копна свежего сена. Еще не слежалась. Но это только с виду он такой неприбранный, а в голове у него полный порядок. Учится он мирово. Старый Таран гордится сыном не зря.
Конопатая Зинка тоже здесь. Сидит на забытой людьми могилке, обхватила голые поцарапанные коленки цепкими руками. У Зинки отца нет. Никто из ребят его не видел. Наверное, и сама Зинка не знает его. Когда мужики выйдут из села на шлях, Зинка будет вместе с бабами голосить.
Самодовольная физиономия Афоньки выделяется среди всех. И чего это он на всех свысока поглядывает? Брат у него уже на фронте. Вокруг Афоньки орава ребят.
Антону не хочется подходить к ним. У него, как у Васьки, глаза влажные.
– Вот, честное благородное, не брешу, – уверял Афонька. – Целая армада наших аэродромов из Сибири на фронт лететь будет. – Это он у своего отца научился врать.
Колька Таран робко поправил Афоньку:
– Аэродромы не летают. Это такое ровное место, где аэропланы садятся.
– Чего еще, – махнул рукой Афонька. – А может, они во время войны скопом будут перелетать. Факт. А хоть и не факт, окна все равно надо заклеивать крест на крест бумажными полосками.
Это уже показалось Антону интересным. Он вынырнул из-за сизого куста барбариса.
– Чего говоришь, Афонька?
– Из района такая телефонограмма пришла, чтоб окна заклеивать – могут от гула разлететься… от моторов. И насчет светомаскировки. Понял? Могу хоть что проглотить – правда это.
– А может, стекла от немецких бомб могут повылетать?
– Чего-чего? Ты почитай письмо, что брат твой из города прислал. Немецкие бомбы падают и все мимо. Падают, пополам разваливаются, а там в нутре песок и записка от немецких рабочих: «Чем можем, тем поможем». От таких бомб не то что стекла не вылетают, даже лягушки квакать не перестают. – Афонька расхохотался. Ему очень понравилось, как он рассказал про немецкие бомбы и про лягушек… Ребятам тоже все это пришлось по душе. Видно было, что насчет бомб они держат Афонькину сторону.
Антон не читал писем, которые приходили от брата из ФЗО. Сегодняшнее Деркач не дал ему в руки.
По улице мимо кладбища двигалась молчаливая процессия. Семьи шли отдельными группами. Уходившие на фронт несли по одному, по двое детей. Впереди всех в пароконной тяге постукивала бричка, груженная баулами и старыми фанерными сундучками.
Отец Васьки Пухова улыбнулся подбежавшему сыну. Положил ему на плечо руку.
– Не тебя оставляю мать и бабку, – громко говорил Пухов. – Завтра пойдешь к завхозу и скажешь, что отец велел табун тебе доверить. Будешь в ночное в Макарову балку гонять.
– Ладно, – согласился сын.
– Если не доверит, обругай его. Стой всегда на своем. От работы не отступайся. Ты теперь все одно, что я. Меня, к примеру, нет, а вроде бы я и дома. Понял? Мать будет писать мне. Плохое про тебя вписывать я запретил. А ты гляди, чтоб все так и было. А теперь – марш домой! До самого фронта все одно нельзя. – Стал прощаться с женой. Прижал к груди Васькину голову – не наклонился к нему, оттолкнул обоих и зашагал еще быстрее.
Бабы, прощаясь, начинали голосить каждая на свой лад. Слышался нестройный хор, в котором выделялся тоненький Зинкин голосок. Она бегала от одного новобранца к другому, успела проститься с каждым и оплакать всех.
Председатель обнял детей, жену, всех поцеловал.
– Не плачьте. Это ненадолго. Тебе, Антон, один совет – держись ближе к дому, не забывай, что для матери твоя помощь – главная теперь.
– Ладно, – ответил Антон и испугался собственного голоса, так дрогнул он. Именно таких слов он и ожидал от отца.
Все дальше уходили левадинцы. Все меньше становилось провожатых.
Покачивали ветками молодые клены, стоявшие у дороги. Высокое жито с обочины тянулось к плечам покидавших село мужиков. Сзади все еще слышались голоса плачущих, а впереди кто-то затянул старую казацкую песню:
Ой, видно село,
Широке село
Под горою.
Мальчишки стояли гурьбой на дороге и слушали песню и плач. Наверно, никогда еще так долго не стояли они молча, как в этот раз.
В село возвращались не спеша. Вытянулись поперек дороги шеренгой, не сговариваясь, положили руки друг другу на плечи. Трудно сказать, кто из них о чем думал, но было ясно, что думы их были сродни. Шли они ровно, каждый смотрел себе под ноги, и все молчали.
Антон вспомнил про немецкие бомбы с записками, решил: приду домой, прочитаю письмо, присланное братом. Отец будет орудием командовать. Он младший комсостав артиллерии. Пухов кавалеристом будет. Уж рубанет – будь здоров! Верхом через ограду перепрыгивал, на скаку на лошадь садился. Хрипченко в рукопашную пойдет. Как он цыганского медведя на лопатки уложил! Даст он этой немчуре. Левадинские мужики покажут им. Если ихние рабочие с нами дружат, так нам и вовсе между собой, ребятами, делить нечего. Теперь уж никаких свар.
У села дорога делает развилку. Направо она вливается в слободскую улицу, налево – в поселковую. Остановились. С чего начался разговор, никто не помнил, только все запомнили, чем он кончился.
Афонька сказал, что война – это все равно, как ему гривенник проглотить. Если наши будут не дураки, так еще с Германии на «лисапетах», а то и на «мотоциклетах» прикатят. Антон назвал Афоньку дурнем, а тот удивился, обвел ребят взглядом и спросил:
– Почему это я дурень? Ведь я за наших.
– Хоть и за наших, а все равно… – стоял на своем Антон.
– Ну, гляди у меня, – пригрозил Афонька. – Ты теперь не председателя сын, а ничейный. И власть ваша кончилась! Понял? Остальное скажу, когда один на один встретимся.
Афонька выразительно плюнул, поискал глазами образовавшийся на пыльной дороге сыроватый шарик, наступил на него черной пяткой и, старательно раздавив, ушел.
Только теперь Антон понял, он и впрямь больше не председательский сын, а просто сын, да и все. Раньше он тоже этим никогда не кичился, но Афонька, наверно, всегда отличал его от остальных. «Подумаешь, – решил про себя Антон. – Чем хуже быть таким, как все? Как Таран, Васька Пухов, Сережка-цыган? Хотя Таран теперь и не такой, как все. Его отец стал председателем. Ну и пусть. Жалко, что ли? Зато мой отец на фронте будет командиром. Это еще главнее».