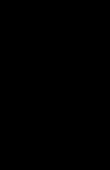Текст книги "Тайна Змеиной пещеры (Повесть)"
Автор книги: Анатолий Евтушенко
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Глава пятая

Не зря колхозный шофер Митька любил повторять всюду: «Я грю, что самый сильный магнит на всем белом свете – в моем газике. Кто мимо идет – остановится. Непременно всякого тянет рукой машину потрогать. А ребячью мелкоту притягивает, грю, как железные опилки – кучами».
Одна-единственная полуторка на весь колхоз и впрямь тянула к себе и малого и старого. Люди уже привычно глядели на колесный «ХТЗ» и гусеничный «ЧТЗ», на комбайн, так удивлявшие их несколько лет назад. Даже автомобиль, если он едет через село и, не останавливаясь, скрывается за окраинным поворотом, тоже не ахти какая невидаль. Но когда в колхозе появился свой газик, свое бегающее чудо, которое каждый вечер ставят в гараж, как лошадь в конюшню, а по утрам так же деловито выводят – в это поначалу поверить было трудно. Каждому хотелось потрогать машину, похлопать по кузову. И, если Митька отвернулся, нажать на сигнал – магическую пуговицу в центре руля, весело кричавшую свое бип-бип.
«От этих сигналов я, грю, скоро заикой стану», – сердился Митька. Но помочь ему ничто не могло. Отбоя и от взрослых и от детворы не было. И виновата была не только машина, у которой был «самый сильный магнит». Таким же магнитом был и сам Митька.
Ребята раскусили его сразу: кричит, сердится, а на лице – улыбка. На голове у Митьки стриженый ежик. Глаза с усмешечкой. Худощавый. И самое удивительное для ребят – Митька говорил не по-украински, а по-русски. Дразнил мальчишек хохлятами, и никто на него не был в обиде. Одевал он голубую футболку с белым воротничком и шнуровкой на груди. Схватит, бывало, мальчонку за руку, обзовет «вездесущим» или «любопытной Варварой, которой нос оторвали», подведет к мотору, прикоснется к проводку и мальчишку легким током так и пронижет до пяток. Смеются.
Что Яшка получил от отца телеграмму, знало все село, а что его повезут на станцию на машине, кроме Митьки, знали немногие. Антон удивился: для одного Яшки отец дал машину. По воскресеньям для поездки на базар и то с трудом давал.
– Киргизия – это тебе не базар, – растолковывал ему Яшка.
В гараж они пришли, как только взошло солнце. Митька дал им по мокрой тряпке и разрешил протереть машину. Попросил накачать запаску. Приладил насос и сказал:
– Качать до тех пор, пока весь дух из вас в камеру не перейдет.
Качали, качали – весь дух вышел, а камера мягкая. Тогда Митька с улыбкой и говорит:
– Давайте я добавлю. – Добавил, и враз колесо готово. Довольный такой стоит. Ребята на него смотрят и тоже радуются неведомо чему. А он им вдруг и говорит:
– Сейчас махнем на станцию. Нам опаздывать нельзя. Жена ко мне из Донбасса приезжает. Поняли? Надо встретить. Григорий Иванович отпустил до обеда. Отвезем Яшку, а оттуда привезем жену и коробки с киноаппаратурой прихватим. Все ясно?
Как не понять человека, если к нему жена приезжает, и он этому радуется. Он и сам, Митька, в село из Донбасса приехал. Председатель затянул его в такую глухомань. И Митька не тоскует по городской жизни. Ему лишь бы колеса под ним крутились, да баранка была в руках. Да что там ни говорите, а в расчет надо брать и то, что в Донбассе шоферов много, а здесь. Митька один, как король.
Газик у него всегда в аккурате. Чистый, нарядный, как и сам Митька. Кто не знает, поглядит и ни за что не скажет, что он шофер. Он и на карточке, которая стоит у Антона на столе, снялся такой. На этой карточке снят колхозный газик. Полон кузов мужиков, в уголке Антонова сестренка в маечке пристроилась, а внизу у кабины Митька и председатель стоят рядом, как самые главные и ответственные за все люди. Антон не знал, когда они фотографировались, не то он непременно бы стал рядом с Митькой и отцом. Но эта карточка вышла без него. Уж как Антон ни старался, чтоб все интересное обязательно только при нем свершалось, нет, не поспевал!
Митька помыл руки, заглянул в зеркальце, торчащее из кабины, подмигнул себе – был, видно, всем доволен.
Яшка попросил мать, чтоб не провожала. Зачем идти ей, на людях слезы расходовать?
Пока ехали по селу, всех собак поставили на ноги. Ребята знали всю слободскую псарню поименно. А Митька поглядел на ребят и сказал, когда они уже за село выехали:
– Я грю, чем село в первую очередь от города отличается? Тем, что городские собаки за машинами не бегают и не лают на них – привыкли.
Яшка сидел задумавшись. Его полные губы были плотно сжаты. На подбородке обозначилась ямочка. Его, по мнению Антона, ничем не удивишь. Он не только на автомобиле, но и на поезде, и на пароходе, и на чем только ни ездил. Он сам в Киргизию ездит.
Антон – другое дело. Он дальше районного центра Петропавловки не был, да и то повезло только потому, что заболел скарлатиной, и мать со слезами оставила его там в больнице ровно на три недели. Петропавловка – тоже село, но школа там двухэтажная. Кроме того, по утрам, в открытое больничное окно там слышны далекие паровозные гудки, которые долетают с попутным ветром со станции.
Проехали кладбище, поросшее барбарисом, проехали школу. Слева показался подгорелый ветряк. Глядеть на него – одна печаль. Антон отвернулся.
С обеих сторон к грейдеру подступают и тянутся к машине клены. Вот большой мост через Самару.
Яшка улыбнулся. Вспомнилось ему, как ходил он здесь по перилам. С одной стороны у него мост, а с другой – далеко внизу – окованные угловым железом ледорезы. Кроме Яшки по этим перилам никто не решался бегать. Антон пробовал. Кружится голова и тянет в пропасть.
За рекой начинается другое село, другой мир. Одно название чего стоит – Александрополь. Такого названия больше нет нигде. Если Митька повернет направо, они поедут по той самой улице, на которой пять лет назад жил с отцом и матерью Антон.
Из-за кустов бузины смотрит на Антона знакомая хата. В эти окна он целыми днями, сидя под замком, глядел на улицу. Старший брат ходил в школу, мать и отец работали. Особенно было страшно зимой. В трубе гнусавил ветер, а во двор забегала огромная собака – вылитый волк.
Вот здесь, на перекрестке, как-то зимой пятилетнего Антона свалил ветер, когда он один шел к отцу в кузню. Снег быстро укутал его, Антон начал согреваться, становилось тепло и совсем не страшно. Потом кто-то подобрал его и отнес к отцу. Антон сидел на бревнышке у горна и следил глазами за искорками, улетавшими к черному потолку.
Весело катилась машина, мелькали мимо веселые люди, белые хаты, и все это навевало забавные детские воспоминания.
Село Александрополь красивое. Его здесь многие дачей почему-то называют. На улицах тополя, клены да акация. Хаты в палисадниках и все сады, сады. Вокруг села посадки, по-над Самарой в лугах зеленые гаи. А в тех гаях – соловьи, такие горластые, что спать не дают, хоть жалуйся на них.
Дорога за селом пролегала через гряду курганов. Машина то взмывала вверх, то неожиданно опускалась. Митька улыбался, посматривал в круглое зеркальце и тормошил свободной рукой вихор. Пытался склонить его то в одну, то в другую сторону. Ничего не добившись, оставил вихор в покое и был, как видно, всему несказанно рад.
Антон и Яшка молчаливо разделяли Митькину радость. Плохо ли, в хорошую погоду катить в кабине автомобиля по гладкой пустынной дороге.
Машина нырнула в тенистую улицу придорожного села, вынырнула на другом конце. А дальше, как прежде, – дорога и дорога.
Все чаще Митька поглядывал на ребят, то подморгнет им, то спросит: «Ну как?».
– А ты что молчишь, Яша? Жаль с Украиной расставаться? Не уезжай – всего и дела.
– Надо, дядь Мить. Отец соскучился. Там в Киргизии тоже хорошо. А отсюда уезжать – мало радости. Мне особо нравится: идешь по лугу, по саду, днем ли ночью, устал – ложись и отдыхай, а хочешь – спи до утра, никакая тварь тебя не укусит. А там, в Киргизии, нет: или змея, или скорпион, вроде тарантула, что-нибудь да вывернется.
– Это верно, – согласился Митька.
За ивановским мостом началась изгородь лубяного завода, за которой в длинных скирдах лежала почерневшая от вымочки конопля. Справа, у реки, дымила труба водокачки, дальше, по другую сторону дороги разметнулся ипподром. А там уж и Петропавловка – районная столица, большое богатое село. До станции отсюда семь километров. Ее еще не видно, а уж гудки заполнили собой все вокруг. Слушаешь эту перекличку, и новое настроение просится в душу. Мерещатся дальние дороги и дальние города. Незнакомые люди смотрят на тебя и думают: куда, откуда, зачем? А ты себе едешь и радуешься той неведомой силе, которая несет тебя на руках, как младенца.
Еще не увидев паровоза, Антон представил себе машиниста в форменной фуражке, точь-в-точь как у Кривоноса, портрет которого часто печатали в газете.
На станции было жарко. Хотелось пить. Митька с Яшкой побежали купить билет. Антону выпало быть сторожем. Черные паровозы шипели, чихали и отдувались. Казалось, они были чем-то недовольны, сильно простужены и страдали одышкой. А черны-то, черны… На картинках их раскрашивали в синие и зеленые цвета. Белолицые машинисты на картинках улыбались, а тот, который выглядывал из паровозной будки, был чернее паровоза. Прищуренные глаза, открытый без улыбки рот и белая кипень зубов. Темная прядка волос прилипла к потному лбу. Антон не удивился бы, если бы изо рта машиниста тоже ударила струя синеватого пара.
Паровоз поили водой. Прятался и снова выглядывал в окошко машинист.
Прибежавший Митька был разгоряченный, весело ворчал.
– Такая, брат, толчея! Куда, грю, люди только не едут. Ну, ты тут карауль, а я живо… Скоро поезд придет.
И снова убежал на перрон.
Солнце забиралось все выше, становилось душно. Хотелось пить. Один единственный глоток, и стало бы хорошо. Кабина так раскалилась, а сидеть в ней неизвестно как долго. Есть же, думалось Антону, на свете реки, есть колодцы и родники у подножия гор. Припасть бы и пить, пока не закружится от усталости голова и в зубы не зайдет холодная резь.
Прибежал Яшка, ткнул Антону под нос билет и очень удивился тому, что друг его ни на что не реагирует.
– Ты чего осовел? Жарко?
– Ы-гы, – согласился Антон.
– Гляди, чего тебе принес. – Яшка держал в руке маленький бумажный стаканчик с мороженым. Лизнул и протянул Антону: – Ешь!
Антон отрицательно покачал головой.
– А ты как же? Не хочешь?
– Хочу, конечно. Тебе купил, на память! – И залился громким и счастливым смехом.
Антону тоже стало весело. Он взял мороженое. Ели из одного стаканчика, шутили, позабыв о том, что их ждет разлука.
Подходил пассажирский поезд. На станции все засуетилось, пришло в движение. Яшка схватил фанерный сундучок, крикнул в самое ухо Антону:
– Пока! До побачення! – И побежал.
Митька нес чемодан и махал свободной рукой Антону. Идем, мол, – приехала! Рядом с ним, опираясь слегка на Митькино плечо, шла жена. На голове у нее – косынка, на лбу – подстриженная челка, в руках – сумочка. Двигалась осторожно, как будто земля под ней расплавлена и она боялась обжечь ступни.
– Ты как тут? Яшка грит, что ты от жары свихнулся.
Митькину жену звали Наташей, а сам Митька называл ее Натулей.
Антон сразу понял, что она городская. Слезы Натуля вытирала не рукавом, а доставала платочек, смахивала в него слезинки и, завернув их, прятала в сумочку. Когда тронулись в путь, Натуля то и дело просила мужа:
– Осторожно, Митенька, потише. Не то не довезешь меня.
Сначала она, хоть и кисло, но улыбалась, а когда подъезжали к Петропавловке, начала скрипеть зубами. На Митьку глядела безумными глазами, по щекам у нее катились слезы, которые она больше не вытирала и не прятала в сумочку.
На лице у Митьки тоже было отчаяние. Одной рукой он вертел баранку, а другой держал Натулю за талию. Во дворе с тенистыми аллеями Митька остановил машину, выпрыгнул из кабины, схватил жену на руки, покружился с ней, выбирая дверь, в которую же войти? Шагнул через самый ближний порог.
Потом Митька бегал вокруг дома, цеплялся за подоконники, подтягивался на руках, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь внутри дома. Прибежал к машине, сел в кабину, с силой захлопнув за собой дверцу. С ним творилось что-то непонятное. Лицо его то покрывалось пятнами, то снова становилось бледным. Наконец, он не выдержал и заговорил:
– Вот, понимаешь, Антоша, отец твой сказал – захвати, Митька, из района кино про Чапая… Да? А тут совсем новая картина получается. Жену, ишь, угораздило. Хорошо, а? Хорошо!
И снова Митька бегал под окнами. Что с ним творилось? Чему он так тревожно радовался, Антон понять не мог. Отнес жену на руках в больницу, а сам бегает вприпрыжку туда-сюда, как будто оседлало его само нетерпение.
В следующий раз Митька прибежал с жалобой:
– Забрали жену, грю, никуда не пускают и не отдают. А, ну их в болото! Поедем, Антоша, за «Чапаевым»!
Проезжали площадь, на которой стояла огромная церковь, переделанная в клуб. Из высоких окон гремела песня про трех танкистов, трех веселых друзей.
– Во, дают! – мотнул головой Митька и сам вдруг запел:
Экипаж машины боево-ой!
Машину Митька остановил возле чайной. Толкнул Антона в плечо и показал рукой. Гляди, мол, туда. На нижней ступеньке крыльца сидел человек. Он грозил кому-то указательным пальцем и сам с собой разговаривал. Антон узнал его. Это был Петя Ваштрапов. Золотой печник и всех каменных дел мастер, который неведомо откуда прибился когда-то к ним в село, показал председателю, что умеют делать его руки, да так и остался. Женился. Взял за себя женщину, которую звали Васькой, начал чаще брить вспаханное оспой лицо и носить чистые рубашки.
Если случалось так, что кирпичный завод останавливался из-за ремонта печей, Ваштрапов начинал пить. И если он добрался до Петропавловки, значит завод забарахлил не на шутку.
Антону вспомнилось, как Ваштрапов, сложив в их доме печные своды, забрался на них с ногами и отплясывал какой-то танец. И своды стояли, как прежде.
– Прихватим его, – предложил Митька.
Петя Ваштрапов осведомился:
– Кто вы такие? Откуда?
Митька улыбнулся и покачал головой:
– Во, дает! Своих узнавать не стал. – Присел к Ваштрапову и повел с ним беседу: – Мы, Петя, из того края, где все живут припеваючи.
– Добрая ваша сторона, – согласился Ваштрапов.
– Ездим по белу свету, ищем человека с золотыми руками, кирпичных дел мастера.
– Это я, – признался Ваштрапов и удивленно спросил: – Разве в вашей стороне меня не знают?
– Знают, – твердо ответил Митька.
– А кирпичные заводы в той стороне хорошо работают? Хорошо, говоришь, тогда поедем. Я тут у одного председателя работал. Паршивое дело.
Ваштрапов с помощью Митьки стал подниматься, пробовал вглядываться в Митькино лицо, но ничего не увидев, махал рукой.
– Завод у них – барахло. Я из-за них во всей округе все перепил. Вот теперь сюда приехал. Васька моя узнает, что я уехал далеко – будет плакать. Я ей напишу письмо оттуда, из вашей стороны.
В кузове лежало сено. Ваштрапов сразу оценил это. В таких условиях он согласился бы ехать куда угодно, тем более что добрые люди обещали ему работу без перебоев.
В кинопрокате к Ваштрапову подселился еще один пассажир с несколькими ящиками, в которых покоилась вся аппаратура звуковой киноустановки и ленты фильма «Чапаев».
Загорелый и обветренный молодой киномеханик в сильно выгоревшей тельняшке сказал Антону, что еще ни разу не был у них в селе, а теперь вот напросился поехать туда с «Чапаевым». Захотелось ему побывать на этих дальних островах и посмотреть, какие племена их населяют.
Киномеханик говорил с Антоном на отборном пиратском языке. Из его уст сыпались фразы из всех известных и неизвестных Антону фильмов. Ему были к лицу и тельняшка и синяк под левым глазом, добытый по его словам во время абордажа колхозного сада.
Ждали Митьку. Пока грузились, он, не утерпев, побежал в больницу. Туда он бежал, чтоб не опоздать, а оттуда, чтоб поделиться поскорее новостью.
С ходу закричал:
– Тебя, Антон, как зовут?
– Антоном! – ответил тот.
– Да что я грю… и в самом деле тебя зовут Антоном. А этого, что в кузове? Киномеханика?
– Он уже спит.
– А если бы у тебя был еще один брат, ты как бы его назвал?
Антон, с трудом соображая, к чему клонит разговор запыхавшийся Митька, пытался вспомнить хоть какое-нибудь имя и не мог. И вдруг он крикнул:
– Надо назвать его Василь Иванычем!
– Это почему же так?
– Как Чапаева.
– Василий, Василек – это хорошо, даже замечательно. Погоди, погоди, а при чем тут Иваныч? Тогда уж Митрич! А? Василий Митрич! Идет?
– Конечно, – согласился Антон…
– Тогда я к телефону… позвоню. – Митька бросился в контору.
Домой машина бежала еще резвее. Митька, как показалось Антону, подпрыгивал даже тогда, когда не было кочек, когда дорога лоснилась хорошим накатом. За Ивановкой Митька подмигнул Антону и показал подбородком на баранку. Антон его не понял.
– Садись за руль, – пояснил он. Митька был неповторимо щедр. Антон это понял и не заставил упрашивать себя.
Держать руль машины в руках и чувствовать, как выходит она из повиновения, тянет к обочине, а затем послушно возвращается на середину дороги, очень упоительно и ни с чем не сравнимо. Конечно, было бы еще интереснее, если бы рядом сидели Яшка, Сережка, Васька. Если им рассказать, они могут и не поверить.
Сегодня на Митьку нашло что-то непонятное. У него теперь жена в больнице с Васильком. Может быть это и действовало на него? Ехал встречать жену, а встретил сразу и жену и сына. И до чего же это в жизни все интересно устроено!
Антон и Митька привезли в Леваду известие о рождении Василька, доставили Петю Ваштрапова его жене, а всем ребятам преподнесли радость – кино про Чапаева. В свою очередь и их ждали разные неожиданности. Митьке предстояла поездка за вторым автомобилем, а Антон получил донесение, что поселок объявил войну слободе. Митьку новость обрадовала, а Антон вынужден был задуматься.
«Яшка Курмык уехал. Кто будет командовать слободскими мальчишками? Эх, если бы Чапаев из кино выскочил на коне и давай: „За мной, слобожане! Вперед!“ А Петька с Анкой на тачанке – ду-ду-ду, в обход, да с тыла!»
* * *
Кино показывали в общеколхозном дворе. На конторской стене висел экран. Зрители принесли с собой табуретки, стулья, семейные несли с собой скамейки.
Первые ряды были самыми удобными. Их занимали дети. Сидели на корточках и просто лежали вповал.
Кино в селе – событие. Разговору о нем хватит на целую неделю. Кто о фильме вспоминает, кто о другом каком-либо деле, которое свершилось до или после того, как показывали последний раз фильм.
«Чапаева» показывали в пятый раз и в пятый раз зрители не заставили себя ждать. Не было здесь только деда Кравца, он еще не совсем поправился, да Митькиных Натули с Васильком.
Передние ряды разделились на два лагеря. Слева – поселок, справа – слобода. Посредине сидели представители нейтральных Бургар – два сына огородника, носивших кличку Караси. Слева, в окружении разномастных голов выделялась Афонькина рыжая грива. Справа можно было сразу отличить Сережкины черные кудри и рядом с ними белесые на крупной круглой голове космы Васьки Пухова.
Сумерки долго не приходили. Зрители уже успели обсудить все новости, семечки тоже начали их утомлять. В передних рядах кто-то свистнул, кто-то завизжал, кто-то поднял руку – на пустом экране появилась тень бодливой козы.
Перекрывая все шумы, вдруг раздалась команда:
– Тише!
Антон оглянулся и увидел знакомого парня в полосатой тельняшке. Он стоял рядом с аппаратом в кузове Митькиного автомобиля и, протянув руку вперед, обращался к публике:
– Эй, там, на палубе! Имейте уважение к Василь Иванычу Чапаеву. Во время демонстрации фильма с экрана должны быть убраны все тени и предметы, а также посторонние головы! Нарушители порядка будут выброшены за борт! Мне с капитанского мостика видно все!
– Давай, крути! Побачим, какой ты мастер! – неслись выкрики из необъятного зрительного зала. И все это снова покрылось пронзительным свистом.
Начался фильм, а с ним бесконечные реплики, среди которых были вопросы и ответы, удивление и поддержка советом, восхищение и восторг, слышались и презрительные реплики, когда показывали врагов. Азарт атаки и отчаяние попавших в безвыходное положение бойцов передавались зрителям, которые проявляли такую непосредственность, что иногда забывалось – кино это или все события происходят здесь в эту минуту. И тогда снова проносился окрик киномеханика: «Тише!» Но шторм зрительских голосов утихал ненадолго, чтобы через минуту-две подняться снова.
Так все шло до той минуты, когда белый разъезд наткнулся на уснувших в дозоре чапаевцев.
Белый с кинжалом подполз, подкрался и р-раз – нашему в спину! Подавленный стон, как единый выдох, вырвался из уст ребят. И только Афонька… Даже от него никто этого не ожидал. Афонька вскочил, взмахнул рукой и, падая, вскрикнул:
– Так его!
Кадр замер. Включили свет. Киномеханик выпрыгнул из кузова, пробрался к Афоньке, взял его за грудки:
– А, рыжая борода. Ты что же, против наших? Против Чапаева? Граждане, позвольте поставить этого идиота к стенке! Я расстреляю его за измену Родине!
– Бей Рыжего! – И пошло и поехало. Смешались слободские с поселковыми. Мутузили друг дружку смаху. Кто кому под руку попадался. Только Рыжего, как после разобрались, в этой свалке уже не было. Он скрылся.
Публика гремела. Затихло все лишь тогда, когда по улицам далекой станицы проскакала вражеская конница. Чапаев с Петькой перебрались с пулеметом на чердак.
Афонька не захотел еще раз встречаться с киномехаником, так и не появился до окончания фильма.
Ребята расходились по домам до такой степени взволнованными, что многим из них не уснуть теперь.
Васька и Сережка, задержав Антона, объяснили ему, что вся слобода знает про завтрашний бой.
К ребятам в развалочку подошел киномеханик.
– Ну, где этот, Рыжий?
– Нет его.
– А, это ты? – узнал Антона киномеханик. – Тебя как зовут?
– Антон. А эти вот Сережка и Васька.
– А меня зовут Костей. Какую кинуху привезти вам в другой раз?
– «Последний табор», – опередил ребят Сережка.
– Законно, – согласился Костя. – Чего спать не идете?
– Завтра война, – признался Васька и почесал макушку.
– С кем? – вскинул брови Костя.
– С Рыжим и его ордой.
– Завтра, говорите? – забеспокоился Костя. – Вы мне помогите весь этот такелаж перенести в контору, а я вам помогу завтра. Рыжему сколько годков? Шестнадцать? А он все еще с вами воюет? Он что, с приветом?
– Немножко есть, – ответил Антон. – Батя его еще до революции в плену у австрийцев был. Говорят, до приказчиков дослужился в магазине. До сих пор вспоминает, как ему было там хорошо. Вот и Афонька от него заразился. На наших руку поднимает.
– Я таких гадов, – сказал киномеханик, – еще отродясь не встречал. Это же контрик, как есть.
Костя, скрестив руки на груди, задумался. Пожевал нижнюю губу, помял пальцами подбородок. Склонив голову набок, вдруг предложил:
– Сейчас я уеду в Петропавловку – ваш шофер едет туда к жене в больницу, а утром – назад. Завтра я должен буду высадиться в Александрополе и прокрутить «Чапаева» там. Так вот я могу привезти с собой своих «пиратов», и мы этого Рыжего, законно, повесим за ноги. А? На минутку, конечно. Или завернем в саван и – за борт. Мешочек у вас найдется? Оденем на голову и пару раз окунем в Самару. Он сразу станет воспитанным.
Антон, слушая Костю, даже рот приоткрыл. «Эха, здорово как!» Ваське автомобильная фара светила прямо в глаза, он щурился так, что и зрачков не было видно. Сережка недоверчиво улыбался.
Завтрашний день поворачивался к ребятам более ясной стороной. Если Костя нагрянет со своими «пиратами», Афоньке несдобровать.
* * *
Председатель катил вдоль улицы на велосипеде. Сначала поторапливался, хотелось до солнца попасть в луга, но мало-помалу сбавил скорость.
Где-то звякнула в пустом подойнике первая струйка молока. Затем отозвалось и снова повторилось. Зазвенело всюду. Постепенно становились глуше удары струй. Со всех сторон неслось: шррр-шррр, шррр-шррр.
Председателю отчетливо представились пенные папахи парного молока. Ноги еле-еле налегали на педали. Сколько ходит и ездит по просыпающемуся селу, а все не наслушается утренних рассветных звуков. То петухи заведут лихую перекличку, дерут глотку, чтоб позаливистей, да погромче; то собаки поднимут вой, уставясь на ущербную луну. В пору цветения садов над всеми берут верх соловьи. Такую заведут спевку, что кажется не будет им никакого угомону. А когда приходит время и они смиреют в гнездах, тогда на лиманах входят в голос певчие лягушки. А если все живое молчит, то слышно, как плачет в ранней тиши одинокий колодезный журавель или потарахтывают со скрипом колеса неухоженной арбы.
Воскресный день председатель, как правило, оставлял для души. Можно преспокойно проехать по проселочным дорогам между созревающих хлебов. Войти в жито, потрогать шершавые колосья, ощутить неясное томление в груди, неизменно приходящее к земледельцу в пору налива хлебов. Только бы успеть выехать за околицу, только бы никто не повстречался на улице. Иначе обступят будние дела и хлопоты, и тогда воскресенье не отличишь от понедельника.
Постепенно смолкают подойники, еще минута-две – и хозяйки начнут выгонять со двора коров. По улице за околицу потянется стадо.
У третьей хаты за кладбищем показалась живая душа. Старый Деркач вышел со двора открыть оконные ставни. Двигается сонно, как в замедленном кино.
Председатель приподнял полотняный картуз в знак приветствия, хотел было проехать мимо, но вспомнил вчерашнее происшествие, остановился.
– Дядьку Деркач!
– Ась, Григорий Иванович.
– Извиняйте, что я вам спозаранку слова недобрые скажу, да только…
– Чем же я прогневил вас, Григорию Ивановичу?
– Да не вы, дядьку. Сынок ваш, Афонька, дома?
– Дома, идол.
– Вчера он на сторону белых встал, помогал им против Василь Иваныча Чапая… Сами, дядьку, знаете, что…
Деркач, разводя руки, резко опускал их, хлопая себя по бокам.
– Ах нечистый, ах окаянный. То-то поделом ему синяков понаставили хлопцы. Я ж ему досыплю, я ж ему!..
Деркач бросился в хату, и вскоре до слуха председателя донеслись вопли. Когда Григорий Иванович появился в дверях светелки, он увидел лежавшего на полатях с завязанным глазом Рыжего. Отец подпрыгивал возле него со скалкой в руках, то и дело приговаривая:
– Ори, идол! Громче, громче, ори! Вот тебе! Вот тебе! Ори, чтоб все село слышало! Я те покажу, как против Чапая выступать! Вот тебе!
И Рыжий орал изо всей мочи, натягивая на себя рядно.
Председатель, не удержавшись, расхохотался. Застигнутый врасплох, Деркач решил, как видно, поправить дело, опустил скалку так, что Рыжий взвился от боли.
– Убивают! – завопил он что было сил и тотчас замолчал. Смутил председательский смех.
– Да-а, – наконец-то выговорил Григорий Иванович, – вот это кино!
– Скажи, идол, спасибо председателю, спасителю твоему. Не будь он на пороге, убил бы окаянного. – При этих словах Деркач топал ногами и свирепо размахивал скалкой. Афонька сопел в углу.
– Я все же хотел пока словесно предупредить вас, дядько Деркач, – не сходя с порога, сказал председатель. – Замашки Афонькины имеют вредный душок. Разворотил копны, поднял руку на красных… От кого, спрашивается, воспитание это происходит? Если что такое повторится, притянем к ответу. Гляди у меня, Афоня. Не сносить тебе головы. Прощевайте.
В светелке установилась тишина, которую нарушил Афонька.
– Пошутил я…
– Там разберутся, – оглянувшись, пояснил Григорий Иванович. С тем и ушел, с трудом различая выкрики Афоньки:
– А они меня землю заставили есть! Это по-советски, да? Ездить верхом на людях, это тоже по-советски? А синяк под глазом? Я еще покажу им! Сегодня поселок войной на слободских пойдет!
Афонька выкрикивал еще какие-то угрозы, но председатель уже укатил обратно к колхозной конторе. Его воскресное настроение сменилось будним. Померкло желание поехать в степь.
На полдороге он пропустил мимо себя стайку ребят, среди которых узнал Антона. И дальше повел велосипед в руках.
У самой конторы к нему подбежала конторская рассыльная.
– Дядя Гриша, позвоните в район. Там про какую-то войну говорят.
– Про какую войну?
– Не поняла. Телефон не говорит. Заело его. Позвоните сами.
* * *
Левадинское кладбище разделяет село на две части. Прикладбищенский пустырь, окаймленный непролазными зарослями барбариса, был неизменным местом поединков поселковых и слободских ребят. Плоский холм с пологими скатами, в которых были вырыты пещеры, мелкая щетина рано выгоревших на суглинке трав и ни одного деревца. До кладбища провожали коров, уходивших на пастбище, у кладбища ждали возвращения стада. Через кладбище ходили в школу и уезжали в дальнюю дорогу, ходили купаться. Здесь пугали по ночам прохожих и решали в открытом бою мальчишеские споры. Об истинном назначении этого места левадинцы вспоминали не чаще одного раза в году.
Утро того воскресного дня ничем не отличалось от других. Так же мирно взошло солнце. Приветствовали его восход взмахами саженных крыльев аисты. Проснулись ночевавшие на лимане утки и гуси, ушло из села сонное стадо под редкие всплески пастушьего кнута.
Необычным в это утро было лишь то, что все левадинские мальчишки проснулись очень рано. Их разбудили матери и бабушки. Еще с вечера домашним был сделан наказ: «Разбудите с восходом солнца, идем с ребятами в луга. Начинают высыхать маленькие озера, а рыбы там – жуть сколько». И матери будили, давали одежонку, какая похуже, готовили завтрак пораньше, снаряжали, сами того не зная, сыновей на войну.
Антону в это утро думалось о разном, но все его мысли возвращались к одному – сегодня война, от исхода которой будет многое зависеть. Если удастся Афоньку и всю его свору поколотить, он потом притихнет и долго будет чухаться, пока снова посмеет выйти на большую дорогу со своими разбойничьими проделками. О том, что будет, если все случится наоборот, Антону и думать не хотелось. Тумаки и шишки легче перенести, чем согласиться с тем, что верх в селе будет держать Рыжий.
Был бы Яшка дома… Он долго не рассуждает: «Вперед и все!» Крикнет по-киргизски что-нибудь такое, и уже одно это наводит на неприятеля страх и ужас. Трудно знать, на что способен человек, выкрикивающий угрозы на непонятном языке.
Ребята знали о том, что Яшка убил ядовитую змею, которая хотела прыгнуть на его киргизского друга.
«Приехал бы Митька вовремя, а с ним и Костя со своими „пиратами“. Тогда бы… И все равно надо готовиться. Впереди такая кутерьма, а развеется она только после схватки. Поиграем – злее будем. А то мы, – размышлял Антон, – добрые очень. Рыжий уже на чапаевцев руку поднял, а мы все думаем, что это баловство пройдет у него. Нет, это не от дури, это у него от бати ведется».
Одного мальчишку Антон послал на крышу ближнего сарая – пусть глядит в оба, что там творится у противника. Двоих засекретил по флангам на всякий случай. Афонька может и в обход пойти, скрываясь за белесыми кустами барбариса.