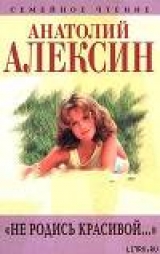
Текст книги "Не родись красивой..."
Автор книги: Анатолий Алексин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
17
По больничному коридору Маша устремилась с аварийной поспешностью. Но и торопилась она в любом состоянии изящно, без неразборчивости и суетности движений. Когда она почти бегом преодолевала мужское отделение, ходячие больные, истерзанные раковыми клешнями, на глазах оживали и со здоровым интересом поглядывали на нее. Алексей Борисович как-то сказал: «Настоящий мужчина и в последний свой миг должен видеть любимую женщину или лицо хорошенькой медсестры!» Но добавил: «Я же и тогда захочу видеть только жену!» Это желание сбылось: последним лицом, которое он видел, было Машино.
Внизу, возле гардероба, тоже на бегу, она опять столкнулась с маминым лечащим доктором. Автоматически сработал стоп-кран.
– Как вы сегодня расцениваете… ее состояние?
– Думаю, ее надо забрать. Дня через три… Месяц-другой пусть дома побудет. Там ведь и стены, как говорят, помогают.
– А ничто другое уже помочь не может?
– Все в Божьих руках.
– Медицина отказывается?
– Господь от нее не откажется. Если не здесь, то там… Я верующий человек. И знаю: от нее не откажется. Она заслужила…
Окно маминой микропалаты выходило на улицу. И Маша, прощаясь, всегда долго махала рукой. Но тут форточка распахнулась – и она услышала голос Полины Васильевны:
– Ты мне дала слово!
На это у нее какие-то сверхсилы нашлись.
Мощная лампа, которая помогала Алексею Борисовичу в последние его дни пробиваться к газетным и книжным строчкам, к погруженным в туман лицам, предметам, высветила для Мити все, что произошло. Все, как было в действительности.
Последнее письмо Алексея Борисовича лежало в центре его же стола, называвшегося «рабочим». Работать и впредь на своего хозяина стол был готов… Но прекратил навсегда.
Навечно, навсегда – эти понятия, ставшие обозначать безысходность, которую муж отвергал, теснили Машино сознание, пытались загнать его в безрассудность. Но на выручку приходили мама и Митя Смирнов.
– Может быть, никому больше письмо мужа и не показывать?
Митя ответил не ей, а себе самому:
– Я вызывал Парамошина и устно, в разговоре его обвинил. А теперь должен сам же его оправдать.
Услышав «оправдать», Маша обхватила и сжала руками шею:
– Его оправдать?! Если юридически он неподсуден, то какая же это законность, Митя?
Он, как и Полина Васильевна, не спорил с Машей, а просто втолковывал ей, разъяснял:
– Мой долг, понимаете, Мария Андреевна… мой долг – руководствоваться не столько общечеловеческими правилами и мнениями, сколько статьями Уголовного кодекса. Хорошо, когда этот кодекс полностью совпадает с кодексом чести. Но все же два эти кодекса – не синонимы. Я обязан был знать о письме Алексея Борисовича раньше, гораздо раньше. Для следователя это промах недопустимый. Непростительный… Извините меня.
Он искренне просил извинить его за жестокость реальности. И по-прежнему взгромождал вину на себя. Маша ему возразила:
– Вы доверились… Не мне, а своему отношению к маме и к нашей семье, а я вас… Хотя это неоспоримо: мужа убил Парамошин! Такова истина, а остальное – муторность, казуистика. Жаль, что они сильнее, чем правда. Мне ведь тоже грозило бы наказание… за лжесвидетельство. Душой и мама стоически на стороне истины, но разумом вынуждена бывает подчиняться той казуистике. И она убедила меня… что убийца, увы, неподсуден.
– Это она?! А Полине-то Васильевне в ее положении к чему было знать об этом?
– Если бы я не поделилась, не посоветовалась, она бы потряслась. А потрясаться ей… По ее мнению, мать должна помогать дочери в любых ситуациях и до конца. А чтобы помогать, утверждает она, надо знать все.
– Полина Васильевна меня понимает? – воспрял Митя.
– Неужели бы вас уволили… освободили? Последнее слово прозвучало корректнее.
– Освободили бы себя от меня. Так будет точнее. У меня больная сестра – и я часто отсутствую по этой причине. Да еще и бываю строптив: «псих ненормальный». Высказываю какие-то свои точки зрения. А зачем им мои, если у них есть свои? Так что Полина Васильевна дважды меня спасла. Тогда, давно… и сейчас.
– Через три дня буду ее забирать. Давайте поедем вместе.
– Давайте. С удовольствием… Хочу отблагодарить!
– И она будет рада. – Маша упрямо вернулась к своим неотвязным мыслям: – Но ведь Парамошин… убил.
– Я бы сказал, что добил. Его можно привлечь за «доведение до самоубийства». Есть такой пункт обвинения. Но надо будет представить последнее письмо Алексея Борисовича, обнажить правду, которую вы просили не обнажать. Она, я согласен, должна принадлежать, только вам… Я не приобщу это письмо к делу. Возвращаю его вам. – Он протянул Маше письмо-завещание. – Нарушаю закон. Что поделаешь? Вопреки тому, что вам говорил, я и сам иногда предпочитаю официальным предписаниям предписания нравственные. Зачем оскорблять память Алексея Борисовича новыми домыслами? Комиссия по расследованию парамошинского доноса после какого-то начальственного звонка вмиг прекратила свои копания. А мы их реанимируем? Парамошин не из тех, что сдаются. Он станет приводить свои доказательства. – Митя будто согласовал эти слова с Полиной Васильевной, у которой все же учился.
– Какие у него доказательства?
– Я бы не хотел говорить.
– Нет уж, скажите!
– Раз вы настаиваете…
– Настаиваю.
– Я слышал запись его последнего телефонного разговора с Шереметовым. В котором тот выражал свое отношение к вам… – Эта фраза Мите далась не просто: все, что касалось Машиных женских успехов, заставляло его явственней заикаться и нервно нащупывать шеей ворот рубашки. – К тому же комиссия, как пишется, установила, что, кроме кофе, вы с Шереметовым пили коньяк. И это тоже стало ее козырем. Плюс к парамошинской пленке… Все это после команды откуда-то с верхотуры предали забвению. Зачем же нам с вами…
– Подслушивает, записывает…
– Мерзость, конечно, – согласился Митя. – Но к чему нам-то ворошить это? Пусть лучше дело останется незавершенным, а история – нераскрытой. Мне не хочется ее раскрывать. О ней будем знать мы двое.
– Трое. Еще мама… К которой мы с вами вместе поедем.
18
Часы свидания с больными уже закончились. Но профессиональная медицинская солидарность отворяла перед Машей «врата» Онкологического центра в любое время.
Они с Митей проскочили мимо столика медсестры, которая отлучилась. Маша с сюрпризным воодушевлением распахнула дверь:
– А вот и мы…
Палата была пуста. Кровать, словно скелет свой, обнажила пружины. Матрац был скатан… На белом столике возле кровати не было ни маминых лекарств, ни маминых книг.
– Она скончалась, – вполголоса произнесла медсестра, неслышно подошедшая сзади. – Днем скончалась. Мы звонили… вас не было дома.
Состарившаяся в онкологической жути, медсестра к тем словам, что произнесла почти по слогам, так и не сумела привыкнуть. И стала плакать:
– Я сестра, потому что сижу здесь, а она всем нам стала сестрой. Очень я к ней привыкла…
– Мамочка? Днем?.. Я же вчера ее видела…
Митя подхватил Машу. Падая, она собой захлопнула дверь.
«Месяц-другой пусть дома побудет…» Врач ошибся, не рассчитал? Или ее успокаивал?
Давно уж Маша заметила, что близкие, которых она так старательно поздравляла с днями рождения и прочими праздниками, даже опережая своими письмами даты торжеств, о днях ее и маминого появления на свет почти никогда и не вспоминали. Они обращались к Полине Васильевне за юридическими советами, а к Маше – за медицинскими. Не только особенности профессий врача и юриста, но и особенности характеров заставляли их с мамой вникать в перипетии чужих историй. На взаимность Маша редко надеялась. Мужчины единодушно готовы были дарить ей взаимность, но той любовью, которая ей была не нужна.
В конце концов, она удовлетворенно и благодарно привыкла к тому, что дом – это мама, муж и она. «А если я останусь без них? Тогда дома не будет. И ничего… ничего уже на свете не будет». Это время настало…
Не только власть терпеть не могла незапланированных происшествий, но и людей, ею воспитанных, неординарность событий настораживала. Приближаться к ним избегали. Вести себя человек должен был понятно для окружающих. И умирать тоже. Даже то, что Алексей Борисович и Полина Васильевна ушли вслед друг за другом, настораживало. Странное совпадение…
Телефон в Машином доме, если б не Митя Смирнов и не Петя Замошкин, можно было бы сказать, онемел. Благорасположенная, гостеприимная Роза и та сочувствие выразила лишь телеграммами. Когда просочились сведения, что Алексей Борисович был отравлен, а не скончался законным образом от сердечного приступа, кругом особенно напряглись.
В скверные слухи людям хочется верить. Хорошие ставятся под сомнение… Смерть Алексея Борисовича обросла домыслами и догадками до такой степени, что кто-то цинично заметил:
– Знал бы, не умирал…
«Его отравили ее поклонники. Какой у мужчин непонятный вкус!» Эта версия была самой расхожей… Прежде всего у сплетников женского пола. Завидовавшие Алексею Борисовичу мужчины приходили к однозначному выводу: «На красавицах жениться нельзя». «Да еще с ее прошлым!» – добавляли завистницы. Когда в столкновение версий встревает секс, его охотней всего берут на вооружение.
Однажды Алексей Борисович процитировал Маше самопожелание Геродота: «И все же я предпочитаю, чтобы мои недруги завидовали мне, чем я моим недругам». При жизни профессору жали руки, поздравляли с успехами – медицинскими и супружескими. В первом случае изображали на лице преклонение, а во втором – подмигивали. Он не слишком вникал в мнения окружающих… Часто вспоминал пьесу Пристли, где вначале, за столом и в салоне, все «герои» взаимообожают друг друга, а позже проясняется, что они испытывают и замышляют в действительности. Ну а в финале все вновь взаимопризнаются в любви и друг за друга вздымают тосты.
– За сколькими такими столами я, наивный, был тамадой!..
О скандалах в министерстве и психоневрологической больнице не болтали, а перешептывались: это была политика. Но и в нее основным действующим лицом втерся секс: заместитель министра и Парамошин стали жертвами соблазнительницы. И Петя Замошкин был защищен Машей не просто так: «Это тянулось еще с института… А бедный Парамошин ей верил!» Два «психа» нарушали ту атмосферу. Они навещали Машу всякий раз, когда она разрешала. Визиты их совпадали: у нее не хватало времени принимать «психов» порознь.
– Он в тебя влюблен? – спрашивал ее прямодушно-белобрысый Петя Замошкин.
– Вы оба в меня влюблены, – устало, чтоб отвязаться, отвечала она.
– Он в вас влюблен? – еще раньше поинтересовался Митя Смирнов таким тоном, словно от этого зависело нечто в его распутывании «дела».
– Вы же следователь… Разберитесь! – ответила Маша.
Она позволяла себе полушутить, пока дом ее вовсе не рухнул.
В день похорон Полины Васильевны, как и Алексея Борисовича, одни сказались больными, другие – по горло занятыми. Она постоянно спешила с добром. И добру ее распахивали объятья, захватывали, с аппетитом заглатывали его. А провожали только Маша, Митя Смирнов и Петя Замошкин, врач-онколог да медсестра.
Маша не шла, а передвигалась. Золотисто-каштановые волосы, утратив свою пышность и праздничность, пугливо прижались к голове и были жестко скручены сзади. И вся она была скручена… жизнью и смертью. Количество горя внезапно перешло в качество ее внешности. Она не постарела, а вроде лишилась возраста. Как измерителя бытия, его продолжительности… Измеритель ей был безразличен: не нужны были ни молодость, ни зрелость, ни красота.
«Меня, психиатра, все нормальные предали. Не предали только «психи»… Неужели предательство – это и есть нормальность?» – не раз ужасалась Маша в те дни.
«Все нормальные предали? – вернулся к ней беспощадный вопрос там, возле могилы, захотевшей поскорее собрать, соединить их семью. – Все нормальные предали? А этот врач, предвещающий маме успокоение и счастье на небесах? А медсестра, которая обрела сестру в моей маме? А следователь Митя и диссидент Петя, которые гораздо нормальнее тех, что прозвали их «психами»? А мама и муж мой, которые ушли, но не покинули… ушли, чтобы дождаться и встретить…»
– Ты похожа на бабушку! – сказала ей в детстве мама.
– Я похожа на бабушку?!
Маша обиделась и заплакала: бабушка ассоциировалась со старостью.
Тогда мама принялась объяснять, что ее мама, то есть Машина бабушка, когда-то была молодой и слыла признанной львицей.
– Я похожа на львицу? – Девочка, которую уже успели сводить в зоопарк, испугалась.
– Что ты, глупенькая? Гордись: из-за нее даже стрелялись!
Маша забилась в угол.
– Стрелялись – это еще не значит застрелились… – успокоила мама.
Бабушки уже не было, а портрет ее висел на самом заметном месте. Поскольку она по традиции считалась лицом семейства Беспаловых.
Постепенно, взрослея, Маша стала посматривать на портрет с явной приязнью. А потом – все благодарней и благодарней… Благодарней и благодарней. Пока события не изменили тот взгляд: он сделался придирчивым, подозрительным. Выражал недовольство… И наступил день, когда Маша спросила бабушку-львицу:
– К чему мне твое наследство?..
…Маша вошла в затаившуюся мамину квартиру. Случайно увидела себя в зеркале, а потом взглянула на бабушкин портрет, как и прежде победительный, ни о чем не подозревающий. Но недавнего своего вопроса Маша не задала. Потому что бабушкиного наследства у нее уже не было…
1994–1998 гг.








