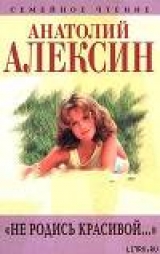
Текст книги "Не родись красивой..."
Автор книги: Анатолий Алексин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
8
Полина Васильевна курила ровно столько времени, сколько не спала. Открыв поутру глаза, она прежде всего погружала пальцы в сигаретную пачку и нащупывала на столе зажигалку. Пепельница возле нее представляла собой подножие пирамиды сигаретных останков. Когда ее приглашали в еще незнакомый дом, Полина Васильевна осведомлялась: «А курить у вас можно?» Ей отвечали, что можно. И до того захлебывались гостеприимством, что «можно» звучало как «нужно». Потому что без надобности ее звали редко.
Мамин голос, как ни странно, прокуренным не был. В нем не ощущалось жесткой, раздробленной хриплости, а ощущалась мягкая заботливость… казалось, обо всем окружающем мире. Однако убийц, насильников и растлителей мама не защищала, а вступалась лишь за тех, в чьей невиновности была совершенно уверена. Это противоречило традициям юриспруденции, но соответствовало маминому характеру.
Защищать невинных при советском режиме было подчас трудней, чем виновных, – и напряжение требовало табака как наркотической анестезии. «Чистота у нас порой не спасает от грязи, а честность от бесчестных наветов, – с грустью констатировала мама. – Приходится доказывать, что ты – не верблюд, будто кругом пустыня, где верблюдов непременно ожидают увидеть!»
За выступления в суде маме причитались не только стрессы, но, конечно, и гонорары. И она их принимала.
– На защитника в нашем суде поглядывают с подозрением, как на соучастника преступления. Выступать в таком суде – это «вредное производство». Вот за вредность я и беру.
Кроме того, она без конца давала мудрые юридические советы. И способствовала их воплощению.
– А это для меня «производство полезное». За полезность я не взимаю. Иные мои коллеги нужные советы дают нужным людям. Это противно. Стараюсь советовать тем, кому надо протянуть руку, чтобы не утонули, не сгинули.
Когда Маше было семь лет, мама дала совет мужу, Машиному отцу, который, в отличие от Алексея Борисовича, был значительно моложе супруги, отыскать себе сверстницу.
– Понимаешь ли, с годами соотношения возрастов меняют не только свой внешний вид, – растолковывала мама дочери. – Одно дело двадцать и двадцать девять: оба в расцвете. А совсем иное – пятьдесят лет (мужских!) и шестьдесят (женских!). Он все еще цветет, лишь более зрело, а она сопротивляется годам у всех на виду или отдается во власть перезрелости… Букета не получается: свежие цветы с увядающими не сочетаются. – Тогда мама еще не знала и не догадывалась, что дочь невольно воспользуется ее женским опытом. – Я не стала ждать пятидесятилетия твоего папы и своих шестидесяти… И пожелала ему цвести где-нибудь в другом доме.
Полина Васильевна не сомневалась, что так все равно случится – и облегчила мужу его задачу.
Отцы чаще всего дорожат теми детьми, матерей которых в данное время любят, – и папино обожание прописалось по новому адресу.
Маша же, по ее собственной воле, соединилась и с маминой фамилией, отторгнув отцовскую.
Так как не существует на свете ни единой бесконфликтной судьбы, не было, пожалуй, в больнице и ни одного Машиного коллеги, который бы не попросил у Полины Васильевны «квалифицированного совета». Возникали и глобально неразрешимые ситуации, которые Полина Васильевна упрощала и делала разрешимыми.
Прежде всего она устремлялась на выручку униженным и беспомощным. Ибо слабые более других нуждаются в силе.
Маша была похожа на маму. Но в ней было больше очарования, а в маме – снисхождения и терпимости.
А потом внезапно неврологическую больницу решили превратить в психоневрологическую.
– Психиатр же у нас в больнице только один: это вы, Мария Андреевна, – с непонятным торжеством, хоть как бы и мимоходом, констатировал в коридоре Вадим Степанович. – И напрасно возражаете против моей инициативы.
– Уже донесли?
– От слухов не убережешься… А у меня к вам только просьба: не отказывайтесь! Я сделал это… для вас.
– Для меня?!
– Вы же, повторюсь, психиатр. И отныне это будет ваша больница!
Маша считалась неповторимым специалистом по возвращению памяти тем, у кого ее, как говорится, отшибло. Именно отшибло, потому что истоком болезни почти всегда были жизненные удары. Это требовало предельной сосредоточенности не только на болезни, но и на биографии пациента. Ибо причиной недуга чаще всего и была судьба. Память – пусть нехотя, сопротивляясь, – но возвращалась. Маша обладала, как определили еще в институте, и гипнотическими возможностями. Первым это открыл не глава кафедры, а один из ее поклонников. «Ты загипнотизировала меня!» – восторгался он на первом курсе. «Разгипнотизируй меня, пожалуйста. Ты обязана!» – требовал он на всех остальных курсах, поскольку влечение его было безответным.
Маше не удавалось разгипнотизировать и других многочисленных вздыхателей, потому что в гипнотическое состояние на самом-то деле вогнала их не она, а власть женской обворожительности. Бороться же с «властью» почти бессмысленно. И в этом случае тоже.
Пациенты – дело иное… Тут Маша уверовала в свои способности. И после ее магических – иногда очень долгих – стараний больной, считавшийся «не в себе», к себе возвращался.
Концентрировать столько сил и внимания на одном пациенте в больнице также считалось признаком ненормальности. Но Маша избавиться от своего «заболевания» не могла.
– Уделять такое количество времени одному психу – это дикость! – упрекал Машу на больничных летучках заместитель главного врача, которого все звали резко и коротко «зам». – Расточительно и неэффективно!
– А эффективно было посвящать целый роман одному «идиоту» по фамилии Мышкин? – возразила однажды Маша.
– Вот именно: достоевщина! – вскипел «зам» Парамошина, так как Маша уже была «другому отдана» и, по сведениям «зама», намеревалась «быть век ему верна».
– Что вы возитесь с каждым, как с писаной торбой?
Сравнивать больных с предметами и вещами было его привычкой. Были у «зама» и другие дурные наклонности. Он, к примеру, почти непрестанно грыз ногти. «Вгрызается в проблему и догрызается до ее решения», – съехидничал как-то Вадим Степанович. Маша давно приметила, что грызть ногти – это манера скверных людей. Когда «зам» принимался за свои ногти, она брезгливо прикрывала глаза.
Один человек оценивает другого, как правило, исходя из того, как этот другой относится персонально к нему. Иной и подлецу приписывает ангельские достоинства из-за того, что лично ему подлец благоволит. И, напротив, ангела кое-кто норовит объявить дьяволом, если по отношению к нему ангел своих ангельских качеств не проявляет.
«Зам» был, кажется, единственным мужчиной в больнице, которого Машины женские, да и все остальные, достоинства не притягивали, а, наоборот, годами отшвыривали в бездну негодования: она стояла между ним и главным врачом. Одна фраза, сказанная ею Вадиму наедине, способна была разрушить своекорыстные замыслы «зама». То была преграда, которую даже изощренные прыткость и приспособляемость преодолеть не могли.
Но ситуация изменилась – и «джинн» несовместимости выскочил на поверхность.
«Зам» был полукровкой… Хоть паспорт утверждал, что он украинец, и на вечерах самодеятельности «зам» исполнял исключительно украинские песни, папа его значился все же евреем. По имени «зам» был Игнатием, а по отчеству – Авраамович. Как ни предавался Авраамович великодержавным воззрениям, как ни подчеркивал, что национальность определяется лишь по маме, от папы ему избавиться не удавалось. Его считали «евреем при губернаторе». Но не «ученым евреем», а нужным. Когда зарубежные делегации высказывали озабоченность по поводу антисемитизма, Вадим Степанович разражался сатанинским хохотом:
– Да у меня первый заместитель еврей!
Некогда «зам» числился журналистом в каком-то медицинском издании – и, как говорили, «владел пером». Поскольку больничные начальники перьями не владели, «зам» являлся автором несметного количества вступительных слов, речей и неожиданных реплик.
Сам Парамошин на больничных летучках присутствовал в редких случаях. «Зам» и здесь был для него «к месту»: когда предстояли непопулярные акции, Вадим Степанович поручал их Игнатию Авраамовичу – и тот выполнял, осуществлял, реализовывал…
Машин норов противостоял мнению «зама», что в больнице не «лежат», а, как он выражался, околачиваются, что пребывание в палатах не следует затягивать: поступили, «подверглись лечению» – и с плеч долой. Такие у «зама» были теория и фразеология. Больных он действительно скидывал долой с плеч, а не выбрасывал, допустим, из сердца, ибо к сердцу их и не подпускал.
«Зам», «пом» – эти советские термины представлялись Маше щелчками по лбу и по затылку. Особенно же раздражало липкое слово «врио», хоть и этот чин – временно исполняющий обязанности – перепадал «заму», когда Парамошин отбывал в отпуска, в заграничные или отечественные командировки. Вояжи свои он продуманно чередовал: в местные обязательно брал с собой Машу, а заграничные, по причине ревности, не затягивал.
Раньше «зам» боялся Машу и заискивал перед ней. Но вот пришла пора за тот свой страх рассчитаться… Костистым, полусогнутым пальцем, подобно Бабе Яге, «зам» поманил Машу к себе в кабинет. Ей неожиданно пришло в голову, что мужской род от слова «Яга» – это Яго.
– К нам поступил больной с опасным диагнозом: диссидент, – сообщил «зам», захлопнув наглухо дверь и даже сдвинув шторы на окнах. – Дис-си-дент!
– Но это болезнь политическая. Если вообще болезнь…
Когда внешняя неприметность соседствует со значительностью характеров и дарований, она себя не стыдится. Но существ хлипких по сути своей мелкое телосложение унижает – и они стремятся его запрятать. Малорослый «зам» обычно вышагивал на бутафорски мощных каблуках, носил будто накачанные воздухом пиджаки, а в кресле его возвышала подложенная под зад подушка.
На сей раз Маше почудилось, что он подложил две или три подушки: беседа требовала начальственного величия.
– Больнице положено соответствовать одной-единственной цели: спасать больных, – сказала Маша.
– А спасать государство? Я имею в виду, хоть ее не называют исторической, как некоторые свою…
– Ах, если б это услышал ваш папа! Такое пренебрежение к его «исторической»…
– Мой папа давно уже умер, – с удовлетворением известил «зам». – И сейчас речь о вас…
– Я предвидела подобное политическое переустройство больницы, – сказала Маша.
– А я предвидел ваше предвидение. Тем более, что вы уже изволили высказываться по этому поводу. И не раз!
Он принялся догрызывать свои ногти. Маша прикрыла глаза.
– Нюх ваш, Игнатий Авраамович, назвать собачьим оскорбительно для собак.
– Мать интуиции – информация! И эта ваша хваленая интуиция.
Он захмыкал, довольный своим афоризмом.
Дверь распахнулась не как-нибудь, а едва не слетела с петель. На пороге возник Парамошин, чьи рост и осанка не требовали ходульных каблуков и подушек.
– Я прослушал ваш разговор! – обратился он к «заму». «Подслушивает разговоры сотрудников?» – замерла, словно окоченев от своего открытия, Маша. – Я прослушал… от первого до последнего слова. Ибо обязан знать обстановку в больнице, – не видя в этом ничего предосудительного, повторил Вадим Степанович. – Как вы смеете так непотребно относиться к врачу? Ногтя которой не стоите… Не вашего, обгрызанного, а ее – волшебного и прекрасного! Как вы смеете собирать о ней какие-то сплетни? Отныне руководить деятельностью Марии Андреевны я буду лично. А вы от руководства вовсе отстраняетесь. Вовсе! Станете рядовым сотрудником. Большего не заслуживаете… Мария же Андреевна, наоборот, станет главным психиатром этой больницы. То есть, по существу, она будет главнее меня, так как именно психиатрия станет нашим лицом. И еще лицо Марии Андреевны… Такого красивого лица нет ни у одного лечебного заведения!
– Но я предполагал… я думал… – заюлил «зам», совсем уж лишившись роста.
– Ваши думы и предположения при себе и оставьте! – Парамошин направился к двери. Потом обернулся: – А вы, оказывается, еще и шовинист? – Слово «антисемит» он произнести не сумел. – Иногда в пылу, в горячке, как в бреду, брякнешь такое, чего совсем и не думаешь… – Это было похоже на самооправдание. – Но вы-то с абсолютным спокойствием, осознанно насмехались над чьей-то «исторической родиной». Стыд и срам! Ибо для каждого родина – это родина!
«Исполнил роль освободителя… – Маша поежилась, ощутив на запястьях у себя кандалы. – Обвинил в шовинизме. Кто? Он!.. Сыграл в благодетеля… А заодно присвоил себе единоличное право мною распоряжаться. Лишь бы я осталась… Лишь бы не уходила… Своего добивается любою ценой!»
9
Свое единоличное право Парамошин начал осуществлять уже утром следующего дня.
Маша еще не вполне догадывалась, что люто, зверино обожающий Парамошин и надумал превратить свою неврологическую больницу в психоневрологическую прежде всего потому, что она была психиатром. Нет, не столько политические взгляды тогда им повелевали и не жажда выслужиться перед властью, призвавшей психушки на битву с инакомыслием, сколько жажда выслужиться перед ней. Без которой ему не пригодились бы, как в той же горячке казалось, ни чины, ни награды, ни благодарность начальства… Он хотел, чтобы ее специальность приковала Машу к его больнице. И новая должность – тоже. Он искал ее поощрения, добивался хоть малейшей ее благосклонности. И надеялся, что через психиатрические проблемы наладятся его собственные: Маша осуществит профессиональную цель, а он – цель свою.
Парамошин заходил на ту, заветнейшую для него, цель спереди, сзади, со всех сторон… «Где-нибудь, как-нибудь да получится!» А иначе, накручивал он себя, все утрачивает значение. Он был из тех, кои поражений не допускают и, не достигнув задуманного, не способны задумывать что-либо новое. Он был закоренелым северянином-однолюбом. Все чаще вспоминал он своего деда, который ходил на медведей. И о том, что однажды медведь накрыл деда лапой, прибил. «Его накрыл и прикончил медведь, а меня давно уже накрыла и прикончит любовь». Парамошин отталкивал от себя такую возможность, прятался от нее. Но она возвращалась, отыскивала… Необоримое чувство, как бы для прочности «замораживаясь», но не утрачивая при этом своего пыла, сберегалось климатом северного характера.
Таким разодетым и авантажным Маша не видела Парамошина еще никогда. Даже красная бабочка заменила галстук, а на смену костюму пришло одеяние, напоминавшее фрак. Похоже было, что он готовится к выходу на концертную сцену… Но в действительности он приготовился беседовать с Машей, что было для него важнее концерта, и торжественного приема, и правительственной трибуны. Так ему самому представлялось, хотя человек порой не в состоянии определить, что на самом деле для него приоритетней всего. Любовь же издавна приспособилась подсовывать миражи.
Для начала Парамошин изготовился повелевать Машей на больничном плацдарме. По времени надежды его были обращены в будущее, а по плоти своей – в прошлое. Он все еще не сдавался… И политические события, как ему виделось, пришли на подмогу.
– Этот шовинист-«ногтегрыз» позволял себе порицать вас за то, за что следовало восхвалять. Его раздражало, что вы видите перед собой не коллектив страждущих, а каждого пациента в отдельности; не здоровье человека в общих чертах, а все его животворные органы индивидуально, в отдельности. – «Страждущие», «животворные органы»… Он впервые в ее присутствии произносил такие слова. – И вот наконец настал час, когда вы, Мария Андреевна, можете помочь одному, конкретному человеку так, что это поможет и отечеству тоже. В этом шовинист прав был по смыслу, но, как обычно, безобразен по форме.
– О чем и о ком, кроме шовиниста, идет речь?
– О том, что когда-то, еще в институте, вы сумели загипнотизировать сильного и стойкого человека… которого сейчас следовало бы загипнотизировать вновь. И только вы это в силах свершить: на пользу самому этому человеку и одновременно, я повторюсь, всему отечеству.
Слово «государство» он заменил на «отечество», чтобы не дублировать «зама». И вообще о политической цели высказывался не высокопарно, как «зам», а будто бы между прочим: решающим для него был человек, нуждавшийся в ее, Машином, врачебном и гипнотизерском искусстве.
– Как зовут этого таинственного незнакомца? И где он находится? Говорите прямее – разгадывать кроссворды я не умею и не люблю.
– Об этом позднее. Сказать пока не могу! А догадаться, я понимаю, сложно, потому что вы заворожили весь наш медицинский институт. А он как раз… Но сперва хочу кое-что разъяснить. К нам теперь будут в изобилии напрашиваться и вламываться зарубежные делегации. Кто же при этом захочет придать больнице идеологическое направление? Чего вы, безусловно, остерегаетесь. Ну а тот человек… он не потому сумасшедший, что диссидент, а потому диссидент, что сумасшедший. Вы обследуете – и убедитесь. Люди, вы знаете, могут помешаться на разной почве: любовной (уж это я знаю!), тщеславной… и политической. Но загонять в больницу диссидентов в состоянии душевной нормальности? Никогда! Я обещаю тебе. То есть вам… – Он не отучился еще путать прошлое с настоящим. – Перепрофилирование (какое тягучее слово!) больницы кого-то коснется в негативном значении…
– Из-за меня?
– Вы тут при чем? Не вы же выдвинули психиатрию на авансцену, а стрессовость века и его сумасшествие. Так что ты…
– Потренируйтесь, пожалуйста, дома, чтобы не путаться, – строго попросила она.
– Поймите же… я и правда делаю все это прежде всего ради вас! Но и ради больных. И ради себя, не буду скрывать… Чтобы не расставаться совсем. И каждый день видеть… Без этого не могу! – Она на миг посочувствовала ему. Но сразу себя одернула. – А сам я, согласно диплому, психоневролог, объединю неврологию с психиатрией.
– Как администратор вы можете объединить или разъединить все, что угодно.
– Нет, отныне командовать в основном будете вы! Коллектив это поймет и поддержит: вас любят и уважают. А я предан тебе… И, если захочешь, могу за тебя умереть. Да вы знаете!..
…Немного утихомирившись и уже наедине с собой, Маша подумала: «Неужели мужская преданность мне мощнее в нем все-таки, чем преданность государству? И даже карьере?»
Было похоже на это… Даже и самому Парамошину так казалось.
– Чтобы удержать меня рядом, Вадим Степанович перепрофилирует всю больницу. И повышает меня в должности, – вечером сказала Маша мужу и маме, которая пришла в гости. Но пристально, ожидая реакции, взглянула только на мужа: ей хотелось, чтобы он ревновал.
– Преданность Парамошина? – Полина Васильевна затянулась очередной сигаретой. – Знаешь, я вспомнила… Один студент, грядущий юрист и защитник закона, начал с того, что усадил за решетку своего профессора. Это можно было бы считать учебной практикой, если б произошло не всерьез, понарошку. Но студент, грезивший стать прокурором, оказался столь даровитым, что засадил профессора на десять лет без права переписки. Слава Богу, что кормчий вскоре скончался – и профессора выпустили… Он, представьте себе, подарил тому самому перспективному ученику свою книгу с автографом: «Ученику – от преданного учителя!» Русский язык, безусловно, великий и могучий, предоставляет возможность разных смысловых звучаний одного и того же слова. Как бы тебе не оказаться в роли того профессора?
– Парамошин уверяет, что коллектив уважает и любит меня.
– Он персонально любит, а остальные – уважают. – Алексей Борисович задиристо подмигнул.
– Ты ревнуешь? – с надеждой спросила Маша.
– Хочешь, чтоб ревновал?
– Хочу, – ответила она, отвергая его игривость.
– Ни в чем не могу тебе отказать!
– Ну как можно с ним жить?!
«Но и без него я жить не смогу», – сказала самой себе Маша. И присела на стул от испуга.
Алексей Борисович не позволял себе афишировать то, что принадлежало двоим, – ни нежности, ни страсти, ни ревности. Но так как отсутствие ревности огорчало жену, он решил смягчить напряжение все той же иронией:
– Пойми: ревновать без повода – это банально. Но зато я, прозванный, как известно, оригиналом, и тут иду на оригинальные проявления! – Он обнял Полину Васильевну, а за реакцией обратился к жене: – Ты не ревнуешь?
– Перестань!
– Почему? По возрасту я как раз гожусь ей в мужья.
– Она выглядит гораздо моложе, чем ты.
– Браво! Нокаутирован. К счастью, любящею рукой. А потому продолжаю… Итак, я подвержен необычным, оригинальным чувствам. Вот, например, безумно люблю свою тещу!
Алексей Борисович не преувеличивал… Обожание, как он уверял, утвердилось на трех солидных китах: благодарности, почтении и разумном эгоизме. Благодарен он был за то, что Полина Васильевна родила именно Машу, хотя могла родить и кого-то другого. Почитал мудрость тещи, так как вообще преклонялся перед глубиной разума, а глупости брезгливо сочувствовал. Разумный же эгоизм его нежно эксплуатировал общения с Полиной Васильевной, но особенно – «тещины вечера». На тех вечерах многоопытная защитница завлекала зятя и дочь душераздирающими историями, кои ей приходилось распутывать. А профессор перед детективами испытывал детский трепет… И слушал ее, по-мальчишечьи разинув рот и глаза. В его библиотеке детективные повести и романы оттесняли бессмертную классику. В чем Алексей Борисович не без смущения сознавался.
Думал ли он, что когда-нибудь сам станет объектом детективного разбирательства?
До женитьбы на Маше Алексей Борисович не засыпал без криминальных бестселлеров. И упоенно ждал свидания с ними… После женитьбы ожидания и упоения отданы были Маше. Но кое-что осталось и для бестселлеров.
Алексей Борисович не ревновал жену, потому что не позволял себе в ней усомниться. Прежде он считал себя донжуаном. Но превращать неисправимых женолюбов в неисправимых однолюбов было уникальным Машиным свойством.
Она же сама, поутру распрощавшись с мужем, томительно ждала вечера, а вечером – ночи. Он не накидывался на нее по-парамошински. «О, я не дорожу мятежным наслажденьем!» Пушкинская строка была путеводителем во всем, что дарила им ночь. Сперва он, повторяясь и повторяясь, недоверчиво относился к возможностям своего возраста. Иронизировал вслух, не страшась унижения. И тем сюрпризнее все происходило потом.
– У тебя со всеми так было? – тихо допытывалась она.
– Разве хоть что-нибудь и хоть с кем-нибудь может быть, как с тобой?
«И с первой женой тоже так не было?» – хотела спросить она. Но не спросила ни разу.








