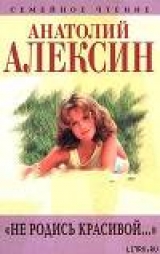
Текст книги "Не родись красивой..."
Автор книги: Анатолий Алексин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
4
Полина Васильевна, Машина мама, значилась в авторитетных знатоках права – и преподавала его на юридическом факультете. Она утверждала, что право обязано защищать права… Прежде всего, не государства, а человека. За эту буржуазность воззрений ее время от времени поругивали, а то и упрекали в космополитском уклоне. Но так как фамилия «Беспалова» принадлежала ей лично с рождения, а не была псевдонимом, упреки оставались только упреками.
«Кончились ангины – начались романы», – в полушутку сообщила себе самой Полина Васильевна. Хоть и знала, что при Машином нраве увлечение шуточным быть не могло. Но реальность превзошла опасения: любовные крылья закинули Машу в такую высь, откуда падать не просто больно, а без парашютной постепенности – катастрофично. До тонкости изучив правдоискательский характер дочери, мать надеялась, что интересы другой матери, а заодно и жены (тем паче интересы ребенка!) заявят о себе и попридержат рискованный Машин взлет.
Сам же Вадим был из тех «низов», откуда стартовали на должностные верха. Подъем начинался в институтских общественных сферах. По этой причине Вадим уговаривал Машу не чересчур афишировать их взаимные чувства. А чтобы приглушить разговоры о семейных его неурядицах, вызвал семью в Москву. Ему немедленно предоставили комнату в общежитии – самую удобную и просторную: перворазрядному студенту все перворазрядное и полагалось.
Любовь застлала Маше глаза – и тогда мать решила подарить ей свое зрение. Свой опыт… Но кто из взрослых детей принимает такие подарки? Родительские советы вежливо или дерзко отстраняются. Не воспринимаются всерьез по причине их ветхозаветной наивности. Каждый верит своим впечатлениям и потрясениям.
Родители жаждут, чтоб взрослых детей не настигали жизненные удары, как не хотели, чтоб во младенчестве они физически спотыкались, падали и ушибались. Но лишь собственные ушибы упреждают от грядущих падений. Любовь же никому не удается обуздать, образумить… Она подвластна только самой себе.
Полина Васильевна видела, что в интимных делах дочери возник непорядок. Она не вмешивалась в эти «дела», а как бы отстраненно делилась личными историями в жанре воспоминаний.
Маша знала, что носит фамилию матери потому, что фамилия отца и он сам их дому давно не принадлежали. Но трансформировать ту историю на свою судьбу не желала… Не отсутствие у дочери документа беспокоило Полину Васильевну. Ее настораживала – и с годами все больше – личность того, кому дочь себя вверяла.
Вслух она Вадима не осуждала, понимая бесполезность таких инъекций. Но внушала Маше, что только независимость от мужчин обеспечивает женщинам надежность и счастье. Дочь ее не была подневольной, но и надежного счастья не обретала.
«Вот окончим институт, поступим в аспирантуру… – оттягивал Вадим. – Вот окончим аспирантуру, получим назначение… Ты же знаешь, что я могу за тебя умереть!» Она не сомневалась, что может.
Так и протянулось около девяти лет.
– Печатью заверенный брак припечатал бы нас еще не устроенным бытом. И всяческой прозой. А так… ожидания и свидания. Романтика спасена! – увещевал ее Парамошин.
Маша, однако, знала и другие его качества… Многие представители сильного пола проявляли слабину в области материальной, этакую скаредную практичность, в отличие от масштабно-карьерной практичности парамошинской и его разгульного нрава. Те если и были рыцарями, то «скупыми». А Вадим потрясал размашистой щедростью. Он во всем был масштабен. Мечтал превратить свое бытие в нескончаемый пир, но, подобно князю Галицкому в отсутствие князя Игоря, и другим не мешал пировать. Он не страдал завистливостью и не воспринимал чужой взлет как свое падение. «В том случае, если этот триумф не угрожает ему лично», – позднее поняла Маша. Если же подобное, хоть в намеке, происходило, Вадим отвечал каскадом ударов без предупреждения и соблюдения правил. Но на ринге Маша увидела его запоздало…
Разумеется, в их роман, постепенно становившийся «многотомным», все с любопытством всматривались и вчитывались.
– Но не пойман – не вор! – вырвалась как-то у Вадима неопрятная фраза.
– Мы с тобой воры? – оскорбленно и выстраданно отозвалась Маша. – Впрочем, да… Обворовываем твою жену, твоего сына. Но и самих себя. Прежде всего себя!
– Вот получим назначение… После этого немного обождем, чтобы институтские пересуды быльем поросли – и ты бы спокойно (законно!) начала работать в моей больнице. Без обвинений в семейственности. И тогда…
Что у него будет своя больница, Парамошин не сомневался.
– Давай уж лучше отложим до пенсии, – прозрев от его опрометчивых слов, продолжала наступать Маша. – С пенсионеров какой спрос? Полная безопасность!
– Ты не веришь, что я могу за тебя умереть?
Она знала, что умереть может, а поколебать свои позиции – нет.
Маша доверяла и следовала своим убежденностям… Убежденность в их взаимной любви была мощной, но все же имела предел прочности и терпения.
Вадима сразу после аспирантуры, с ходу, как он и предвидел, назначили главным врачом новой неврологической больницы, будто она только его и ждала: кандидат медицинских наук и академик общественной деятельности! Это было и омоложение «перспективными научными кадрами»…
– В каждой больнице должен быть хоть один психиатр, – сказал невропатолог Парамошин.
– Слишком много сумасшедших среди нормальных? – предположила Маша. – Поэтому?
– Нет, по иной причине… Всегда должен быть кто-то влюбленный по-сумасшедшему! Правда, меня «психиатрша» не наградила умом, а с ума свела… Но это особый случай.
Маша, по профессии психиатр, согласилась стать врачом в неврологической больнице у Парамошина: здравый смысл все еще отступал. Хоть мама предупредила ее:
– Он легче женится на мне, чем на своей подчиненной!
Кажется, впервые за долгие годы она открыто, без маскировки вмешалась в интимный мир дочери. Не выдержала, не стерпела.
В институте, как и в школе, Мария Андреевна, естественно, была Машей. Она привыкла к этому имени. И оно привыкло к ней… До такой степени, что и в аспирантуре, и в больнице имя не подпускало к себе отчества. Больные поначалу пытались именовать ее, как полагается…
– Зачем меня так величать? – возражала она. – Если можете, зовите по имени: как-то уютнее.
Тогда она еще не знала интеллигентного следователя Митю, но к своему имени относилась так же, как он к своему: Маша и Митя.
Годы шли, но вроде бы и не шли: имя без отчества не противоречило ее внешнему виду.
– Парамошин отберет у тебя молодость. А зрелости и преклонному возрасту преподнесет одиночество, – добавила мама, завершая вторжение в то, что прежде считала для себя заповедным…
На следующий день, сразу после утренней больничной летучки, Маша спустилась к главному врачу на третий этаж.
Вадим Парамошин придавал особое значение фасаду больницы: не только тому, что представлял заведение с улицы, но и тому, который тоже представлял его внешне, хотя изнутри. Выделялся третий, административный, этаж: в коридорах и комнатах расположилась сверхсовременная мебель, полы оделись в ковры, а окна – в шторы и занавески. То, другое и третье прибыло из стран зарубежных. Только стенгазета была отечественной.
– Твоя образцово-показательная больница выглядит скорей показательной, чем образцовой, – не раз насмехалась Маша. – Как ты умудрился выбить такие деньги? Их бы – да на врачебные цели!
Он отвлекал ее от этих проблем оголтелостью любовных признаний, искренность которых сбивала Машу с толку.
Министерское начальство и зарубежные гости таблеток у Парамошина не глотали и процедурами не пользовались – они сразу направлялись в его кабинет. Дорога их была устлана не только коврами, но и всем остальным благоденствием, доставшимся третьему этажу. Что касается других этажей, то там имелись особые «потемкинские палаты», как называла их Маша. Когда почетные гости восхищались больничной витриной, Вадим Степанович объяснял:
– Мы, невропатологи и психоневрологи, знаем, как целительны для нервной системы, для психики уют и комфорт. Театр, по Станиславскому, начинается с вешалки, а лечение обязано начинаться еще раньше – с входной двери. Приметили, какие у нас подъезд и дверные ручки?
– Только бы подъездом, коридором и кабинетом все не кончалось, – продолжала иронизировать Маша.
В больнице Парамошин старался и для нее выглядеть лишь главным врачом. Старался, но ничего из этого не получалось. Он умел на время сдержать страсть, но не мог спрятать неутолимого желания непрерывно ей нравиться. И уж никак не мог утаить свою ревность.
Противореча себе, Парамошин неизменно приглашал Машу на встречи с именитыми гостями и делегациями, ибо там он наиболее впечатляюще гарцевал. И она обязана была это видеть… Но, с другой стороны, именитые и почетные посетители очень уж отклонялись от достоинств больницы в сторону женских достоинств Маши. Посетительницы держались естественней.
Заграничные за границу и убывали. Но оставляли Маше визитки и, даже не ознакомившись с ее «научной спецификой», приглашали делиться научным опытом. Ловеласы на всех континентах были однообразны… Когда же самые настырные предлагали и визитками обменяться, то есть посягали на ее адрес и телефон, нервы невропатолога, при всей его – северной – выдержке, не выдерживали. Он начинал дергаться и гарцевал как-то несобранно. На его беду, Маша владела двумя иностранными языками, которыми Вадим Степанович не владел, – и он измучивал переводчиков, требуя дословно воспроизводить непонятные для него диалоги и мимолетные фразы.
Но еще хуже было, когда номером ее телефона интересовались – во благо науки! – местная профессура и отечественное начальство. Тут Парамошин кидался наперерез:
– Запишите мой номер. Я незамедлительно буду ей сообщать! – В такие моменты казалось, что карьерные страсти отступают перед любовными… И больных-то он подбирал для нее сам: чаще женщин, а если мужчин – то понепригляднее и постарше.
Секретарша, не подавая вида, все понимала и пропускала Машу в кабинет без предварительных согласований.
Так было и сейчас… Маша прошла к Парамошину без задержки, – и он, как это бывало обычно, стремглав прошелся гребенкой по волосам, не сбрасывая халата, отправил его на второй план, почти за спину, а на авансцене оказались неизменно модные костюм, рубашка и галстук. Ей же белая шапочка была очень к лицу, а белый халат – к фигуре. Как, впрочем, и все, что Маша носила. Она ли делала одежду привлекательной или одежда придавала еще большую притягательность ей?..
Парамошин поднялся и принял позу, которая была выгодна для его фасада. Но он волновался – и заученность телодвижений сделалась очевидной.
– Ты? Здравствуй… Я ждал.
– Но того, что я скажу, ты не ждешь.
Кровь зримо отлила от его лица, а на лбу чуть заметно, как холодная, предзимняя роса, проступила испарина. Он не только обожал, но и побаивался ее. А судорожней всего страшился ее потерять… И в больницу-то устроил свою, чтоб держать под присмотром. Ревность рисовала жуткие картины того, что будет после их расставания, если оно случится. С ней, он знал, непременно будет мужчина. Или будут мужчины… Без внимания ее не оставят! Это мучительное убеждение заставляло его заранее ненавидеть всех, кто мог бы, как он предполагал, вызвать ответные Машины чувства.
– Я приняла решение. Окончательное… Отныне мы будем видеться и общаться только по делу. И в чьем-то присутствии.
– Здесь, в больнице?
– Вне больницы мы и вовсе общаться не будем. Поставим наконец, как говорится, не многоточие и не точку с запятой, а долгожданную точку. И никаких объяснений и выяснений! Мне от них уже тошно…
– Для кого долгожданную? Для тебя?!
Он услышал лишь про точку, про финал, а остальное, оглохнув от неожиданности, пропустил мимо.
Она не раз принимала такие решения. Но под напором парамошинских чувств и в результате неуверенности чувств своих окончательные решения отменялись. А тут Вадим панически ощутил, что отмены не будет.
Любовь не может пребывать в мнимом подполье бессрочно. Накапливаются свойства, кои ее взрывают. Самоуверенность Вадима об этом не ведала. Он был убежден, что по собственной воле его не в состоянии покинуть ни посты, ему предназначенные, ни дарованная ему женская страсть. Оказалось, что по поводу страсти он заблуждался…
Откуда-то сверху на него надавила такая тяжесть, что заставила опуститься обратно в кресло. – Почему? – скорей пробормотал, чем произнес он.
– Не думай… не потому, что мы, как злословит молва, в браке состоим незаконном.
– Кто злословит? – задал он бестелесный вопрос.
– Говорят все. Но меня это не тревожит.
– А что же тебя…
– А то, – перебила она, – что ты опасаешься не жены и не совести, а карьерных последствий. Слышал, может быть, что один из недавних английских монархов отрекся от престола во имя любви? Троном не дорожил так, как ты своим импортным креслом. Но и это не главное… Ты совершил ошибку, затянув меня сюда и устроив по соседству с собой.
– Почему ошибку?
Он отказался от заученной позы. А Маша от продуманного и почти заученного текста не отказалась.
– Почему? Да потому, что я разглядела тебя… теперешнего. «Большое видится на расстоянье…», а небольшое и банальное – в упор. Ты сам предоставил мне такую, катастрофическую для тебя, возможность. Сам!.. В институте, считаю, я страдала детской близорукостью. В таких случаях помогают очки… хотя бы чужого опыта. Но я к ним не прибегла: слишком обезумела.
– А сейчас?
Это он прошептал.
– Честно говоря, если б любила, не разглядела бы… даже вблизи. «Видимость на дороге плохая!» Тебе знакомо такое предупреждение: ты же водитель… автомашины, больницы, послушного врачебного коллектива. Но дорожный термин применим и к дорогам интимным: на них чаще всего скверная видимость. А если видимость стала хорошей… Так что звони отныне только по делу и как «водитель» больницы. В другом качестве ты для меня больше не существуешь.
Заметив, что он оседает, погружается в кресло все глубже, она негромко добавила:
– Прости, если тебе сейчас… трудно.
5
Он не смог удержать ее. Ни физически, ни словами, ни молениями… В тот миг, когда она повернулась и направилась к двери, ломота, еще раньше опоясавшая спину под лопаткой, сковала его всего, сделала неспособным к сопротивлению. Парализовала… Даже лишила речи.
Ему все же не удалось совместить силу любви с молчаливым непротивлением силе официального ханжества. В конце концов, любовь и ревность оказались непобедимее… Чего и сам он не ожидал.
Министерство здравоохранения, как только позвонили из больницы и сообщили о Парамошине, незамедлительно снарядило бригаду во главе с ведущим реаниматологом. Поскольку и больница считалась «ведущей».
С опозданием узнав о том, что случилось, Маша ринулась со своего пятого этажа вниз, по лестнице – обратно на третий. В кабинет из сотрудников впустили только ее. Машу тогда ощутили самым близким ему человеком. Вадим и сделался для нее снова таким.
Опередила ее только «спасательная бригада» со всею своей новейшей аппаратурой. Маша увидела Алексея Борисовича, который занимался делом, казавшимся со стороны сверхъестественным. Ему помогали, но она поняла, что, как актер-премьер определяет на сцене судьбу спектакля, так и Алексей Борисович единолично обеспечивал продолжение спектакля, именуемого жизнью. Или пытался обеспечить.
Профессор старался не заново родить, а возродить человека. Такая цель чудилась нереальной. И Маша отдала бы все, чтоб загадочные, будто шаманские усилия реаниматолога сотворили чудо. Обостренно, до физической муки желая, чтобы несбыточность сбылась, она всматривалась в лицо Алексея Борисовича, прикрытое маской, в каждое, неведомое и неподвластное обыкновенным людям, движение. И постепенно начала поклоняться ему… На него была вся надежда. Только он – один, во Вселенной – мог, с Божьего благословения, отнять Вадима у смерти, а ее, Машу, – освободить от преступления, которое бы она до конца дней своих считала убийством. Пусть непредумышленным… Но что бы это меняло?
Она не заметила, что Алексей Борисович ростом «не вышел», что он лысоват… непостижимо, как она разглядела его глаза, упрятанные толщей профессорских очков. Глаза были маниакально целеустремленными… Но в то же время – или ей показалось от желания это увидеть? – были осознающими, в чем ее, Маши, мольба и спасение. Он даже не взглянул на нее, но вроде проник и провидел… И выполнял ее безмолвную просьбу – личную, к нему, реаниматологу, обращенную. И невесть как пробившуюся на расстоянии… То, вероятно, была фантазия. Но не верить в нее было нельзя.
Алексей Борисович виделся Маше всесильным. Ни один мужчина на свете – никакой земной владыка, ни силач, ни красавец – не смел с ним сравниться. Потому что никто не мог свершить то, что в силах был свершить он.
И свершил. А потом рухнул в кресло Вадима. Он устал… Оживив другого, реаниматолог, казалось, ушел из этого мира или полностью от него отключился.
Он и правда отдал Вадиму всего себя, не оставил, не сберег энергии, чтобы приподнять голову и тем более расшевелить в ней мысли, фанатично сконцентрированные на одной-единственной цели. Маша подошла и на глазах у всей, лишь ему подвластной, бригады прижалась губами к руке Алексея Борисовича. Рука была словно одушевленная и, несмотря ни на что, полная волевой мужской плоти. Он, как выяснилось, отключился не в такой мере, чтобы не ощутить Машиных губ: открыл глаза – и скоропостижно весь ожил. Женщины не оставляли его равнодушным даже при крайней измотанности. Дарили ему восстановление сил…
Бригада возвращала Вадиму земное бытие. А бытие главного реаниматолога устремилось к незнакомке в белом халате.
– Я бы хотела увидеться с вами. Поговорить… По поводу здоровья Вадима Степановича.
– Вы жена?
– Нет… Просто сотрудница.
Алексей Борисович заинтересованно скользнул взглядом по пальцам ее правой руки. Обручального кольца не было. Натренированный мужской взгляд подсказал: она, скорее всего, вообще не замужем.
Он полностью воспрял от усталости и врачебного напряжения:
– Вам встретиться со мной практически полезно. А мне с вами очень приятно. Подобное вам, не сомневаюсь, говорят все, кроме молодых дам. Они почему-то не большие поклонницы чужих женских прелестей. Да и пожилые, я слышал, тоже.
Когда мужчины приникали глазами к ее, будто по искуснейшему проекту созданной шее, к скульптурно выверенным ногам и груди, притягательность которых ей скрыть не удавалось, в Маше закипало бешенство. По какому праву разгуливает по ней эта бесцеремонность? Губами бормочут одно – о выдуманных делах, о безразличных им в данный момент медицинских проблемах, об опостылевшем медицинском долге, а примитивной своей физиологией… Поклонники искательно не отрывались от нее, безнадежно пытаясь настроить Машины биотоки на одну волну со своими.
Но Алексей Борисович не клеился и не прилипал, а высказывался с честной, обескураживающей прямолинейностью. Кроме того, в профессоре, даже измученном, обнаружилось нечто такое, что заставило ее обратиться к зеркалу, вмонтированному в боковую кабинетную стену.
– Вот мой телефон… – Он протянул ей квадратик ватмана, предварительно из трех номеров вычеркнув два. Маша мельком взглянула: он оставил номер домашнего телефона.
Вадим вернулся на землю. Алексею Борисовичу он был фактически незнаком. И стал чужим после того, как возвратился к жизни. Считать близкими и родными всех, кто уходил, но с его помощью возвращался, профессор был просто не в силах. Он мог бы провозгласить что-нибудь противоположное и возвышенное, как провозглашают со сцен и экранов, но это выглядело бы красивостью, а он красивости предпочитал красоту. И еще истину, даже если она погружена в не очень нарядные одеяния…
«Сколько ему может быть лет? – непредвиденно подумала Маша. И вспомнила – еще более непредвиденно, необъяснимо, – что у Гете лет в восемьдесят был роман с юной девицей. – А ему, наверное, меньше на четверть века. Или возле того…» Те диковинные размышления она старалась прогнать: «Что за бред! Мне-то какое дело до его возраста? Он – не Гете, а я не восемнадцатилетняя Гретхен». Маша пыталась все поставить на место. Но уже было поздно: нелогичные с виду мысли всхожими семенами упали на ждавшую их, взрыхленную почву. Сперва Маша семян не заметила. Но они окопались…
Кто-то позвонил жене Вадима и сообщил о случившемся. Она в домашнем халате и впопыхах накинутом на него плаще ворвалась в кабинет, когда мужа укладывали на каталку.
– Ты жив? Ты жив? – Провинциально-пугливыми, беспомощными глазами она вперилась в мужа, хотя и так было видно, что он уже не мертвец.
– Ну, да… – прошептал он, демонстрируя максимальное безразличие. Узрел, стало быть, что Маша в кабинете – и наблюдает семейную сцену.
Она впервые видела его жену, которую Вадим конспиративно скрывал от больничных коллег. А та привычно смирилась. Жена принялась суетливо метаться возле каталки, а муж обрел в себе возможность для раздражения:
– Не надо… Прошу тебя!
Недовольство было рассчитано всего на одну зрительницу в его кабинете.
«Если даже сейчас, в таком состоянии он способен режиссировать происходящее… значит, и любовь его тоже воскресла», – подумала Маша. И это было ей неприятно.
Робость жены, ее забитость выглядели столь очевидными, что Маша многолетнюю соперницу свою пожалела. Ей стало все равно, какая у него супруга – обворожительная или уродка, безразлично, дорожит он своей спутницей или нет… На самом деле любовь покинула Машу не вдруг. Она начала удаляться давно, неторопливыми и неуверенными шагами. Теперь остались лишь беспокойство за его жизнь и угасавший ужас того, что она могла превратиться в убийцу. Исчезла досада… И претензий как не бывало. Вадим бы предпочел ее гнев. И чем яростней была бы та злость, тем больше он бы предпочитал ее. Но сие уже ни от него, ни от нее не зависело.
Вадим не звал к себе фактическую жену, потому что в кабинет прибыл кто-то из министерских чиновников. И не подпускал жену официальную, потому что близко была фактическая…
«Горбатого могила исправит, – скорее с насмешкой, чем протестуя, подумала Маша. – Слава Богу, что могила ему уже не грозит. Но и продолжение нашей истории… нашей связи не грозит тоже!»
Ей захотелось побольней оскорбить их многолетние отношения, обозвать их связью, даже прелюбодеянием.
А ведь совсем недавно, вот-вот… когда Алексей Борисович, не умевший желать власти, обладал властью сверхчеловеческой и употреблял ее во спасение Парамошина, Маша клялась себе, что все Вадиму простит, если он, поддавшись реаниматологу, вновь окажется на земле. И согласна была, чтоб его возвращение обернулось и возвращением к ней.
Маша вспомнила, что у постели умиравшей Анны Вронский с Карениным помирились, что обещали забыть вражду. И протянули друг другу руки… Но как только Анна была спасена, вражда разгорелась непримиримей, чем прежде. «Почему искреннее всего жалеют умирающих или умерших? А лишь погибавший воскреснет, опять подталкивают к могиле. Почему так?» – спросила себя Маша. И ничего себе не ответила. Она размышляла абстрактно, – сердце участия в этом не принимало.








