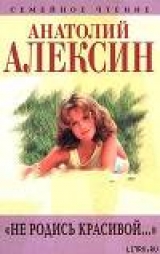
Текст книги "Не родись красивой..."
Автор книги: Анатолий Алексин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
11
Алексей Борисович каждый день довозил жену до больницы на своей «Волге» цвета морской волны. Так этот цвет официально обозначил какой-то торговый деятель, тяготевший к романтике. «Волга» представлялась Маше слишком роскошным кабриолетом на фоне страданий, которыми была до отказа перенаселена больница. И она покидала кабриолет на углу. Прощаясь, Маша просила мужа – «Будь осторожен!», потому что за рулем он вел себя как самонадеянный ас, исключающий аварийные происшествия. А они подкарауливали сбоку, спереди, сзади – и по ночам снились Маше.
– Что поделаешь, я всю жизнь был лихачом, – признавая свою необузданность, говаривал Алексей Борисович. – Профессия сделала меня фаталистом.
– Будь им лишь там, где все зависит от тебя самого, – просила она. – Твое искусство – почти гарантия в хирургической обстановке. Но уличное движение – это движение не только твое: рядом могут крутить баранку идиоты и пьяницы. – Эти крайние предположения она допускала для убедительности. – Считай, что таких большинство: твоя безопасность требует этого. – В детстве она больше всего боялась потерять маму, а теперь – маму и мужа. – Поберегись! Ради меня…
– Ради тебя я готов даже на укрощение своей дерзости. Которая мне необходима профессионально и нравственно: чтобы не быть трусом ни в медицинской хирургии, ни в хирургии моральной. Прости за возвышенное сравнение. Ныне и в людских отношениях надо столько отсекать, ампутировать! Иначе гангрена расползется по всему организму общества… И столько надо реанимировать из утраченных ценностей. В медицине, мне кажется, хирургом быть куда проще.
В разговорах о жизни он часто оперировал врачебными терминами – не так уверенно, как скальпелем, но вполне убежденно.
Тем утром, однако, «Волга» цвета морской волны выглядела бедной родственницей разномастных иномарок, припарковавшихся возле больницы. И погрузивших ее в атмосферу чего-то чужого, запретного.
– Иностранные журналисты, – констатировал Алексей Борисович, взглянув на автомобильные номера. – Что они у вас делают? На какую слетелись сенсацию?
– Парамошин демонстрирует свои очередные открытия в сфере гуманности, – солгала Маша. Она догадалась, чего и у кого станут домогаться корреспонденты, о которых ее предупреждал замминистра.
Больничный вестибюль, чудилось, напрягся в ожидании президента солидной страны, пожелавшего «в ходе визита» побеседовать с нервнобольными. На дверь, в которую вошла Маша, были нацелены телекамеры, фотоаппараты и звукозаписывающие устройства.
– Она! – было выкрикнуто на русском языке с разнообразнейшими акцентами.
Как по мановению незримой дирижерской команды, вестибюль карнавально завспыхивал, а потом загалдел на том же изломанном русском.
Но и тут соблюдался табель о рангах: первыми к Маше приблизились корреспонденты наиболее влиятельных газет и журналов. В общем плебейском галдеже они не участвовали, а, наоборот, его оборвали и поочередно, зная, что им не посмеют перебегать дорогу, принялись обескураживать Машу.
– У меня к вам вопрос, госпожа Беспалова… Сегодня опубликовано интервью с первым заместителем министра здравоохранения. – «Когда он успел его дать? И как успели его сунуть в сегодняшние номера?» – В интервью сказано, что вы согласились лечить диссидента из палаты номер пятнадцать. – «И это известно!» – Вы, таким образом, согласны, что политических противников можно от их взглядов излечивать?
В сложные моменты Маша умела мобилизоваться.
– Между интересами людей и интересами политики я выбираю людей. Больных – тем более! А здоров ли пациент из пятнадцатой палаты? Это мне предстоит выяснить. Как врачу, а не как исполнителю чьей-то воли. После чего я спущусь и отвечу на ваши дальнейшие вопросы. Не раньше.
Но отвязаться от журналистов этими фразами было так же нереально, как отвязаться от донжуанов приветной улыбкой. Корреспонденты-мужчины нацеливались фотоаппаратами и нажимали на кнопки гораздо старательнее и чаще, чем женщины: запечатлевали Машу в фас и в профиль, то сосредоточиваясь на лице, то на фигуре: для рекламы это тоже имело значение.
– Вы в самом деле признали, что инакомыслие бывает психическим недугом? Так сказано в интервью.
– Министерство лжет… если это написано.
Со всех сторон в глаза ей полезли номера газет.
– Министерство, вы считаете, может лгать?
– Лгать может даже и государство.
Этот ответ, неожиданный и для самой Маши, до такой степени удовлетворил журналистов, что они расступились. Однако еще один вопрос все же догнал ее:
– Отважились бы вы это сказать в сталинскую эпоху?
– Нет. Поскольку я против самоубийства, – не оборачиваясь, ответила Маша.
Корреспонденты зааплодировали ее искренности.
– А я-то считал, что женская красота с мудростью не сочетается! – вскричал один из не очень «влиятельных», а потому очень эмоциональных. И эта фраза, вместе с Машиным откровением, была уже вечером процитирована почти всеми зарубежными средствами массовой информации.
Парамошина в вестибюле не было. Прессе надлежало убедиться, что врачу Марии Беспаловой дарована полная свобода решений и действий. Кроме нее, больница была представлена только гардеробщицей тетей Нюрой, которая произносила на своем посту лишь одну фразу: «Номерок не потеряйте!» Других потерь она не опасалась и не предвидела.
…В лифте, наедине с собой, Маша вдруг испытала жалость к Николаю Николаевичу. Он доверился ей… И действовал все же не по собственному желанию. А требовать от людей героизма в мирное время иногда трудней и несправедливей, чем в военное. Маша это знала как психиатр. Стало быть, она его предала? Но зачем было спешить с интервью? Разве она дала на это согласие? И все-таки…
12
Хоть философ Монтень и считал, что человек, утверждающий, будто говорит одну только правду, «уже лжет», Петя Замошкин с рождения придерживался исключительно правды. Люди, отвыкшие удивляться вранью, Петиной честности изумлялись. Даже в мелочах он не позволял себе уклоняться от истины. Не умел… И об этом ходили легенды.
Когда, будучи еще школьником, Петя не услышал на рассвете трезвон будильника, проспал и не счел этичным являться на третий урок, все соученики советовали ему: «Скажи, что был болен». «Но ведь я был здоров!» – отвечал Петя. И сей заурядный факт вошел в историю его школьного класса. Петю не зауважали, а, напротив, нарекли психом. В другой раз он по близорукости своей не заметил, что окно в классе приоткрыто – ткнул в него локтем, и осколки высыпались на улицу. «Скажи, что на окно налетел ветер», – советовали ему. «Но ведь на него налетел я!» – возразил Петя и помчался вниз, чтобы выяснить, не пострадал ли кто, и в случае чего принести извинения. Тогда к «психу» добавилось прозвище «шизик». Он привык – и не обижался. «Не студент, а ходячая добродетель!» – гораздо позже, обращаясь к Петиным сокурсникам, изрек институтский профессор. В тот день, на экзамене, неравнодушная к Пете студентка в знак любви подсунула ему шпаргалку, в которой он не нуждался. Решив, что это очередная ее лирическая записка, Петя прочел ответ на самый каверзный вопрос в экзаменационном билете. Профессор этого не заметил. И тогда Петя его попросил:
– Задайте мне, пожалуйста, еще какой-нибудь сложный вопрос.
– Зачем?
– Я предпочитаю самостоятельные ответы.
Профессор ничего не стал уточнять, потому что все понял. И произнес ту самую фразу. А к двум Петиным прозвищам прибавилось третье. Все нормальные стали считать его «ненормальным».
Петя Замошкин тоже был из пролетарской семьи, что в институте очень ценилось. Но он добрался до столицы с Урала, а не с Севера, как Вадим Парамошин. Предки его не валили лес и не ходили с рогатиной на медведей, а занимались резьбой по камню. Драгоценных же камней на Урале было не счесть! Резчики вполне могли бы называться художниками… Петя тоже был натурой художественной – и пока Парамошин шел на Машу в атаку, он посвящал ей стихи.
– Ты поэт? – удивилась она, не привыкнув еще к признаниям в рифму.
– С фамилией Замошкин считаться поэтом? Я просто не могу о тебе думать в прозе.
Стесняясь декламировать собственные стихи вслух, он мог часами читать чужие. И если Маша при том присутствовала, он скрыто признавался ей в своих чувствах языком классиков. Наивная тайна его была у всех на виду.
Парамошин обладал правильными чертами лица и правильным образом мыслей. А Петя был курносым и белобрысым. Полувиноватая улыбка бродила по его лицу… У Парамошина был, как считалось, твердокаменный, неукротимый характер, но в дискуссии с профессорами он не вступал. А Петин доброжелательный ум имел привычку задумываться и сомневаться.
– Я не уверен… Дайте время раскинуть мозгами, – не расставаясь с полувиноватой улыбкой, говорил он в разных ситуациях преподавателям и даже декану. Раскидывались его мозги далеко и вольготно.
Иногда декан вызывал Петю к себе, чтобы, как ни удивительно, высказать просьбу.
– Мне нужно подкрепить свои выводы конкретикой, – сообщил он однажды. – Подкрепить болезнями знаменитостей… Это всегда убеждает. Желательней всего опереться на случаи психических срывов деятелей культуры и политиков. Прошлых времен, конечно… Отыщи какие-нибудь сенсационные факты. Из прошлого! Желательно из далекого… Да тебе, я знаю, и искать не придется.
– Если про политиков, то лучше – про современных. У них гораздо больше психических отклонений, – ответил Петя. Декан его не услышал.
С тех студенческих лет Петя Замошкин провозглашал, что психиатрия – наука, близкая к искусству, литературе. Ибо исследование характеров, психологии – это и для психиатра самое главное. Маша заслушивалась его аргументами, восторгалась его сногсшибательной образованностью, а влюблена была в Парамошина. «Почему?» – удивлялась она собственной нелогичности, постепенно приходя к убеждению, что логикой любовь руководствуется в последнюю очередь.
Самые значительные свои психиатрические открытия Петя доказывал при поддержке литературы. Чаще всего он призывал на помощь Достоевского, что считалось умеренно закономерным, и Кафку, что объявлялось безусловно ошибочным. Ну а пушкинскими строками «Не дай мне Бог сойти с ума! Нет, легче посох и сума…» Петя определял грустное и непреходящее значение психиатрии для нездорового человечества.
Парамошину все это было чуждо. К Пете Замошкину он Машу не ревновал: «Не тот случай!» Компромиссно сговорчивые с виду Петины курносость, белобрысость и виновато бродячая полуулыбка порой противоречили его неуступчивости. Банальным и общепризнанным он не интересовался вообще… Не то чтобы обязательно отвергал, но как бы не замечал. Петя не повторял расхожие истории о том, что Шуман пытался утопиться в реке, а Мопассан швырнул бильярдный шар в голову своему сомученику по психлечебнице. Вместо этого он изучал причины, по которым выдающиеся умы сходили с ума. И создал по этому поводу одну из своих теорий. Он был уверен, что талант – это отклонение от норм, ибо в «нормы» он не вмещается. «А какое же тогда отклонение великий талант или тем паче – гений!»
Более всего белобрысой Петиной мягкости противостояла та самая его неизлечимая странность: при всех обстоятельствах говорить правду. Это удивляло и настораживало, нарушало его личные интересы. Но интересам Петя не придавал значения.
Парамошин вечерами, а то и ночами утопал в учебниках и почти дословно конспектировал лекции, а Петя досконально знал то, о чем и профессора-то, случалось, были только наслышаны. Беседовать с ним Маше не наскучивало и часами. А женское естество ее склонялось перед Вадимом. «Почему?! – продолжала она пытать себя. – Ведь Петя…» Но жизнь подобные «ведь» отвергала.
В одном стихотворении Петя Замошкин признался, что Машин поцелуй для него дороже всего остального. Войдя в палату, она его сразу поцеловала.
– Ради этого стоило стать диссидентом, – произнес он со своей полувиноватой улыбкой.
– Ах ты мой белобрысый Спиноза! – Маша, приподнявшись, погладила его, словно привела в порядок бесшабашную шевелюру. – Как ты сюда угодил? – Маша прижала палец к губам и шепнула: – Тут всюду уши.
Но Петя Замошкин говорил только правду.
– Ко мне в больницу привезли абсолютно здорового и приказали числить его опасным больным. Я отказался. Ну, тогда быстро отыскали у нас же в больнице другого психиатра, который поставил требуемый диагноз. А мама того пациента, между прочим, совсем молодого, мне позвонила. И плакала и умоляла сказать ей правду. «Не дай мне Бог сойти с ума!» А если это судьба ребенка? Она все время называла сына ребенком.
– Как я своего мужа.
– Да?.. Хорошо, что не Парамошина!
– Злопамятный ты… И что дальше?
– Я успокоил ее, сказал: «Ваш сын совершенно здоров». А что я еще мог сказать?
– Именно ты? Ничего другого не мог!
– Она спросила: «Можно я об этом, сославшись на вас, и другим расскажу?» – «Да хоть всему белому свету!» – ответил я. Она и сообщила всему миру. Тогда в диссиденты записали меня. Знаешь, а я посвятил тебе еще много стихов… Совсем спятил, да?
– Вот это я и должна проверить, – по-деловому произнесла Маша, указав пальцем на стены, которых опасался даже сам Николай Николаевич. – У меня сейчас целых два кабинета – начальственный и врачебный. Спустимся во врачебный, он на втором этаже… Я тебя обследую. Там и стихи почитаешь.
На площадке второго этажа санитаров, которые охраняли палату номер пятнадцать, уже не было. И Маша сказала:
– Спустимся еще этажом ниже.
– А там, на первом-то, что? Гардероб? – удивился он.
– Что там? Иностранные корреспонденты.
Вестибюль напоминал закусочную «Макдональдс» и курилку одновременно. Журналисты не торопились: ради сенсации, которой они дожидались, стоило проявить терпение.
Когда появились Маша и Петя, бутерброды застряли во рту или в сумках, бутылки с «колой» были отброшены куда попало, а сигареты стали усердно затаптываться, вопреки правилам санитарии и гигиены. Журналисты на любых территориях устанавливают свои порядки. Все фотографирующие и звукозаписывающие устройства бурно устремились в очередную атаку. Даже табель о рангах поднял руки вверх, сдался. Корреспонденты криками расталкивали друг друга. Но вопрос был один: «Это он?!»
– Он, – ответила Маша. – Интервьюировать, однако, я как врач разрешаю только себя.
– И что вы с ним намерены делать? – перекрыл всех остальных почти оперный бас, мощно усиленный микрофоном.
– Подвергнуть принудительному лечению.
– От чего?! – вновь объединились журналистские голоса.
– От безответной любви.
Вся корреспондентская рать загоготала.
– Вы и от этого избавляете? – кокетливо осведомилась корреспондентка не самой авторитетной газеты, но самой заметной внешности.
– Всю жизнь стараюсь… И стала большим специалистом в этой области.
– Тогда помогите и мне! – попросила кокетка, коей безответность вряд ли грозила. Но ради эффекта она не щадила себя, в чем тоже заключалось ее журналистское мастерство.
Вестибюль опять не просто улыбнулся или засмеялся, а взорвался наивным и долгим гоготом. Маша давно приметила, что иностранцы менее требовательны к качеству юмора, чем ее соотечественники. Глупая шутка принимается ими за умную легко и охотно. Американцам же хоть покажи палец! «Смех без причины – верный признак дурачины» – так говорят на Руси. Иностранцам эта поговорка, вероятно, неведома.
– Не смейтесь, – остановила Маша всеобщее беспричинное ликование. – Безответная любовь – болезнь весьма и весьма опасная, иногда, как мы знаем из жизни и книг, с летальным исходом.
Маша все настоятельней уводила разговор от серьезности к юмору, чему научилась у мужа. Уводила и от политики, но ждала, чтобы ей был задан главный вопрос. И вопрос прозвучал:
– А в остальном он здоров?
– Безупречно здоров… И стерильно чист!
Внезапно перед ней предстал Николай Николаевич. В образе жертвы… И она вновь посочувствовала ему. Однако между ним и Петей Замошкиным выбора быть не могло.
– Сейчас я отпускаю своего пациента на вольную волю. Но под расписку, что он будет иногда являться на процедуры. В связи с необходимостью того самого принудительного лечения, о котором вы знаете.
Петя взглянул на нее необрадованно. Похоже, он не хотел уходить. Все женщины-корреспондентки стали суматошно сворачиваться, чтобы, обгоняя друг друга, поделиться новостями с мировой прогрессивной общественностью. А иные корреспонденты-мужчины, стремясь к тому же, все-таки, как это неизменно случалось, на ходу интересовались номерами Машиных телефонов, чтобы «и дальше быть в курсе дела».
Вместе с последними корреспондентами Маша и Спиноза вышли на улицу.
– Застенок для тебя уже за спиной, – сказала она.
– Я не уйду.
– Не уйдешь? Я согласилась быть главным психиатром, чтобы тебя спасти… А ты не уйдешь? Поспеши, пока не разошлись журналисты. В их присутствии санитары-охранники не посмеют… И не важно, что ты в пижаме. Не имеет значения… Считай, что это побег… по моей вине. А вскоре, буквально вот-вот на всех языках зазвучат сообщения – и ты станешь неприкасаемым.
– Но тебя выбросят отсюда. С волчьим билетом!
– Выбросят?.. Отсюда я выброшусь и сама. С самого последнего этажа, если меня задержат «при должности». Хотя нет, не выброшусь: я против самоубийств. А волчий билет, не беспокойся, мне не грозит. Пока на свете существуют мужчины!
Она впервые произнесла подобную фразу. Чтобы он перестал за нее опасаться. Спиноза побрел по улице в полосатой – то ли больничной, то ли арестантской – пижаме. Не обращая внимания на прохожих… А Маша медленно, как на Голгофу, направилась в свой начальственный кабинет.
Часа через три Парамошин ворвался в Машину комнату, возведенную им в ранг кабинета. Он привык не входить, а «вшагивать» или вламываться, врываться.
– Какое предательство! Уже заседает чрезвычайная коллегия, спровоцированная тобой. Мне объявят какое-нибудь там взыскание. Но я плевал… – Он по-мужицки харкнул на пол, как раньше бывало. – А вот Николая Николаевича выкидывают с работы. С позором лишают должности… Ты его погубила!
– Погубили его ты и он сам себя.
Парамошин опять нарочито перешел на «ты». И она это приняла…
– Все теле– и радиоподонки орут и трещат. Наша больница – в центре внимания.
– Ты же об этом мечтал!
– Не придуривайся… Сама ты не могла, конечно, додуматься до такой подлости!
Маша заранее подготовила заявление. «Требую освободить меня, по собственному желанию, от той мерзости, в которую пытались меня втравить!»
Он прочитал и не разорвал, а растерзал ее заявление на клочки. Распахнул окно и пустил их по холодному ветру.
– Тебя я не отпущу!
– Посадишь под охрану своих опричников-санитаров? Как Петю Замошкина?
Маша сделала два шага по направлению к двери… Он схватил ее:
– Не уйдешь!
Но, ощутив ее тело, ее руки и грудь, ее спину, обомлел и затих.
Она отбросила его с той же, уже знакомой ему, силой. Грохнула за собой дверью. И он остался в ее бывшем кабинете один.
– Верни-ись!
Его вопль, пробившись сквозь стену и сквозь дверь в коридор, а сквозь окно на улицу, раскололся, растворился, исчез…
13
Обычно муж звонил ей каждые два или три часа. А коль не звонил, значит, держал в руках чье-то сердце… А ее сердце при отсутствии звонков начинало ныть и сжиматься. Он постоянно уверял, что если к чему и стремится, так только пораньше приехать домой. Если же пораньше не получалось, стало быть, происходило нечто непредвиденное. И она начинала метаться.
В тот день он не звонил вообще. Маша уже не в силах была дожидаться дома – и ходила взад-вперед возле подъезда, как дожидаясь некогда в детстве маму, которая из-за чего-то опаздывала. Каждая «Волга» цвета морской волны заставляла ее выскакивать навстречу, на мостовую. Но наконец-то подъехала и та самая… Алексей Борисович вышел из машины в белом халате. Пальто было накинуто на плечи. Шапка валялась на переднем сиденье. Такого прежде никогда не бывало.
– Почему ты в халате?
– Разве?
Он с усталым, неторопливым удивлением оглядел себя:
– В самом деле.
– Я заждалась.
– Заждалась? Это первое приятное сообщение за весь день.
Она не стала требовать немедленных разъяснений. И уже дома Алексей Борисович произнес:
– Он умер.
– Кто?
– Шереметов… У которого ты недавно была. Первый заместитель министра. Да, Шереметов.
«Почти Шереметьев… Его облик соответствовал фамилии», – невесть почему подумала она, точно это имело теперь какое-нибудь значение.
– Умер? Не может быть!
– Может быть, Машенька.
– Это я его, значит…
– Разве ты его сняла с должности?
– Я.
– Не преувеличивай.
– Николай Николаевич… Мне его очень жалко. Как это случилось? Почему? И зачем?..
– Его снимали с работы за «неумелое проведение линии государства». При чем здесь ты? Разве ты имела право пожертвовать тем Спинозой? Вся эта история уже облетела мир…
Его объяснения Машу не успокаивали.
– Неужели ничего нельзя было сделать?
– Его настиг обширный инфаркт. Прямо там, в министерстве… Мы долго возились… Два раза вернули его. Но он, по-видимому, не хотел возвращаться. А это, ты знаешь, очень влияет…
«Не могла же должность оказаться для него дороже самого бытия? Выпав из ранга, выпал из жизни?» – с недоумением и с внезапным протестом подумала Маша.
– Когда мы бросились в очередную атаку, у меня в глазах, только не волнуйся, появились будто жуки и мухи. А после стал наплывать туман. И я…
– Перестал видеть?!
– Нет, почти. Не бери в голову: вскоре это прошло. Но я сразу же, как только началось, передал свои полномочия Валерию. – Это был его ассистент. – Вовремя передал. Но, к несчастью, не вышло… И если б я сам продолжал, получилось бы то же самое. Валерий, мой верный союзник, очень старался. Чтобы я и особенно ты – особенно ты! – в нем не разочаровались. Организм не помогал… Его владелец даже сопротивлялся. Не смерти, а нам… Думаю, больше оперировать мне нельзя. Хотя я вовремя передал…
– Почему же нельзя? Из-за твоей глаукомы? Или из-за того, что он умер? Или, скажи честно, из-за моей беседы с корреспондентами?
– Нет, нет… Ты ни при чем. Никто меня за тебя ни разу не упрекнул. Те, которые смели бы упрекнуть, пока еще, слава Богу, осознают хоть один непреложный факт: физическое бессмертие не даровано никому. А на другое бессмертие они и не претендуют… Романтиков среди них я не встречал. Им при жизни все подавай, при жизни! Ну а коль она у них, как и у всех смертных, в опасности, я им еще могу пригодиться. Хотя бы в качестве консультанта… Кому известен их «внутренний мир» так детально, как мне? Поэтому упреки пока не грозят. Глаукома – это другое дело.
– Иногда мне не хочется, чтобы ты их спасал, – созналась она.
– Я спасаю не чины, а людей, – повторил он то, что Маша уже не раз слышала.
– Извини. Я плохо сказала… Тем более, что Николаю Николаевичу очень сочувствую. Он выполнял приказ, но через силу. И вообще что-то его отличало… Или мне так причудилось. Ты меня хорошо видишь?
– Когда я тебя вижу, мне хорошо, – переиначил он ее фразу. – И ничего не бойся. Хочешь, я подарю тебе «золотую рыбку» на разные случаи жизни?
– Сказки мне сейчас не нужны.
– А это реальная рыбка. Ты права: сейчас она ни к чему. Но когда-нибудь… – Он выдвинул ящик стола и достал записную книжку. – Есть у меня, Машенька, один потайной номер. Представь себе, четвертого человека в стране. Я вернул на свет его тридцатилетнего сына. И он начертал мне, как говорится, своею собственной рукой этот номер. И сказал: «Если будет какой-нибудь крайний случай, звоните поздно вечером прямо на дачу». Они круглый год на дачах живут. Четвертый человек в государстве… Не по качеству, разумеется, а по своему положению.
– Не третий и не пятый? А именно четвертый? – удивилась Маша. – Кто это подсчитал?
– Ну, такие цифры как раз выверены и точны. В других можно и усомниться, но в этих… Иерархия ошибок не допускает.
– А как по фамилии?
– Фамилию он просил в записной книжке не указывать.
Устно Алексей Борисович ее рассекретил.
– Да ну? Я таскала его портрет на праздничной демонстрации.
– Ему, стало быть, повезло: такая женщина носила его на руках!
– В руках, – поправила Маша. – И он тогда мне был ненавистен: шел дождь – и краска с портрета стекала мне на лоб и на нос.
– Видишь, как ты с ним, можно сказать, сблизилась: краска с его носа была на твоем носу. Так что в трудную минуту звони. Если что-то с тобой, не дай Бог, случится.
– А ты-то где будешь?
– Я с пациентов и их родственников взяток не беру: ни деньгами, ни одолжениями. А ты, женщина, в случае чего.
– Но ты-то где будешь?
– Я гораздо старше тебя. Разве забыла?
– Никогда и не помнила.
– Обвожу номер черным кружком. А между страничками здесь закладка. И номер запомни! – Он попытался продиктовать. – Впрочем, не нужно… Он же записан.
– Ты не видишь?
– На нервной почве. Это временно… Никакой безысходности!
«Никакой безысходности!» То были слова из лексикона реаниматолога.
Маша сразу же устремилась на «исследование мужа». Она умела сосредоточиваться, в кратчайший срок докапываться до корней. Даже когда это касалось чужих судеб. А уж коли речь шла о маме или о муже… Маша была человеком долга до упрямой дотошности: все, что обещала, выполняла неукоснительно (и даже когда это было уж не столь обязательно!). Она помнила даты рождений школьных и институтских подруг, которые почти все повыходили замуж, разъехались в разные города, а то и по разным странам. Маша поздравляла их без опозданий. Не надеясь на добросовестность почты и отправляя письма загодя.
Она в тот же вечер позвонила подруге – глазному врачу по имени Роза, которая была не только доктором медицинских наук, но и просто хорошим доктором. Не все откликались на Машину памятливость и доскональность, но эта откликнулась, довольная тем, что наконец может ответить вниманием на внимание. Назначила прием в Офтальмологическом центре тоже без всякой затяжки. Розовощеко-благополучная, соединившаяся брачными узами с тем, кто сделал ей предложение еще в шестом классе, родившая двух детей, как по плану: одну девочку и одного мальчика, – подруга будто и приносить с собой могла лишь благоденствие и оптимистичные вести. А как врач – успокаивающие диагнозы… Внешность до такой степени соответствовала имени, что Розу хотелось преподнести кому-нибудь в качестве розы на день рождения.
Она и встретила Машу с Алексеем Борисовичем так, словно они явились к ней в гости. На столе оказалась ваза с конфетами в забавных обертках. «Может, она таким образом подслащивает диагнозы?» – игриво подумал Алексей Борисович. Маша заранее предупредила, что подруга занимается исключительно сложными формами заболеваний, но его принимает не как тяжко больного, а просто как ее бывшая одноклассница.
Повспоминав для начала об уже не близкой юной поре, Роза без видимых причин хохотала, как это делали смешливые иностранные корреспонденты и другие благополучные люди.
От школьных воспоминаний Роза как-то само собой, без обстоятельной паузы, перешла к тому, что, подобно школьной учительнице начальных классов, взяла указку и стала водить ею по буквам и цифрам, высвеченным на знакомой Алексею Борисовичу таблице. Она и экзаменовала его, как школьника… Но он не ответил безошибочно почти ни на один из ее вопросов. Он ошибался, а она делала вид, что это не имеет значения. Когда же в самом верхнем ряду, где шрифт был всего крупнее, он разобрал несколько букв, Роза воскликнула:
– Вот как славно!
Так же гостеприимно, точно за праздничный стол, она пригласила Алексея Борисовича к японскому аппарату, ультрасовременность которого он по достоинству оценил. Проверила глазное давление.
– Вот как славно… – произнесла она скорее вопросительно, чем утвердительно. И, спохватившись, вновь озарилась. – Нервных потрясений у вас в последнее время не было? – спросила Роза так благодушно, точно потрясения при глаукоме желательны.
– Были, – за мужа ответила Маша. – А что?
Роза просияла:
– Я это так.
Маша в тон подруге улыбалась столь непрерывно и белоснежно, что должно было вызывать подозрение. Потом она протянула Розе бумаги с результатами прежних исследований и анализов.
– А-а, у нас диабет? Стало быть, эту вазу я поставила зря: сладкое не для вас. – Она рассмеялась. И, как ребенку, ему погрозила: – Сладкого ни-ни!
– А горького не избежишь, – с обычной шутливостью проговорил он.
Не пожелав расслышать, она продолжала:
– Дуэт глаукомы и диабета – не самое лучшее сочетание. – Роза выбирала щадящие эпитеты. – Они и порознь-то хороши! А когда собираются вместе… Впрочем, зачем я объясняю все это прославленному профессору? – Она уважительно застеснялась. – Но рекомендации я обязана предложить и профессору тоже. Или давайте мы все вместе что-нибудь посоветуем… Например, по возможности воздерживаться от хирургической деятельности. Пока, на некоторый период… И, безусловно, от автомобилевождения. Я бы и своему супругу это с удовольствием посоветовала: когда он за рулем, трепещу.
– А я давно мечтал, чтобы машину водила Маша! Она все делает осмотрительнее меня. Только бы ей не пришлось водить меня. За руку…
– О чем это вы?
– Кстати, поделитесь секретом: какое у меня там глазное давление?
Она уклонилась:
– А на кого из нас в жизни что-то не давит?
– И на тебя, Розочка, тоже? – изумилась Маша.
– И на меня. Но я в ответ…
Она рассмеялась без всякой на то причины.
– Вы оба умеете подшучивать над несчастьями, – без улыбки сказала Маша. – Я, увы, лишена такого достоинства.
– У тебя достоинства куда большие! – Подруга стала розой в полном весеннем цвету. – Неизменно ты была у нас первой красавицей и первой скромницей. И сейчас тоже молчишь.
– О чем? – удивилась Маша.
– Тебе доверили лечение и, можно сказать, спасение Пети Замошкина. Доверили вернуть разум Спинозе! Такой разум, что о нем беспокоится целое государство. Даже Шереметов об этом всех известил. Мы с мужем тобою гордимся! Плохо, конечно, что Петя…
Лепестки розы скорбно сомкнулись.
– Шереметов умер, – в свою очередь известила Маша. – А Петино лечение отменено. Ты не слушаешь зарубежные радиостанции?
– Нет, никогда… А зачем? – Лепестки розы сомкнулись еще плотнее. – Ты сказала, что Шереметов скончался? Это ужасно. Я не заметила некролога.
– Его не было, – продолжала просвещать ее Маша.
– Как-то странно… Почему? И почему отменили лечение?
– А потому, что Петя, как выяснилось, безупречно здоров.
– Но ведь это, я понимаю, обнаружила ты? И я все равно горжусь… – Однако она уже не выглядела розой в цвету. – И в политическом смысле здоров?
– Это у меня вообще не вызывало сомнений.
– Но вызывало сомнение у… – Она оборвала себя. – А Шереметов скончался? Отчего не было некролога?
Роза во всем предпочитала стерильную ясность: это было гарантией стабильности и спокойствия. Но ясности не было, – и лепестки продолжали смыкаться все печальнее и плотнее. От стужи и непогод цветы погибают, и поэтому Роза ценила теплую, благостную погоду.








