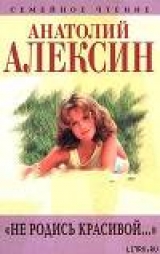
Текст книги "Не родись красивой..."
Автор книги: Анатолий Алексин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
16
У Мити Смирнова была своя система расследований. Верный ей, он постепенно вживался в характеры и судьбы не только подследственных, но и свидетелей. Характеры были на первом месте, ибо и судьбы от них зависели. Он проникался не дряблым, а действенным сочувствием, томительной жалостью к одним и столь же активным неприятием, а то и презрением к другим. Должность требовала утаивать свои чувства… Пожалуй, впервые он утаивал неумело. Потому что следствия в подобные чувства еще ни разу его не ввергали.
Внешний вид его был вновь у кого-то одолжен. Лайковая куртка обладала таким количеством карманов и молний, что невольно возникали загадки: какой карман для чего предназначен? Митя бы затруднился ответить. И вновь наблюдалось не полное соответствие между руками и рукавами, воротом наимоднейшей рубашки и истонченной недоеданием и нервотрепкой Митиной шеей. Он болезненно ощущал это – и Маша сказала:
– Мне нравится, как вы одеваетесь. Я ведь сама пижонка.
Он ничего не ответил, поскольку вслух выдать чужую одежду за собственную избыточная честность не позволяла.
С теми, кого дознания в следственном управлении могли бы унизить и кто унижения не заслуживал, Митя позволял себе расспрашивать в спокойной для них домашней обители. Подобное противоречило правилам, но Митя уверял, что то беседы, а не допросы. Он старался не затягивать своих расследований, так как учитывал, что и у других имеются нервы. В следственном управлении по этому поводу пожимали плечами: «Что с него взять? Псих ненормальный!»
Это стало его прозвищем, пытавшимся опровергнуть Машино утверждение, что сие – тавтология, ибо психи «нормальными» не бывают.
У Мити Смирнова не было ни матери, ни отца: их расстреляли. У него не было отдельной квартиры… И не было одежды, которая бы в Машином присутствии его не смущала. А была сестра, опять невесть на сколько уложенная в постель костным туберкулезом. И как результат всего этого у него было повышенное кровяное давление. К тому же злокачественное.
«Повышенное внутриглазное… Повышенное кровяное… Злокачественная опухоль… Злокачественное давление… Не злое ли это качество нашей эпохи?» – ужаснулась Маша.
– Давят, – сказала даже благополучная Роза. А еще раньше сказал сам Митя.
– Как Полина Васильевна? – спросил он не сразу, чтобы не педалировать на еще одной беде, подбиравшейся к Машиному порогу.
– Положила маму в Онкологический центр. Вдруг свершится чудо?
– Говорят, надежда умирает последней. Она вообще не должна умирать… – Выдержав паузу, он спросил: – Все еще верит в сердечный приступ Алексея Борисовича?
– Мама и муж – самые мудрые люди, каких я встречала. Обманывать таких людей стыдно, но приходилось… и приходится ныне. Давайте, Митя, выпьем с вами… Иначе я, психиатр, могу стать собственной пациенткой.
– Давайте, – ради нее согласился он.
Маша, отличавшаяся, как и мама, хлебосольством и кулинарным волшебством, тут предложила в качестве закуски распечатанную пачку печенья, которое сама же называла «стройматериалом». И налила ему водки в рюмку… А себе – полстакана.
– Пусть чудо докажет мне, что оно существует.
На письменном столе осталась лишь одна фотография. Маша на морском берегу, а муж плывет к ней с поднятой из воды рукой, словно под парусом. На обратной стороне до наивности внятным детским почерком Алексея Борисовича было написано: «А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой».
– Бури сами его находили. А покоя он искал… И именно здесь, в нашем доме, – сказала Маша.
Митя изучал многоцветную фотографию: безупречную ясность неба и незамутненную синеву моря, белизну пены – краски их тогдашнего, уже скончавшегося, блаженства.
– Ну… а что с вами случилось в последние восемь дней? – спросила Маша, когда он достал и раскрыл очередную ученическую тетрадь. – Я думала, что вы решили отказаться от моего дела. И от меня лично.
Совсем отказаться от нее, вовсе ее не видеть он уже вряд ли сумел бы… если б и захотел.
– Что случилось? Гипертонический криз. Слава Богу, соседка вызвалась ухаживать за сестрой. Есть хорошие люди.
– Остались еще. Но сколько плохих. И чудовищных!
– Имеете в виду Парамошина?
– И парамошиных.
– Мы начали с той полуночи, с того Старого Нового года. И вот опять к ним подходим. Вы настоятельно хотели воссоздавать все по порядку… А я старался выполнить вашу просьбу.
– И выполнили ее.
– В канун Старого Нового года вы виделись с Парамошиным?
– Виделась.
Ответ заставил Митю, нервно дергаясь, нащупывать воротник сверхмодной рубашки, который был для него излишне просторен.
– И что он себе… позволил?
Она успокоила его:
– В мужском смысле ничего.
– А зачем, если не секрет, вы навестили его? И где?
– В его же больнице. Чтобы сказать, как его ненавижу.
– Он об этом разве не знал?
– Захотелось еще раз напомнить.
– А он? После того, как вы признались ему в ненависти?
– С бешено исказившейся физиономией заревел, как медведь… который когда-то прибил его деда. Заревел, зарычал…
Митя стенографировал.
– И что же именно он зарычал?
– Что изничтожит и убьет моего мужа.
– Изничтожит или убьет? – привычно уточнил Митя.
– Убьет! Сперва обещал прибить нас обоих, а потом – его одного. Чтобы я настрадалась… Так и сказал.
О встрече с «четвертым человеком в стране» она умолчала: ту возможность муж на прощанье вручил и доверил лишь ей.
– Бесцветный, невидимый яд, утверждаю, был подсыпан в стакан моего мужа заранее. Когда еще никого не было… Я ведь говорила, что Парамошин слонялся по пустому залу и подходил к нашему столику. Официант видел и подтвердил.
– Да, подтвердил. А бутылка шампанского: «От нашего стола – вашему. В знак покаяния»?
– То была маскировка. И еще один аргумент!
Митя захлопнул тетрадку.
– Три дня назад я, хоть и был болен, вызвал Парамошина.
– И что?
– Он пришел. И испугался. Смертельно… Осталось написать обвинительное заключение и попросить санкции прокурора.
– На что?
– На арест…
Она видела сквозь окно, как Митя вышел из парадного и, не зная, что она смотрит вслед, болезненно сжался, как от озноба. Чтобы поудобней уместиться в пальто, которое было ему узковато.
«Значит, три дня Парамошин уже терзается. Для убийцы этого мало. Он заслужил высшую меру испытаний… Самую высшую!» Маша никогда не отличалась жестокосердием. Так было впервые. Но и мстить за жизнь мужа ей тоже приходилось впервые.
На фоне мук, раздиравших Онкологический центр мольбами о милосердии и стиснувшими зубы мужеством и терпением, можно было достоверно определить цену суетности повседневных людских борений, недовольств, исхитрений. Все это страдальцы положили бы на алтарь исцеления не задумываясь. Но те, кому удавалось спастись, вскоре вновь и с прежнею одержимостью погружались в круговорот, в мельтешение суеты сует. И все-таки подлинный жизненный счет осознавался в том Центре точнее… Маша всякий раз осязала это, приходя к маме.
Полина Васильевна, которую Маше удалось устроить в крохотную, но отдельную палату (иначе бы она впустила в себя и чужие, соседские боли!), встречала дочь с оптимистичным желанием обсуждать жизнь, а не болезни и смерть. Она готова была делиться здоровьем, которого у нее не было, но которое она каким-то загадочным образом, ради дочери на время умудрялась добыть.
В тот день Полина Васильевна сказала Маше:
– Я вижу, как тягостно тебе нести бремя одной.
– Но мы с тобой вместе.
– Я о другом… Ты сказала мне про сердечный приступ. Но профессор Рускин хорошо известен в медицинских кругах. Он знаменит! И здесь тоже… Мне рассказали все, как было в действительности. Его отравили… Если мы об этом будем знать обе, тебе станет легче: половину той ноши, для тебя неподъемной, я заберу. – Полина Васильевна прикурила очередную сигарету от предыдущей. – Прошло немного времени… Совсем немного. Но пора подумать, как сберечь его имя, память о нем. Не только для нас с тобой…
Чем прочней сила воли, тем оглушительней взрыв, с которым она, не выдержав, отпускает муки на волю… Маша и мама схватились, слились друг с другом и разрыдались. Это было почти безмолвно. И оттого еще более жутко.
– Ничего, ничего… Со временем невыносимое станет выносимей, – пообещала Полина Васильевна. И вытерла слезы казенным полотенцем. И выпрямилась на железной больничной постели.
– Сначала надо отомстить тому, кто убил его, – тоже овладевая собою и голосом, произнесла Маша. – Я живу только этим намерением. Только им, мама! Раз уж ты все знаешь.
– А кто убил? Тебе это известно? Доподлинно?..
Вместо ответа Маша осторожно, двумя пальцами вынула из сумки конверт, а из него лист бумаги, сложенный вдвое. И протянула его маме.
Полина Васильевна обходилась без очков: болезни то поражают весь организм, а то одно губят, но другое щадят. На листе тем же, будто всю жизнь ей знакомым, доверчивым детским почерком Алексея Борисовича было написано:
«Машенька, дорогая! Неизбежность слепоты для меня ужасней неизбежности возраста. Сделать тебя поводырем? Зачем тогда все остальное? Я сам проверил: и пяти процентов зрения у меня не осталось. Операции не помогут, да и я операциями, ты знаешь, уже не смогу помочь никому. Так что же, незрячим инвалидом, калекой калечить твою судьбу? Я не совершаю самоубийства, потому что удаляюсь уже неживым… Еще раньше меня отравили ложью и ослепили клеветой. Пусть это поможет тебе прозреть. Остерегайся парамошиных! Бог им судья… Если я на это решился, значит, другой дороги у меня нет. Ухожу «средь шумного бала, случайно». Говорят, «умирать, так с музыкой». Или под музыку. Но суть не в этом… Хоть главное потрясение все равно, к несчастью, достанется тебе (пойми и прости!), но все же ты не окажешься с ним, внезапным, наедине. Рядом всегда будет мама. Твоя прекрасная мама… Это мое завещание. Ухожу, но не разлучаюсь. Ни с тобою, ни с ней. Будьте неразлучны и вы. До встречи! Пусть она окажется очень нескорой… А. Р.»
– Он не имел права так поступить, – сначала оцепенев, молвила наконец Полина Васильевна.
– У него не было выхода: диабет, слепота, невозможность в таком физическом состоянии сражаться… – кинулась защищать Маша.
– Все равно это грех: Бог дал, Бог взял… Таков высший закон.
– Не нам судить его, мамочка. Самого любимого, близкого…
– А как жить… без самого близкого и любимого?
– Не знаю, мама.
– И я не представляю себе.
Они вновь вцепились друг в друга. И тоже почти беззвучно, без слез. Им необходимо было ощутить свою неразрывность. «Надолго ли это? Надолго ли? – холодел внутри у Маши вопрос. – «Будьте и вы неразлучны. Это мое завещание». Если б он знал… Как я смогу быть с ней неразлучна? И она со мной… Как?!»
Полина Васильевна вновь первой пришла в себя. И молча дала слово не позволять себе больше взрываться. Но письмо прочла и второй раз, и третий… Душой и мыслями она не могла вынырнуть из этого текста.
– Мы обязаны отмолить его грех, Машенька. Смертный грех!
Полина Васильевна низко склонилась над прощальным письмом. Но Маша от того, последнего, письма ее отвлекла:
– За три минуты до полуночи муж поднялся и произнес тост…
– Что он сказал?
– Я слово в слово запомнила. И про себя повторяю! «Пусть этот Старый Новый год будет молодым. Старость хороша, если она не сдается. Молодость и здоровье… Это мой тост!» Мне сразу показалось, что он хотел сказать «мой последний тост».
– Последнее письмо… Последний тост… – проговорила Полина Васильевна.
– Вот еще… – Маша протянула маме бумажную салфетку с резными краями.
Острым, неведомым Полине Васильевне почерком, словно второпях, было набросано: «Вашему столу – от нашего! В знак покаяния. Парамошин».
– Что это значит?
– Парамошин прислал нам бутылку шампанского. В самый канун новогоднего часа. Испугался «четвертого человека в стране», о котором ты знаешь. Я одной тебе рассказала. До обалдения испугался. Готов был каяться, ползать… Пришел раньше всех и шатался, бродил по пустому залу, чтобы узнать, где мы сидим. Не хочет окончательно терять «перспективу». Зубами в нее вцепился, когтями.
– В зале был Парамошин?
– Был. Он в приятельских отношениях с директором той дачи. Обожает дружить с начальниками и директорами… Я отослала бутылку обратно. Муж запил яд боржомом. – Она встала и прошлась по крохотной маминой келье. – Про яд я следователю сказала. Но уверила, что его, бесцветный и лишенный запаха, подсыпал в стакан Парамошин. И про шампанское сообщила, как о коварстве и обмане. И про салфетку. Следователь принял решение обвинить Парамошина в предумышленном убийстве. Только в этом мое утешение: пусть и его обволокут слухами. Пусть и он потерзается… Я бы сама четвертовала его – и ни минуты не пожалела: из-за него все оскорбления, диабет, слепота… и смерть. Из-за него!
– Но у следователя будут неприятности. И очень большие. – Полина Васильевна сразу забеспокоилась о чужой судьбе. – Следователь с твоих слов направил расследование по ложному следу. Симпатичный он человек? Или просто доверчивый?
– Это Митя Смирнов. Ты помогла ему когда-то поступить в институт.
– Митя Смирнов? Не припоминаю.
– Он ходил на твои лекции, хоть официально у тебя не учился. Не учился, но выучился… Уровень порядочности равен уровню его неустроенности буквально во всем: сын «врагов народа», сестра с костным туберкулезом и сам очень болен.
Полина Васильевна так затянулась, будто вобрала в себя средство, обезболивающее совесть.
– Прости, Машенька… Но ты его дезинформировала. Сбила с пути.
– Я правду сказала: Парамошин убил моего мужа. Убил! Сначала морально… Кто пустил по городу грязные сплетни? И клевету? Кто вовлек нашу семью в политическую трясину? И физически он убил: ослепил мужа. А слепота хуже смерти! Муж всегда это говорил… И написал в прощальном письме.
Словом «муж» она по-прежнему дорожила: слишком долго и унизительно дожидалась его.
Полина Васильевна уложила Машу на кровать, будто в колыбель. Голову ее по привычке погрузила в подушку… И стала ласкать дочь, как это бывало в детстве. И объясняла, втолковывала, как это было тогда же:
– Ты пойми… Иносказаний юриспруденция не допускает. Их не положено путать со смыслом буквальным. Убить в переносном смысле – это одно, а убить буквально – совсем иное. – Митя это ей уже говорил. – И как бы человек ни был преступен и гадок, судить его можно за совершенное злодеяние. А если осудят за преступление несовершенное, следователь (прежде всего он!) и судья сами в преступников превратятся.
– Я бы все равно показала Мите последнее письмо мужа. Но мне хотелось, чтобы сперва Парамошин люто намучился. Если суд его наказать не вправе, то должна была покарать я.
– Но страдать будет и Митя Смирнов. Еще как… Могут отобрать жалкую следовательскую зарплату. Что же останется? Костный туберкулез сестры и собственные недуги? – Полина Васильевна оборвала свои материнские ласки. – И сама ты будешь страдать: лжесвидетельство наказуемо. «Остерегайся парамошиных!» – завещал тебе муж. Парамошин сумеет доказать свою непричастность. Не забывай, с кем имеешь дело. Да и самосуд для тебя и для Мити был бы невыносим. В том смысле, что суд над самими собою.
– Мне уже все равно.
– Но я-то пока жива… – Полина Васильевна спохватилась: – И буду жить.
– Ты будешь жить, мамочка. Будешь…
Наткнувшись на опасность, которую она вначале не разглядела, Полина Васильевна продолжала говорить о Мите, а думала больше о дочери. Это было несправедливо, но она не могла преодолеть барьер материнской предвзятости:
– Тебе необходимо… ты обязана удержать следователя. Пока прокурор не санкционировал ордер на арест. Надо действовать. Не то… Арестуют Парамошина, а накажут вас. Ну посадят его в следственный изолятор, в этот филиал ада. Ты испытаешь недолгое удовлетворение. А затем? Надо успеть!
– Если Мите грозит такая опасность… Я не представляла себе! Думала: пусть убийца настрадается вдоволь, а после я покажу это письмо. Сейчас понимаю, осознаю. Я обязана искупить свой грех. Тоже смертный.
– Не смертный, но грех. И перед собой – в том числе.
– Успокойся, немедленно ему позвоню!
– Я пойду с тобою: хочу слышать своими ушами.
Между этажами, на лестничной клетке, был телефон-автомат.
– Ты звонишь домой или в следственное управление?
– В управление.
– Будь осмотрительна: там все прослушивается, – брезгливо предупредила Полина Васильевна.
Туда Маша еще не звонила ни разу. Но Митя предупреждал, что пробиться практически невозможно: «Впечатление такое, что весь город в объятиях преступности или добивается оправдания». А тут он сам взял трубку. «Потому что со мной мама, – подумала Маша. – Это ее токи, ее тревога».
– Дмитрий… – Она запнулась, не зная отчества. Он подсказал: Михайлович. – Дмитрий Михайлович, это свидетельница Беспалова. Не торопитесь, пожалуйста… У меня есть дополнительные факты. И показания.
– Тогда увидимся сегодня же. Как обычно. – Это означало, что он придет к ней домой. – Вас устраивает, Мария Андреевна?
– Устраивает.
Он не подделывался под казенность: разговаривал, не изменяя ни голосу, ни манере.
– Мы успели! – еще не повесив трубку, успокоила Маша Полину Васильевну. – Слава Богу…
На полэтажа им предстояло подняться вверх. Маша впервые увидела, как это маме сложно.
Прежде чем проститься, Полина Васильевна вновь отважилась преодолеть себя:
– После того как ты рассказала мне об этой беседе с «четвертым человеком в стране», я все время хочу задать тебе один странный вопрос. Ты не рассердишься?
– Рассержусь? На тебя?
– В каком часу приблизительно ты покинула тот кабинет?
– В три часа тридцать пять минут. И не приблизительно, а точно: там на каждом шагу часы.
– Потом ты выносила свой женский приговор Парамошину. А когда встретилась с мужем, чтобы собраться и поехать встречать Старый Новый год?
– Ровно в пять тридцать. Он сказал, что взволнован моим долгим отсутствием. И я для себя уточнила время.
– До полуночи, выходит, оставалось еще шесть с половиной часов?
«И я могла сообщить мужу о том, что все подозрения с него на следующий день будут сняты!» Эта мысль, как ни странно, явилась к Маше впервые. О чем угодно размышляла в связи с главной трагедией своей жизни. И неотступно в ее рассуждениях присутствовало «если бы»: «Если бы я не пошла к Шереметову… Если бы Петю Замошкина освободила, а с корреспондентами беседовать отказалась… Если бы вовремя стала проверять сахар в крови у мужа…» Но чаще всего она истязала себя другой мыслью: «Если бы я рассказала правду о маминой болезни, муж бы в такой ситуации одну меня не оставил. Ложь во спасение привела к гибели».
Если бы, если бы… Но это «если бы» не пришло в голову. Отчего? Как такое могло случиться? Ведь она не пряталась от своих просчетов, а ими себя истязала. Но не тем, который лежал на самой поверхности… Муж сказал, что за спасения не берет взяток, – и она помнила только это. Не смела оскорбить мужа в его собственных глазах?
Полина Васильевна увидела, что дочь бледнеет и близка к потере сознания. В страхе она попросила у дежурной сестры сильнодействующее лекарство.
– Что-то с вашей дочерью? – спросила сестра, знавшая, что по поводу себя самой Полина Васильевна никогда не била тревогу. – Что-нибудь еще? Укол? – сострадательно предложила она.
– Нет, я сама… – ответила Полина Васильевна.
Она больше доверяла своим, материнским, средствам воздействия.
– Слушай меня внимательно… Слушай! И верь каждому моему слову. Ты бы ничего не могла изменить! Главное в том, что он не хотел превратить тебя в поводыря. Не хотел слепоты и бессилья, бездействия. Сколько раз он повторял, что это ужасней смерти. Ты помнишь? А подлый слух все равно бы остался… Эхо парамошинского навета не заглохло бы. Следствие по приказу свою возню прекратило бы, а языки бы не прекратили. Им не прикажешь! Не стали бы повсюду объявлять: «Профессор Рускин ни в чем не виновен!»
– Но я же пошла… чтобы спасти его. И думала, что спасла…
– Ты и спасла. Иначе бы раструбили в газетах, по радио… Вот это бы раструбили! Связали бы с диссидентской историей… И возникло бы громкое дело. Они по инерции, с вроде бы минувших времен, любят «дела» масштабные. Ты это предотвратила! Ты спасла честь своего мужа. И тот визит твой не был напрасным. Ты превозмогла себя, но пошла…
– Он просил по его делам туда не ходить. Он считал это взяткой за спасение жизни, – не оправдываясь, а сообщая маме, еле слышно сказала Маша. – Ты мне как-то внушала, что «умолчание – это форма лжи».
– Нет правил без исключения. То не банальность, а безусловность. Целые профессии требуют порой умолчания. И подследственных в демократических странах предупреждают, что их слова могут против них же сработать, а потому безопасней молчать. Ложь во спасение – тоже не банальная фраза, а, бывает, и долг. Врачей в этом Центре, к примеру…
«Знаю, к чему приводит верность этому долгу. На себе испытала… Если б я сказала ему о твоей болезни… он бы сейчас был здесь!» – подумала Маша. Но вслух согласилась:
– Он просил, чтобы я воспользовалась тем номером в крайнем случае. Самом крайнем! И только ради себя.
– Вот видишь! Если б ты рассказала… ты бы перед последним его часом обидела и даже оскорбила его. Поэтому ты поступила верно. Как должна была поступить… Ты облегчила его уход. И он произнес свой последний тост без досады, даже оптимистично. Ты согласна со мной? Ты мне веришь?
– Верю, мамочка.
Полина Васильевна не была убеждена в том, в чем убеждала дочь. Но спасти Алексея Борисовича она уже не могла… Подобно заклинателю, она не уговаривала, а внушала Маше успокоение, раскрепощение от чувства страшной вины. И зачем она задала дочери тот вопрос? Юристка опередила в ней мать? Но разве она с детства не объясняла Маше, что не следует размахивать руками и отчаиваться по поводу того, что невозможно исправить?
– Дай слово, что ты не будешь думать об этом и считать себя виноватой. Поверь: он бы ушел оскорбленным, если бы ты… Дай слово…
– Даю.
– Нет, поклянись! Здоровьем моим… – Этим Маша поклясться не смела. Недавно ее клятв требовал Парамошин. Самые разные люди в стрессовых положениях требуют одного и того же. Но Полина Васильевна не отступала: – Поклянись, тогда я буду спокойна. Ты же слышала, что я против незаслуженных обвинений. Даже когда это касается Парамошина! И ты обязана поверить матери: у тебя не было возможности спасти мужа. Согласна со мной? Я хочу, чтобы ты поняла, согласилась.
– Я согласна.
Самой себе Полина Васильевна в ту минуту не вполне верила. Но исправить ничего уже было нельзя – и она сражалась за душу дочери.
– Есть, однако, то, что можно предотвратить. Это неприятности Мити Смирнова. Видишь, я не лукавлю: что не поздно остановить, то надо. Разве я тебя хоть когда-то обманывала?
Мама ее не обманывала. И Маша поверила. У нее и выхода не осталось: либо сойти с ума, либо поверить.
– Ты правильно поступила. Правильно! Как юрист тебе клянусь. Видишь, я тоже клянусь. А ты мне не дала клятву.
– Здоровьем твоим не могу…
Полина Васильевна до того никогда не изменяла юридическим нормам. И сомнительных клятв не давала. Но ей, защитнице, ни разу не приходилось так судорожно защищать дочь… от самой дочери. От Машиной совести, к которой она, мать, еще недавно взывала совсем по другому поводу.
– Торопись! Ты же с Митей договорилась. И запомни: ты не поклялась, но слово дала! – Полина Васильевна попыталась проводить дочь до лифта. Но силы ее истощились. Они все ушли на заклятие. – Слишком здесь натоплено. А я не выношу жары. Ты же знаешь.








