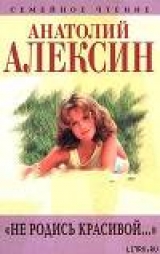
Текст книги "Не родись красивой..."
Автор книги: Анатолий Алексин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
6
Назавтра, едва дождавшись рассвета, Маша позвонила Алексею Борисовичу, чтобы он не успел уйти на свою поразительную «работу».
– Ох, как удачно, что я успел вернуться после бессмысленной утренней беготни! – порадовался он в трубку. – Убегаю от одиночества… Позвони вы на три минуты раньше, и не застали бы. Это был бы кошмар!
Шутливостью он прикрывал душевную взбудораженность, о которой уже давно не мечтал.
А когда наконец стемнело, Маша, согласно договоренности, направилась к кудеснику-реаниматологу домой.
Едва она вошла в комнату, Алексей Борисович, чтобы не возникало вопросов, сообщил:
– Моя первая жена умерла одиннадцать лет назад. От рака почки с метастазами в кости… Мученически умирала. За что? Она, поверьте, была праведницей. В отличие от меня… Спасти ее я не мог. Реаниматологам, кстати, близких людей редко удается спасти. Вот такая закономерность. Что поделаешь, вернуть было невозможно, но и забыть нереально. Детей у нас не было. И второй жены у меня пока тоже нет.
Он вскинул глаза на Машу, будто давая понять, что она могла бы претендовать на вакантное место.
Маша этому не удивилась: мужчины часто, впервые ее увидев, восклицали, что хотят лицезреть ее до последнего вздоха. И она с безразличием верила им, как они верили себе в те минуты, когда это произносили. Не только ведь поэт «сам свой высший суд», но и женщина, если она умна, «всех лучше» может определить себе цену. Большинство мужчин, встречавших Машу на своем мужском пути, готовы были эту цену платить.
Она на мгновение запамятовала, зачем явилась к профессору. А ведь формально-то ее привело к Алексею Борисовичу здоровье Вадима Степановича.
Профессор Рускин не был отшельником и затворником. Он не затворял свою квартиру от прекрасного пола, который считал прекрасным вполне убежденно, и ничуть этого не скрывал. Но стены были увешаны фотографиями и даже портретами всего одной женщины.
– Это она?
– Первая жена, как вы уже знаете… Я думал, что она будет и единственной. – Получалось, что сейчас он уже так не думает. – Душой я, представьте, всегда был ей предан. – С внезапным и веселым озорством почесав затылок, он добавил: – В абсолютную же мужскую верность я, простите, почти не верю.
– А в женскую?
– Тоже не очень. Но пусть об этом поведают женщины. Не хочу оговаривать! Вернемся к мужчинам… В моем возрасте верность уже возможна. Так что в этом смысле у будущей спутницы есть большой шанс… Если ей, разумеется, моя преданность будет нужна.
Он взглянул на Машу, точно спросил: «Вам она пригодится?»
Он очень отличался не от одного Вадима Парамошина, но и ото всех ее бессчетных поклонников. Чем именно? Многими качествами, кои сразу угадывались. Но более всего, она поняла, своей независимостью. Он не был зависим ни от вышестоящих (это она приметила еще в парамошинском кабинете), ни от нижестоящих. А зависел лишь от своего врачебного дара. И от редчайшего, как успела уловить Маша, характера. Во всяком случае, на фоне характеров, что до той поры ей попадались. Независимость диктовала ему фразы, симпатии, антипатии… Он любил того, кого любил, и уважал того, кого уважал. Никто не мог ему ничего навязать. Так она представляла себе… И так было в действительности.
Для сравнения Маша вспомнила о рабской зависимости Вадима ото всех – взявших его в полон – сил: общественных и партийных, обывательских и начальственных. Он был зависим от рассвета и до темна. Да и по ночам ему снились преследования, погони, о чем он рассказывал Маше. Круглосуточно обязан он был что-то учитывать, к чему-то и к кому-то прислушиваться, примеряться.
А Алексей Борисович, похоже, прислушивался к голосу долга, подчинялся же собственным увлечениям и желаниям. Учитывал он не прихоти руководителей, а прихоти женщин. У которых пользовался успехом…
Ну а в день парамошинской клинической смерти профессор-реаниматолог влюбился.
Квартира была ухоженной, обставленной со вкусом, который нельзя было подвергнуть сомнению.
– Художником-постановщиком всего этого была жена, а порядок в квартире поддерживаю и соблюдаю я, – продолжал оповещать Машу Алексей Борисович. – Поддерживаю… как память о ней. Она была неповторимой чистюлей. И в людских отношениях тоже. Возвышенно выражаюсь? Иначе не могу… в этом конкретном случае.
– Вы ее любите? – спросила Маша.
– Ее разлюбить нельзя. Не получится… Но она завещала, чтобы я вновь женился. Была уверена, конечно, что я и так, без ее завещания, холостяком не останусь. Но вот пока… Хотите быть второй и последней?
– Хочу, – ответили ее наивно-пухлые губы, не успев согласовать это с разумом.
После кончины жены он, понемногу оправившись, не ограничивал себя в знакомствах и встречах с полом, который считал прелестным, но слабым никогда не считал. «Я в поиске!» – сообщал он приятелям. «И долго будешь искать?»
– Я нашел! – оповестил он в тот вечер Машу.
– Кого? В каком смысле?
– Вас… В том самом, решающем!
Со стен на Машу внимательно, но без осуждения взирала первая жена Алексея Борисовича. Он почувствовал, что из-за ее взглядов Маша не ощущает раскованности, свободы.
– Жена бы одобрила мой выбор. Не сомневайтесь: я знаю ее придирчивый, но объективный вкус.
Чтобы увернуться от этой темы, Маша спросила:
– Она вас тоже…
– Она любила во мне не только мужа, но как бы и сына, – перебил он. – И, подобно матери, не сомневалась, что сыну ее – да плюс еще мужу! – должно доставаться все самое лучшее… Лучшее во всех отношениях. Так что вы бы ее устроили.
Он и Маше напоминал прямодушного, обаятельного ребенка. Они помолчали.
– А как вы оцениваете… здоровье Вадима Степановича? – скорее вспомнила, чем поинтересовалась Маша.
– Причиной клинической кончины его стало, по-видимому, какое-то мгновенное потрясение, а не хронический недуг. Так что все восстановится и будет в порядке. Я почти убежден. Почти, так как полностью ручаться за выходки сердечно-сосудистой системы не может никто. Иногда эта система так же непредсказуема, как система советская. Но организм Парамошина еще молод. В отличие, допустим, от моего. Молодость хороша уже сама по себе. Но я не хочу зависеть от возраста. – «И от него тоже?» – подумала Маша. – Не робею, как видите, перед вами. Хоть мне уже пятьдесят шесть.
Ей было тридцать.
«Что люди? Что их жизнь и труд? Они прошли, они пройдут…» – написал гений, проживший двадцать шесть с половиной лет и не цеплявшийся за земное существование. Он «хотел забыться и заснуть», за что профессор-реаниматолог его дополнительно почитал.
Лермонтов, естественно, не был пациентом Алексея Борисовича… Но строки его стали критерием отношения профессора к пациентам. «Они прошли, они пройдут…» Все старались проходить подольше, максимально задерживаться в своем земном шествии. Максимально содействовать этому было предназначением и обязанностью Алексея Борисовича. Но к тем, кто уж очень цеплялся за жизнь, он относился скептически. Очнувшись, Парамошин шепотом заклинал реаниматолога: «Я умоляю вас… Умоляю…» Эту врачебную тайну Алексей Борисович, однако, от Маши скрыл. Вскинув на нее устало-озорные глаза, он спросил:
– А Вадим-то Степанович из-за чего надорвался? Как вам кажется?
– Из-за любви, – не задумавшись, сообщила она.
По-мальчишески бойко сообразив, он снова задрал глаза, так как был ниже ее ростом и не собирался это маскировать – ни перед кем на цыпочки не привставал:
– Из-за любви к вам?
– Ко мне.
– Молодец. Я его понимаю! И как же теперь?..
– Я ведь дала вам согласие. – Маша не бравировала прямотой – она и правда не выносила в общении кривых и ломаных линий. Ничего из себя не изображая, она даже не прихорашивалась и пренебрегала косметикой. Какою была, такой и была.
– А не придется ли снова его спасать? – спросил Алексей Борисович. И сам же ответил: – Во-первых, я все равно не собираюсь вас уступать, а во-вторых, трагедии повторяются лишь как фарс. Расхожая истина. Но давайте за это выпьем!
В застольях он был несменяемым тамадой, «душой общества». Душой изобретательной и находчиво-остроумной… Когда его с нарочитой торжественностью избирали главой стола, он неизменно предупреждал:
– У меня, как и у знаменитого восточного мудреца-поэта, есть, предупреждаю, существенный недостаток: я очень люблю тех, кто любит меня, и недостаточно люблю тех, кто меня не любит.
«Тех, кто не любит его, любить вообще противоестественно!» – впоследствии думала Маша. Она в ту пору уже наизусть знала его излюбленные истории и анекдоты. Не мог же он всякий раз изобретать что-то новое. Она берегла его силы – и не требовала обновления застольных «программ». А слушала так, как внимают произведению хоть и знакомому, но неспособному надоесть.
Если сам Алексей Борисович примечал за столом тех, которые, как и Маша, не единожды его слышали, он с ребячьей открытостью объявлял:
– По многочисленным просьбам исполняю на бис осточертевшие мне «номера»!
«Би-ис!» – взбадривали его приятели. И он, оставляя нетронутым текст, играючи обновлял форму общения: артистичность его была неиссякаема.
Принято считать, что молодость – это счастье. Но для Маши она была нестихавшей тревогой. В совсем юные годы она наивно мечтала уничтожить возрастной разрыв между собой и мамой. «Это противоречит законам природы», – объяснила ей мама-юрист, которая законам служила. Но боязнь остаться одной продолжала Машу преследовать. Не по возрасту самостоятельная, она боялась утери не бытовых материнских забот, а мамы как мамы: ее присутствия в своей жизни и в жизни вообще. Советы Полины Васильевны не звучали наставлениями, а служили прозрениям дочери, избавлению дороги ее от спотыканий, чудившихся падениями, и от незначительных рытвин, казавшихся пропастями. Так было до той поры, пока Маша не влюбилась и не лишилась здравого слуха, к которому Полина Васильевна уже напрасно пыталась пробиться.
И вот нежданно… Маша почувствовала, что снова мечтает свести на нет возрастное расстояние. Между собою и мужем. «Чем больше родных людей, тем вроде спокойнее, – рассуждала она. – Но тем и тревожней: увеличивается опасность потерь». Машу угнетали, страшили возрастные разрывы… Хотя муж предупреждал ее и себя:
– Кто следующий – это определяют не цифры, не даты рождения. Чаще всего в повседневности убивает не возраст, а люди людей. Люди людей… И даже не явно, как противники на войне. Или как уголовники… А те, кого официально и судить невозможно: завистники, интриганы, отравители окружающей среды… и нравственной тоже.
Маша принадлежала к тем женщинам, игнорировать коих мужчинам было почти невозможно, как водителям светофоры. С той разницей, что она являлась лишь знаком «стоп»: замирали либо полностью, либо своей физиологической сутью. А ревновал все же не он ее, – ревновала она… Машу смущало, что все медсестры, окружавшие мужа, были хорошенькими.
– Мрачные экстремальные ситуации надо рассеивать красотой, – объяснил он.
– Но не обязательно женской.
– В мужской красоте я разбираюсь меньше.
Маша знала, что, хоть муж с ходу в глаза не бросался, при ближайшем рассмотрении он нырял в самую глубь женской неотвязности, прилипчивости. И она терзалась.
– Что ты, милая? Мне бы за тобой уследить! – прямодушно реагировал он.
7
– Простите, Мария Андреевна, что я, не являясь хирургом, позволяю себе бередить ваши раны. Врачи это делают ради спасения здоровья, а я – ради спасения истины. Правда, от этого никому не становится легче.
– Почему? Для меня месть – это цель. И сейчас, не скрываю, главная. Я мечтаю отмстить! Пусть мечтать об этом греховно… – Глаза ее сузились и стали клинками. – Я ищу кару для Парамошина. Она не исцелит меня, но, по крайней мере, я не взорвусь…
– «Либерализм к преступникам есть худший вид пренебрежения к честным людям». Так сказал один из мудрых юристов. «Доброта ко злу – это зло». Так сказал другой знаменитый.
Маша видела, что Митя к встрече готовился тщательно. И не только как следователь… На нем был модный костюм и не вполне рядовая рубашка, под цвет которой пристроился галстук. Они, конечно, не могли состязаться с лихостью парамошинских одеяний, но очень уж отличались от потертой куртки и брюк с искусно вмонтированной заплаткой. «Неужто и он? Так необычен… А в этом как все? – всполошилась она. – И эти цитаты… И заикается сегодня гораздо заметней».
Митя достал ученическую тетрадь не из прежнего потрепанного портфеля, а из претенциозно загримированного под кожу кейса. Тетрадь расположилась уже не на коленях, как прежде, а на столе. Маша догадалась, что лично Мите принадлежала лишь та тетрадка, а все остальное было чьим-то чужим. Пиджачные рукава для долговязого Мити оказались коротковаты, а для его тонкой шеи воротник рубашки оказался широковат – и шея смущенно нащупывала его берега. Белая голова еще резче контрастировала с тридцатилетним лицом.
– Парамошин говорил, что готов за вас умереть? Я верю: за вас можно.
– Лучше уж ради меня вы, Митя… живите.
– Мы с вами почти одногодки, – сообщил он.
– У души, Митя, свой возраст. Для моей наступила старость.
Он не стал Машу разубеждать. Не принялся уговаривать, что она на свою душу клевещет, а разъяснил:
– Ничего такого я не имею в виду. Не дай Бог, не подумайте. Просто хотел, чтобы вы знали: за вас можно умереть.
Он заикался все очевиднее.
Да и беседу свою переместил с медицинской «госдачи» не в комнату следственного управления, а в осиротевшую профессорскую квартиру: «Здесь я лучше разберусь в ситуации». Со стен по-прежнему взирала первая жена Алексея Борисовича… Хвою фотографию Маша допустила лишь на профессорский стол. «Отношение к разным женам не может быть одинаковым, – как-то сказала она мужу. – Мы ведь пришли к тебе в разные времена. Всему и всем – свое место. Женам, я думаю, тоже…»
– Алексей Борисович спас Парамошина. Это я установил, проверил по документам. Не вас проверил, а факт. Простите, профессия…
– Не извиняйтесь: у меня мама юрист-защитница. Адвокат… И я знаю.
При упоминании о Машиной маме Митя, ничего не объясняя, с воспоминательной грустью вздохнул. «Может, он замыслил в своем новом наряде представиться маме? Но с какой целью? Выглядит как жених…»
– Алексей Борисович спас… И все же вы Парамошина подозреваете? – перебил Митя Машины предположения.
– Не подозреваю, а настаиваю: убийца – он!
– И не испытываете сомнений?
– Он убил. Я тысячу раз повторю!
Глаза ее вновь стали клинками.
– И можете чем-нибудь существенным подтвердить?
– Узнав от меня, что я вышла замуж, Парамошин выпал из кресла. В буквальном смысле. Хотел погрузиться в него, но от потрясения промахнулся – и чуть было не угодил на пол.
– То есть не выпал из кресла, а не попал в него?
Мите все требовалось узнать точно. Чужая одежда этому не мешала.
– Мне почудилось тогда, что клиническая смерть вновь настигла его. Но Парамошин уже знал, как от нее увернуться. И завопил… Не закричал, а именно завопил: «Он оживил меня, чтобы прикончить?! Ты заплатила такую цену за мою жизнь?! Своей жизнью за мою?»
– Я бы за твою не дала и копейки. Как я могла быть столько лет глуха и слепа?
В этой фразе Вадиму почему-то привиделась ностальгия: «Пусть как угодно, но вспоминает о прошлом!» Будто сорвавшись с цепи, он набросился на нее, заграбастал в объятия, попытался пробиться к ее груди, как бывало когда-то… Он «шел» на Машу, как его легендарный дед ходил на медведей.
Она отбросила его от себя и от прошлого с такой непримиримостью, с такой силой, каких он не ждал.
– Ты не изнасилуешь ни мое тело, ни мою душу. А если попытаешься…
– То убьешь меня? За тебя это уже сделал… реаниматолог! Предал свою профессию!
– Ты назвал моего мужа предателем? Повтори…
Парамошин яростно забуксовал, не находя слов.
– «Когда подумаю: кого вы предпочли?»
– Аж Чацкого на помощь призвал? А должен бы цитировать Скалозуба!
Маша, не разжимая кулаков, презрительно поблескивала клинками.
– Опомнись! – продолжал неистовствовать Парамошин.
– Извольте отныне обращаться ко мне, как дворянин Чацкий, от имени которого вы только что высказались, обращался к Софье, только на «вы». И по имени-отчеству!.. Кстати, я похожа на Софью не более, чем вы похожи на дворянина.
С тех пор, чтобы резче подчеркнуть непреодолимость разрыва, она стала упрямей настаивать, чтоб другие называли ее исключительно Машей.
Обо всем этом она поведала следователю, опуская подробности, которые, она чувствовала, были бы ему неприятны. Но Митя с еле уловимым оттенком ревности сам поинтересовался:
– Что еще он себе позволил?
– Если б у Парамошина сохранилась хоть микроскопическая возможность меня вернуть, он бы действовал более аргументированно и пристойно. Но уже было поздно. И вдруг… В той ситуации, для него безысходной, он стал, представьте себе, просить, нет, молить, чтобы мы продолжили прежние отношения. Как будто ничего не произошло… В беспорядочном поиске убедительных фраз он посмел выкрикнуть: «Теперь мы будем на равных: ты – замужем, я женат!»
Митя вспыхнул, словно то предложение в чем-то угрожало ему. Или его оскорбило.
– А чем вы, простите, что вмешиваюсь, ответили?
– Оплеухами…
Митина шариковая ручка удовлетворенно это зафиксировала.
– Сколько их было, пощечин?
– Две. По одной на каждую щеку.
– А он, если не секрет, как реагировал?
– «За какого-то заморыша выскочила!» А я, виню себя, зачем-то ему отвечала: Пушкин и Михаил Иванович Глинка вашим атлетизмом, Вадим Степанович, тоже не отличались.
– А он? И что еще он себе позволил?
– Да все то же самое: «За кого выскочила?» Я пыталась в самом деле выскочить… только из кабинета. Но он удержал.
– Грубо удержал? – Ревнивая тревога Митю не оставляла.
– Нет… униженно, умоляюще. Пересек мне дорогу.
– Каким образом?
– Собою. Брякнулся на колени.
– Прямо там, в кабинете?
– Он и прежде там не раз плакал. Сотрясался плечами, утирался платком.
– Парамошин?! Потомственный северянин?
– Он – личность, Митя. Надо признать. Чем такая личность значительней, тем страшнее. Вадим Степанович, к счастью, не столь уж значителен!
– И все-таки… плачущий Парамошин?
– Любовь, Митя, не подчиняется ни характеру, ни месту рождения… Вадим умеет люто ненавидеть, но и люто любить. То и другое он совершает безнравственно. Иногда подло… Мужа моего ненавидел звериной ненавистью. А меня так же зверино любил.
– В прошедшем времени? – с оттенком надежды поинтересовался Митя.
– Думаю, продолжает… Самонадеянно звучит, да? Но вам, следователю, я обязана рассказывать все, как есть.
– Разрешите, я вернусь к началу нашего разговора. Обещал ли Парамошин Алексея Борисовича…
– Обещал. Убить обещал!
– Реаниматолога? Который его оживил?
К Мите тянулись, внешне определяя его, эпитеты «порядочный», «изможденный», «настойчивый». Эпитеты эти с трудом выстраивались через запятую один за другим, почти как слова о студентах, один из которых шел «в пальто», а другой – «в университет». Но тем не менее они вполне совмещались, не были беглыми и случайными. Ибо порядочность и тактичность, не изменяющие ни при каких обстоятельствах, вели к физической изможденности, но и неуступчивости, если речь шла о достижении праведной цели. К нервному истощению вело неукротимое стремление восстанавливать истину и соединять – при разнузданной государственной власти! – порядочность с предназначением следовательской деятельности.
– Чем же тогда все закончилось? Если вы не устали и вам не обременительно вспоминать…
– Слов с моей стороны больше не было. Унижала его молчанием.
– А потом покинули кабинет – и все?
– Все и навсегда… – Она обхватила ладонями голову, что хронически теперь делала. – Неужели я его когда-то…
– И он ничего не произнес в ответ на ваше молчание?
– Тогда вот Парамошин маниакально твердил: «Он убил меня… а я уничтожу его!»
– Уничтожу или убью?..
– Разве есть разница?
– Есть.
– Он твердил и то и другое.
– Это было состояние аффекта? Вы, психиатр, могли определить безошибочно.
– Аффект, бесспорно, присутствовал. Но фразы звучали вполне осознанно. Я ухватила в них намерение и даже план действий.
– Увы… любовь, случается, толкает людей на чудовищные поступки, – проговорил Митя, точно и сам опасаясь любви.
– У нас с вами родственные профессии: психиатр обязан быть психологом. И следователь – тоже.
– Чтобы знать, как часто любовные страсти пересекаются с криминальными, достаточно прочитать бессмертные поэмы, трагедии… Но вообще-то вы правы… И больше Парамошин ничего не сказал?
– Произнес самое невообразимое.
– Что дословно… если вы помните? – Митя не отрывался от тетради в клеточку.
Но Маше все чаще казалось, что некоторые его вопросы продиктованы не только интересами следствия, а и тем, что заставило его надеть модный костюм. Она отталкивала от себя эту догадку: «Самомнение… Вообразила себе!»
– Дословно? Он сказал: «Я без тебя снова умру!» И не заплакал, а зарыдал мне вдогонку.
– Вы это увидели?
– Нет, услышала.
Дождавшись, пока она освободит голову от ладоней, Митя стеснительно, но все же спросил:
– Вы рассказали об этом мужу?
– Нет, только маме. Матерей берегут менее других. К сожалению…
– Полина Васильевна и ко мне… проявляла материнские чувства, – не спеша произнес Митя. – Правда, у нее таких сыновей, как я… не сосчитать.
– О чем вы?
– Я вас уморил своими расспросами. Отдохните… Теперь моя очередь кое-что рассказать. Должно же быть равноправие? Если я дерзаю вмешиваться в ваше житие-бытие, вы имеете право знать о моем. Я давно собирался… Так вот… Когда мне было десять лет, а сестре всего-то два с половиной, наших родителей репрессировали. По знаменитому «ленинградскому делу»… Из гибели вашего мужа тоже хотели «дело» состряпать. Но, слава Богу, не получилось. А там состряпали… Времена были иные. Пострашней нынешних. Мама с отцом блокаду ленинградскую вынесли, как говорят, от и до… Тоже пытались спасать от смерти, от голодной, а потому, может, особенно хищной. И врачами тоже были «от Бога». На беду, такими хорошими, что их приблизили, как и мужа вашего, к высочайшему начальству. В те годы положение Алексея Борисовича было бы взрывоопасным.
– Он и сейчас подорвался. Хоть и не из-за «Клятвы Гиппократа», а из-за меня…
– Не судите себя. Невинных нельзя обвинять. Незаконно! Так вот… Оказалось, что мама и отец слишком уж квалифицированно спасали и здоровье «городского комитета обороны», который потом весь был расстрелян. А значит, сберегали «врагов народа». Разве тогда, в блокаду, мои родители, если б и захотели, смогли от «комитета обороны» оборониться?
– «Я спасаю не чины, а людей», – часто повторял мой муж…
– Выяснилось, что вовсе не Гитлер, не Сталин повинны в окружении и страданиях Ленинграда, а мои мама и папа. Мы с сестрой стали сиротами.
– Боже ты мой… – прошептала Маша. – Все это в общем и целом известно, но когда слышишь от самих мучеников…
– У маленькой сестры моей в блокаде обострился костный туберкулез. Ее чуть ли не с рождения приковало к постели… Как мама смогла с ней расстаться? Я в своей теперешней должности многое видел, но не такое. Ну а в ленинградский юридический институт меня принимать категорически отказались: «вражий отпрыск». Однако и в нечеловеческие времена находились люди, остававшиеся людьми. В московском юридическом приемную комиссию возглавляла Полина Васильевна. Вот мы и переехали… Сестра лежала на спине семь с половиной лет. Кажется, стало лучше.
– Удивительно: мама мне о вас ни разу не говорила.
– Она меня и не может помнить: скольких еще вызволила! И не только в результате своего официального адвокатства… Она всюду – защитница.
– А вы возлюбили профессию следователя?
– Я возненавидел ее: следователи сгубили моих родителей. И я вознамерился, по наивности, вероятно… даже на этом поприще отстаивать справедливость. Кстати, Полина Васильевна не должна знать, что я, защищенный ею, веду это следствие.
– Почему?
– Если по совести, я не имею права на это расследование. Слишком многим вашей маме обязан. Но главное, она захочет оказывать мне содействие – опытом, своими советами. И тут уж Парамошин непременно что-то пронюхает. Простите за грубое слово. А коли я привлеку его к уголовной ответственности? Обвиню? Нет, нельзя. – Он призадумался. – Есть и другая причина, по которой я должен бы отойти от этого дела.
– Почему еще вы должны от меня отказаться?
– Этого не могу… объяснить.
Он заикался уже на каждом слове.
Потом отыскал в пижонистом кейсе коробочку, вынул из нее две пилюли и налил из графина воду.
– Сразу две? – с профессиональным недоумением спросила Маша.
– Иначе не действуют.
– А что у вас?
– Давление. Вроде злокачественное. Так говорят…
– И когда это началось? – точно Митя был у нее на приеме, спросила Маша.
Он отмахнулся:
– Давление – это нормально: вся жизнь давит. Злокачественно…
– Если это вообще жизнь. А тут и я вам… на голову!
– Голова в этом случае ни при чем, – словно посочувствовал себе Митя. – Давайте лучше про вашу маму… Вечно она о ком-то и о чем-то пеклась. Даже о парамошинском заведении. Чтобы все юридически было в порядке. Раз там работает дочь!
– Вам и это известно? Почему ж вы молчали?
– Молчать – одна из неприятных обязанностей моей должности. – Митя записывать перестал. – Как Полина Васильевна перенесла горе?
– Я сказала, что муж мой внезапно скончался от сердечного приступа, а что все остальное – сплетни.
– Пусть так и думает, – согласился Митя.
– Ночью сердечный приступ, который в действительности не случился с моим мужем, случился с мамой. Диагнозом был инфаркт. Правда, со знаком вопроса в скобках… И это вдобавок к другим ее… катастрофическим хворям!
– Каким, если не тайна?
– Тайна. Даже для следователя.
– Тогда извините.
– Судьба в этот раз надо мной смилостивилась – и удовлетворилась маминой стенокардией. Инфаркт не подтвердился… Но на похороны я ее не пустила. Она мои просьбы неукоснительно выполняет. С малолетства ни в чем не отказывает!
– Весьма редкий случай.
– Если кто-нибудь объявлял это непедагогичным, мама объясняла: «Взрослая жизнь ухитрится отказывать нашим дочкам и сыновьям на каждом шагу. Пусть хоть в детстве не натыкаются на плотины!» Она любила, уважала… и даже почитала моего мужа. Зачем же ей было… на кладбище? Чтоб слышать там перешептывания, намеки? Какая для нее разница, по какой он причине погиб? Зачем эта новая боль? Она же никогда не приносила мне боли, а лишь от нее избавляла.
– Боль выяснений и уточнений приношу людям я, – сказал Митя. – Такова моя служба. Весьма изнурительная.
– Я видела ваши таблетки…








