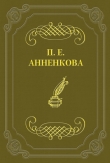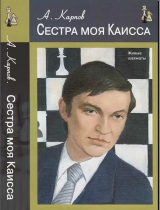
Текст книги "Сестра моя Каисса"
Автор книги: Анатолий Карпов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Но нет худа без добра. Как раз в это же время организаторы турнира в Каракасе (он назывался Кубком президента, потому что курировался самим президентом и соответственно был обеспечен; я уже упоминал об этом турнире в начале главы) пытались уломать наш спорткомитет – им хотелось заполучить к себе Спасского и Петросяна. В Венесуэле никто из наших шахматистов не бывал; какие там условия – представления не имели; короче: ставить на темную лошадку корифеи отказались наотрез. Тогда организаторы запросили Леонида Штейна и меня – чемпиона страны и чемпиона мира среди юношей. Наши чиновники опять отказали: им просто не хотелось заниматься этим. И только личное вмешательство президента Венесуэлы, который позвонил нашему премьеру Косыгину, сломало косность. Вопрос решился мгновенно. Турнир вот-вот должен был начаться, поэтому нас со Штейном почти без оформления буквально затолкали в самолет чуть ли не на первый же подходящий рейс. Все документы, в том числе и визы, догнали нас только в Париже.
Будь у меня побольше опыта, этот турнир я мог бы выиграть. Долго лидировал, чувство опасности притупилось – и я отдал Ивкову совершенно выигранную партию. Это потрясло меня настолько, что я «поплыл», стал пропускать удары и только к концу опять поймал свою игру. Срыв стоил мне не только победы, но и призового места. Впрочем, цель была достигнута: норму я выполнил и стал самым молодым гроссмейстером в мире.
А тут и у Фурмана наметились перемены: между ним и Корчным произошел разлад.
Поссориться с Семеном Абрамовичем было непросто. Мягкий, обходительный, по-житейски мудрый, ссоре он обычно предпочитал компромисс. Нужно было быть Корчным, чтобы вынудить Фурмана решиться на конфликт.
Это случилось перед полуфинальным претендентским матчем.
В четвертьфинале (он игрался в Амстердаме, куда Фурман сопровождал Корчного) был разгромлен шахматный ветеран Решевский. Следующий матч предстояло играть с Геллером. Геллер, как и Фурман, был в армейском клубе, и Семен Абрамович, предельно щепетильный в вопросах нравственности, решил, что это обстоятельство не позволяет ему секундировать Корчному в их матче.
«С одноклубником я могу бороться только лично, непосредственно, только за доской, – сказал он. – Иначе я буду неправильно понят. Кроме того, с Геллером мы неоднократно работали вместе, я знаю его заготовки – и это тем более не позволяет мне помогать его сопернику. Короче говоря, альтернативы этому решению нет – репутация мне дороже любых успехов».
Как взбеленился Корчной!.. Резоны Фурмана он считал просто смехотворными. «Напротив! – говорил он. – Это же большая удача, Сема, что тебе известна шахматная кухня Геллера: тем легче будет его победить! А победителей не судят».
Нельзя сказать, что для Фурмана это было неожиданностью – он знал Корчного. Он уважал Корчного-шахматиста и потому терпел человека. Но теперь дело коснулось не морального облика Корчного, а его собственной – Фурмана – совести. И он твердо сказал: «Нет. – А потом добавил: – Не сомневайся – ты сильнее Геллера, ты и так его обыграешь, без моей помощи. А затем я снова к тебе вернусь, и мы продолжим работу, будем вместе готовиться к финальному матчу».
Но Корчной и слышать ничего не хотел, и пошел на вовсе беспрецедентный шаг: начал давить на Фурмана через прессу и телевидение. Есть у Корчного такая слабина – вера в силу общественного мнения. Ясно, что эффект этой акции получился прямо противоположным: Фурман с ним расстался. Не разругался – Семен Абрамович этого не любил и не умел, – он просто сказал: «Виктор, пожалуйста, больше никогда не обращайся ко мне за помощью».
Уверен, в любом другом случае Корчной в порошок растер бы все, что связывает его с человеком, который отказался ему помогать. Здесь этого не произошло по единственной причине: в глубине души Корчной продолжал надеяться, что Фурман – если ему предложить интересную работу, скажем в матче с Фишером, – еще сменит гнев на милость. Как известно, такого матча не случилось, да и я не терял времени даром: обнаружив, что место возле Фурмана свободно, я тут же постарался его занять. Даже переехал в Ленинград. И перевелся из московского университета в ленинградский. Впрочем, уйти из МГУ мне пришлось бы все равно. Как это часто бывает, события сошлись одно к одному. Думаешь, что поступаешь по собственной воле, а на самом деле – под диктовку обстоятельств.
Причин было две.
Одна – во мне самом, другая – внешняя.
Первая: проучившись год, я понял, что стою перед выбором: либо математика, либо шахматы. Совмещение оказалось невозможным; точнее, совмещение могло получиться, если заниматься и тем и другим вполсилы. Но тогда в шахматах ничего не достигнешь, а уж в математике и подавно. Кроме того, математика увлекала меня все меньше, нравилась уже не так, как в школе; скорее всего – потому, что я уже не мог отдаться ей полностью. Пришлось поставить вопрос прямо: без чего я не могу жить? И я ответил сразу, не колеблясь: без шахмат.
Вторая – внешняя причина – заключалась в том, что руководство студенческого клуба решило меня заполучить и предложило перейти к ним от армейцев. Я даже не стал интересоваться их ценой. Нет – и все. На меня стали жать – я стоял на своем. Тогда мне сказали: раз ты такой упрямый, пеняй на себя. И вскоре я ощутил, как эта угроза превращается в реальность. Преподаватели стали придираться по любому пустяку; если я хотел сдать зачет или экзамен досрочно (чтобы без «хвостов» уехать на турнир), мне отказывали…
Плод созрел. Чтобы упасть – достаточно было малейшего толчка. Его не пришлось ждать долго.
Новый год я приехал встречать в Ленинград. И вот в один из этих дней у Корчного познакомился с его другом детства – профессором Лавровым. Слово за слово – я рассказал и об охлаждении к математике, и о травле, устроенной мне в МГУ.
– Так нельзя, – решительно заявил профессор. – Так вас надолго не хватит – сгорите от неудовлетворенности и отрицательных эмоций. Жить нужно свободно и с удовольствием.
– Что же мне делать? – спросил я.
– А вы к нам переходите. Гарантирую режим наибольшего благоприятствования. Только ведь математика у нас та же самая, от перемены места она не станет другой…
Я уже думал об этом.
– Вот если б можно было перейти на экономический факультет…
Оказалось можно.
Самое забавное, что некоторое участие в моем переезде в Ленинград принял Корчной. Причину его доброжелательности понять нетрудно: он не принимал меня всерьез. Ему и в голову не приходило, что в ближайшие годы я могу стать его конкурентом. Слепота, вызванная самовлюбленностью? Пожалуй. Но и поразительно слабое для игрока такого класса чувство опасности.
КОММЕНТАРИЙ И. АКИМОВА
Фурман занял в жизни Карпова такое место, что будет лишь справедливо, если мы уделим ему особое внимание.
Коллеги оценивают его единодушно. И как шахматиста, и как тренера, и как человека. Оценивают высоко. Но вот что удивительно: в этих оценках – очень искренних – есть какой-то внутренний стопор. Нет безоглядности, нет свободы. Словно у каждого под спудом живет мысль, что Фурман – человек действительно достойнейший, заслуживающий любые добрые слова, – на самом деле был мельче той роли, которую уготовила ему судьба. Потому что, не будь в его жизни Карпова, кто б о нем вспомнил сегодня?..
Шахматист он был – если честно – не блестящий. Книжный, выученный, берущий потом, а не полетом. В его спортивной биографии нет ни одной яркой, вошедшей в шахматную историю, даже просто запомнившейся турнирной победы.
Тренер… тренер был знающий, грамотный, трудолюбивый. В его арсенале хранилось множество оригинальных разработок. Но разве мало было и есть шахматных тренеров, о которых можно слово в слово сказать то же самое? Как-то даже неловко получается: хвалим специалиста за то, что он хороший исполнитель своего дела. А как же иначе?
Наконец – человек… Вот человеческие качества действительно выделяли Фурмана. Среди честолюбивых и тщеславных коллег, среди зависти и двурушничества, среди политиканов и прощелыг, не брезгующих выклянчить, а то и походя стянуть идейку, – он оказался человеком не от мира сего. Добрый – вот что прежде всего бросалось в глаза, вот что сразу отличало. Удивительная детскость и чистота. Отзывчивость. Безотказность. И как варианты: готовность понять, войти в положение, готовность подставить под чужой груз свое плечо.
Но хороший человек – это не профессия. Значит, не только в этом дело. Значит, что-то в нем было и помимо! – что-то такое, в чем Бронштейн и Ботвинник, Петросян и Корчной испытывали дефицит.
Очевидно, речь идет не о шахматной информации – ею в более или менее равной степени владеют шахматные специалисты. И не о душевных качествах: названные корифеи были прагматиками, они ждали от тренера каких-то конкретных вещей, которые могут реализоваться в победу.
Видимо, Фурман обладал особым взглядом на шахматы, взглядом со стороны (или «сверху», как сказал Карпов), взглядом, который раскрывал сущность позиции или проблемы; взглядом качественно новым. Он сразу поднимал всю работу на порядок выше.
Потому что он был философом.
Впрочем, я убежден, что никто из шахматистов даже не задумывался об этом. Они воспринимали Фурмана как данность, как полезный катализатор в их работе. И только.
Самого же Фурмана внешний мир не занимал. Настоящая жизнь – интересная, загадочная, непредсказуемая, глубокая, наполненная смыслом, – была только в шахматах. Он сделал себе из них раковину и жил в ней, как дома. И потому, делясь вроде бы частностями, Фурман давал так много. Каждая из таких частностей была элементом огромного целого, и берущие ощущали энергию этого целого. Именно благодаря этой энергии черенок подаренной мысли приживался на любой почве и шел в рост. Этим и отличались советы Фурмана: незаметной в первый момент, но вскоре раскрывающейся животворностью.
По складу души и характера Фурман не был склонен к внешним эффектам. Правда, увлеченный спортивным ажиотажем, в атмосфере которого он жил, Фурман время от времени испытывал судьбу в турнирах. И напрасно. Внешний успех ему не давался. Кроме того, спортивный успех, необходимость снова и снова побеждать непременно вытянули бы Фурмана из раковины. Как много при этом он бы выиграл – трудно сказать, а вот за то, что проиграл бы немало, – можно поручиться наверняка. Потому что изменил бы своей природе. Фурман старался не думать об этом, но инстинкт самосохранения срабатывал помимо сознания.
Игрок воплощает игру, реализует ее. Фурмана привлекало иное: он следил законы игры. Не изучал их – для этого нужно быть исследователем, аналитиком, чего за Фурманом не водилось. Он именно следил. Наблюдал, как они работают. И целью этих наблюдений были не аналитические открытия, а впечатления. Затем впечатления, собираясь, сгущаясь, материализовались в мысли. Те самые мысли, за которые Фурмана и ценили его подопечные. Но сам он впечатления ставил выше. За непосредственность. За первозданность. За неисчерпаемость каждого из них.
Обучал ли он Карпова? Вот уж нет. Учить Карпова было поздно, переучивать – незачем. И Фурман с ним беседовал, Фурман ему показывал, как можно видеть и понимать происходящее на шахматной доске дальше, шире, объемней.
Выходит, это была наука позиционной игры.
То, что для Карпова было естественным, то, в чем воплощалась его сущность, к чему он пришел сам – хотя и не осознавал этого, – теперь раскладывалось по полочкам, обретало костяк и связи, прозрачность и предсказуемость.
То, что раньше только чувствовалось, теперь – понималось.
Фурман уверенно вел подопечного от дилетантизма к ремеслу, чтобы на этом фундаменте Карпов смог подняться до искусства. При этом был риск высушить игру, потерять непосредственность. Но тут уж оставалось надеяться на «консерватизм» Карпова и педагогический дар Фурмана. Дар, позволивший реализовать этот процесс без ущерба для личности: это была не формовка, а развитие.
Забавнее всего, что сам Фурман не осознавал истинной природы этого процесса. Существует его высказывание, часто цитируемое, что ему именно потому было интересно работать с Карповым, что он впервые в своей практике встретился не с «готовым» шахматистом, а с сырым материалом, из которого мог лепить по своему усмотрению. Это обычная ошибка, продиктованная невероятным, неожиданным успехом и необходимостью себе и другим его объяснить доступно, предельно просто.
В этой истории сердце Фурмана (его естество) оказалось умнее его головы. Успех пришел естественно, и нужно было бы набраться смелости, чтобы назвать вещи своими именами. Мол, мальчик шел к вершине прямо, а я старался ему не мешать; ну а когда он меня о чем-то спрашивал, – я говорил, что по этому поводу думаю.
Это была бы правда и высший образец тренерского искусства, но даже Фурман – все делая правильно – не сознавал смысла процесса. Иными словами: интуиция вела Фурмана безошибочно, но когда потребовалось это расшифровать, он все опошлил. Талантливую работу объяснил набором банальностей. К счастью – уже задним числом.
Никто не заглядывал Фурману через плечо, никто, кроме Карпова, его не слышал, и потому наш общий с Карповым друг Леонид Бараев предпринял попытку реконструировать процесс их совместной работы.
Бараев считает, что влюбленный в шахматную красоту, очарованный ею, Фурман водил своего ученика от шедевра к шедевру, как по бесконечной картинной галерее.
– Ты погляди, Толя, до чего живописная позиция!
У Чигорина такой не найдешь. У него все было связано в узлы. В этом месте – вот так; и в этом – вот так. С болью, с насилием, с давлением на психику. Значит – опровержимо при хорошем анализе. А здесь, погляди, прозрачность и чистота. Какие линии! Все соединено, ничто не накладывается и уж тем более не надо распутывать. Представь себе! – это ныне забытый Рубинштейн. Как бы здесь пошел ты?
– Ладьей на d4.
– Ты знаешь эту партию?
– Нет, но с четвертой горизонтали партнер меня не ждет.
– Замечательно, Толя. Но может, все же поглядим у как он провел эту атаку? Просто и неотразимо. И очень поучительно!.. А вот еще любопытный случай. Стандартная поза. Не живопись, а олеография. Напрашивается естественное: ладья f1 на d1. Но Шлехтер здесь играет ладьей a1 на c1. Почему? – ведь линия «c» перегружена… Смотрим комментарий. Оказывается Шлехтер считал, что через пять-семь ходов она откроется. Вот какой подтекст! И именно этот подтекст сообщает дополнительный заряд его последующим ходам.
– Эта линия не откроется, – говорит Карпов.
– Ты уже видел эту партию?
– Нет, но я вижу, что она не откроется.
– Ты прав, Толя, она действительно не открылась. Причем до конца партии: соперник постарался, чтобы этот ход оказался напрасным. Поставим Шлехтеру за это минус?
– Не стоит.
– Отчего же?
– Мне кажется, у этого хода был совсем иной подтекст: он провоцировал нужные Шлехтеру ответные действия. Давайте поглядим, как было в партии.
– Так и было! – радостно смеялся Фурман и передвигал фигуры, показывая, как этот ход приводил в движение доселе уравновешенные чаши шахматных весов.
Вот так они коротали время.
Это было не учебой, не натаскиванием, тем более – не жестким тренингом. То, что происходило между ними, можно назвать общением. Общением шахматного мудреца, шахматного философа, шахматного эпикурейца (а таким он был всегда и десять, и двадцать лет назад) с молодым коллегой.
Фурман даже в пору наивысших спортивных успехов играл хуже Карпова – вот почему он не имел морального права учить Карпова игре. Но шахматную красоту он чувствовал не хуже, а в понимании глубины и смысла был далеко впереди. Да, он ставил Карпову дебюты. Но как? Находя в каждом дебюте то, что было Карпову – именно Карпову! – близко, что тот ассимилировал сразу. Да, он сделал игру Карпова более лаконичной, предельно экономной. Но как? Показав ему: Толя, вот это у тебя не твое, это – от моды, а это – от желания понравиться. Зачем тебе все эти фигли-мигли? Ведь ты другой. Ты график, а не живописец. И если мы добьемся, чтобы каждая твоя линия была видна, чтобы каждая твоя линия была чиста, чтобы каждая была предельно лаконична, аккумулируя при этом в себе максимум энергии, – вот увидишь, публика будет стоять именно перед твоей гравюрой, не обращая внимания на развешанную вокруг пышную, кричащую живопись.
Да, рука Фурмана чувствовалась не только в постановке партии, ной в трактовке типичных позиций, даже в отдельных, «тихих» ходах. Но это была рука, которая локтем своего старенького пиджака стерла лак и позолоту, чтоб открылась сущность, – сущность карповского видения и карповской манеры действовать. Фурмана можно за что угодно ругать и за что угодно хвалить, но одно абсолютно бесспорно: он ни на йоту не ущемил свободу Карпова и, как умел, поощрял и укреплял его самостоятельность.
И вcе же – что было в Фурмане доминантой? Что определяло его стиль, было мерой и точкой отсчета?
Я полагаю – эпикурейство.
Он жил с удовольствием и для удовольствия. Он выбрал шахматы не как дело – ну какое же это дело! – а как времяпровождение. Шахматы давали пищу его уму. Шахматы были пристанищем его души. Шахматы удовлетворяли его ненасытную потребность в прекрасному успешно заменяя музеи, книги, музыку. Шахматы разменивали его одиночество, неустроенность у неприятности. Шахматы были его зеркалом, помогали познать себя и примиряли с собою. Наконец, шахматы были столь великодушны, что поставляли ему средства на жизнь – не роскошную и даже не очень сытую, но вполне приличную по меркам окружающей среды. Это же как ему повезло! – он получал деньги только за то, что занимался любимыми шахматами… Нет, он не поменял бы свою жизнь ни на что другое, потому что ни в чем другом он бы не смог жить столь естественно и свободноу как в шахматах.
Обыкновенный счастливый человек.
Жизнь по такой модели – не бог весть какая редкость среди шахматистов. Скажу больше: она типична. Но в этом правиле всегда были исключения, а теперь их с каждым годом появляется все больше; возможно, что исключения уже и перевешивают правило. Что делать! – шахматы стали бизнесом, и, чем выгодней и доступней представляется шахматный бизнесу тем больше днище этого корабля облепляют случайные, а то и вовсе чуждые искусству шахмат люди.
Пробившаяся в средние и даже верхние этажи шахматной иерархии посредственность озабочена исключительно материальной стороной, свою неполноценность она вынужденно компенсирует многочасовой каждодневной работой, штудиями, всевозможными ухищрениями во имя успеха. До наслаждений ли ей! Творческую свободу и созерцательность, бескорыстный поиск шахматной красоты она презирает. А ведь прежде только ради этого и уходили в шахматы!..
Истинные шахматы – шахматы дилетантов – это игра во имя удовольствия.
Страсть, азарт, самоутверждение, тщеславие, меркантилизм, прагматизм, деловитость паразитируют на них. Не имея по сути никакого к ним отношения, вся эта дрянь присосалась к шахматам, живет ими, тянет из них соки. Хочется все же надеяться, что гонка за успехом, высушившая и изуродовавшая верхние ветви шахматного дерева, не повлияет серьезно на его здоровье. Это наверху, позабыв первозданные ценности, могут прийти к «смерти шахмат», то есть к шахматам, за которые больше никто не захочет платить. А нашим с вами шахматам не грозит ничего.
И шахматам Фурмана это не грозило – ведь красота бессмертна. И шахматам Карпова тоже.
В заключение хочу возвратиться к тому, с чего был начат этот комментарий. К извинительному тону шахматных специалистов, уверенных, что реальный Фурман был значительно мельче его репутации.
Они не правы – и вот почему. Во-первых, они судили его по себе, а он был другой. У него были другие ценности, другая доминанта, другой взгляд на мир. Во-вторых, они не понимали природу силы Фурмана. Коллеги судили его работу, его стиль, его внутренний мир, его багаж лишь по спортивным результатам его «клиентов». Через игру «клиентов». Они находили «его» планы, «его» постановку партии, «его» ходы и говорили: вот – рука Фурмана. Потому что только так, только на таком – конкретном – уровне они могли его понять. А ведь его природа была совсем иной: Фурман имел счастливую способность растворяться в другом без остатка.
Он был почвой – тем тонким слоем, без которого земля не может родить. Он был катализатором – тем вроде бы нейтральным веществом, которое дает жизнь процессу творения. Он был талантливым человеком, значит, имел особый склад души, когда важен процесс, а не результат, когда важна истина, а не выгода, когда отдавать – это естественнейшая потребность, удовлетворение от которой не может сравниться ни с чем.