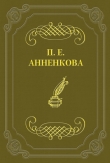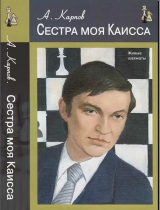
Текст книги "Сестра моя Каисса"
Автор книги: Анатолий Карпов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Четвертая… Вот он, открытый вариант испанки, который, как я считал, должен был стать главным оборонительным оружием Корчного в этом матче! На четырнадцатом ходу он применяет продолжение, забракованное им же в первом томе югославской «Энциклопедии шахматных дебютов». Я опять разобрался, что за этим кроется – и опять ничья.
Свои новинки я пока приберегал. Нужно было втянуться в игру, почувствовать шахматы, себя в них, чтобы новинка была не сама по себе, а частью полнокровной, целостной игры.
Была и еще одна причина, почему я медлил с переходом в наступление: чтобы на качество игры не влияли посторонние факторы, вначале я должен был адаптироваться к психологическому давлению Корчного. А оно велось буквально с первой минуты первой партии, очень изобретательно, в разнообразнейших формах, практически без перерывов. На сцене его вел Корчной, в зрительном зале – его психологи и экстрасенсы, в пресс-центре – Петра Лееверик. От выходок Лееверик (она была неистощима на абсурдные протесты, которыми замучила организаторов и судей) меня старались оградить мои товарищи, потуги экстрасенсов мне были просто забавны, а вот к поведению самого Корчного приспособиться было непросто. Я уже не говорю о зеркальных очках (мало того, что они сами по себе неприятны на глазах человека, которого несколько часов подряд видишь перед собой, Корчной время от времени – когда я думал над ходом – ловчил так повернуться, чтобы световой «зайчик» ползал по доске или колол мне глаза). Сделав ход, он резко вскакивал, иногда специально стоял у меня за спиной, часто поправлял шахматы, судорожно дергал руками, швырял бланк… Что угодно – лишь бы отвлечь меня от шахмат, вывести из равновесия.
…И пятая – ничья.
Ах, эта многострадальная пятая! Она доигрывалась трижды. Я начал ее неудачно, потерял пешку, в домашнем анализе допускал дыры, да и за доской делал непростительные ошибки. Но то ли Бог был на моей стороне, то ли Корчной, ослепленный близкой победой, был недостаточно точен и энергичен. Но я проскочил через мат, а в безнадежном эндшпиле нашел этюдный выход. Когда Корчной это понял и вдруг увидел, что неотвратимая победа растаяла, как мираж, он пришел в неописуемую ярость и, чтобы хоть как-то досадить мне, довел партию до пата. Разумеется, это его право. Когда играют в шахматы во дворе, на пляже или в дружеской компании, – это всего лишь забавный эпизод. В серьезных же шахматах до этого никогда не доводят, как, скажем, и до мата – это одно из проявлений шахматного джентльменского кодекса. Но в этой партии, даже когда всем зрителям стало ясно, что на доске ничья, Корчной упорно продолжал играть, пока не получил права со злорадным видом объявить пат. Я понимаю: не сумев победить, он решил хоть как-то унизить меня, оскорбить, вывести из равновесия. Но мне от этого он показался только жалким, а гроссмейстеры, бывшие на матче, единодушно его осудили. Есть неписанные правила, которые нельзя безнаказанно переступать.
Как известно, от ошибок не застрахован никто. Ведь ошибка – это не обязательно плод глупости; она может появиться, например, как плата за риск или за красоту (за счет простоты), или как результат плохого самочувствия, когда ты объективно не в силах соответствовать меняющимся сложным обстоятельствам. В любом случае – это повод для самопознания, повод, чтобы взглянуть на себя трезво, непредвзято, внести коррекцию в свои действия, а может, и во взгляд на себя.
Я никогда не делал из ошибок трагедию, тем более – не пытался винить в своих ошибках других. Готовность платить за все, что совершил – и доброе, и дурное, – я всегда считал едва ли не важнейшим показателем состояния души.
И к своей игре в пятой партии я именно так и отнесся. Мол, нет худа без добра. Теперь я знал, что выжидательная тактика против Корчного – гибельна; знал, что теоретически он подготовлен очень хорошо, но физически и психологически далек от оптимума. Значит, если отказаться от игры на второй руке, резко увеличить густоту каждого хода, да еще и перенести тяжесть борьбы на последний час игры – Корчной может не выдержать напряжения. А там уж только от меня будет зависеть, смогу ли я использовать его неминуемые ошибки.
Обычный урок; нормальные выводы. Я не сомневался, что и Корчной извлечет какие-то подсказки из пятой партии – уж больно она была поучительна.
Но я ошибся. Видимо, разочарование Корчного было столь велико, что отрицательные эмоции взяли верх над его разумом. Нетрудно представить, как, возвратившись в гостиницу, он снова и снова перебирает партию в памяти ход за ходом, не понимая, как мог вот здесь пойти столь слабо, и здесь выпустить, и там не воспользоваться моей оплошностью… Такая оценка не только бесплодна, она еще и вредна, потому что искажает истинные масштабы, не дает возможности правильно оценить ни себя, ни соперника. Ведь одно дело – домашний анализ в спокойной обстановке, и совсем иное – игра. Во время партии на тебе лежит огромный груз всевозможных обстоятельств, причем тикающие часы – это еще не самая тяжкая ноша. Именно поэтому мы играем в полную силу лишь в те редкие моменты, когда, увлеченные процессом борьбы, сливаемся с партией настолько, что все остальное как бы перестает существовать. Вот почему так важна психологическая подготовка: она снимает с игрока внешахматный груз.
Все это было известно Корчному не хуже, чем мне. Его практический опыт огромен. И достаточно было ему вспомнить сходные эпизоды из своей же практики, как все сразу же стало бы на места.
Но, видать, эмоции взяли верх. В таком случае звучит сакраментальное: «Я не мог так сыграть; находясь в ясном уме, – не мог». А там уж и следующий ход рядом: «Но, если я так сыграл, значит, на мое сознание кто-то воздействовал, кто-то его подавлял…»
Так на авансцене матча появилась проблема моего психолога профессора Зухаря.
Не знаю, кому первому это пришло в голову, но идея его негативного воздействия на Корчного была воспринята в лагере соперника с невероятным энтузиазмом. Самое удивительное, что Корчной искренне в нее уверовал и тем, конечно же, создал самому себе дополнительные трудности: во время игры он теперь не мог не прислушиваться к себе, не мог не думать – мешают ему или нет.
Зухарь не входил в мою группу, но он приехал в составе советской делегации, потому что я рассчитывал на него. Шахматная партия является результатом множества векторов, и среди них психологические – далеко не самые последние. Я это всегда понимал и всегда старался учитывать, но часто получалось совсем не так, как хотелось. Все-таки в шахматах самое главное – сами шахматы, и, когда они меня захватывали целиком, все остальное, естественно, выходило из-под контроля. А между тем нужно следить за своим состоянием и за состоянием соперника, чтобы вовремя (если внешахматные обстоятельства начнут влиять на игру) внести в свои действия коррективы. Именно в этом я рассчитывал на Зухаря – на его совет и подсказку, если я из-за своей занятости шахматами что-то упущу.
Был у меня на Зухаря и конкретный расчет. Матч предстоял длинный; как ни готовься, в какой-то момент утомление догонит непременно; не знаю, как оно действует на других, а у меня при утомлении в первую очередь ухудшается сон, который – и так не раз бывало – при переутомлении пропадает совсем. А Зухарь как раз специалист по сну, это его кусок хлеба. К службе он не был привязан; помочь – готов; так отчего же не воспользоваться любезностью такого полезного человека?
Чтобы получить материал, психолог должен наблюдать. Зухарь выбрал место, которого он мог одинаково хорошо видеть и меня, и Корчного, и там сидел практически не поднимаясь: он очень серьезно отнесся к своей роли. И вот кто-то решил, что он телепатически воздействует на Корчного…
Я понимаю своих противников: если бы не было Зухаря – его нужно было бы выдумать. Уж если они додумались заявить протест по поводу йогурта, который мне приносили во время партии (я практически не пью кофе), то Зухарь был для них золотоносной жилой.
Для журналистов и болельщиков две-три ничьи подряд – независимо от их содержания – уже скука; им только победы или поражения подавай; редко кому интересно качество партий; очко! – вот что понятно каждому, даже если с шахматами он знаком лишь понаслышке. А когда нет побед, любой скандал – уже лекарство от скуки.
Мадам Лееверик повела наступление сразу на всех фронтах: официальные заявления организаторам, жюри и судьям шли одно за другим. (Она требовала либо убрать Зухаря из зала совсем, либо пересадить его подальше, чуть ли не на галерку, – требовала, хотя не имела на это никаких оснований, и официальные лица снова и снова терпеливо это ей разъясняли.) Журналистам это же преподносилось уже в живописных и драматических тонах; наконец, в зале к Зухарю подсаживались и старались отвлечь разговорами, хождением, «нечаянно» толкали. Но он понимал, что ему наносят удары, которые рикошетом должны были бы попадать в меня, и умело гасил эти удары, и нес свой крест с терпением и мужеством.
Шестая – ничья; седьмая – ничья… Чтобы показать, как он относится к присутствию Зухаря, Корчной, едва сделав ход, тут же убегает со сцены. Правда, к концу партий ему становилось не до беготни – приходилось сидеть за доской, не вставая. Не помогло – наконец-то моя победа. Непростая, очень непростая. Я применил давнюю домашнюю заготовку; Корчной задумался минут на сорок. Надо сказать, что в этом матче, встретившись с неожиданностью в дебюте, он искал продолжение не сильнейшее, а такое, какое мы не могли бы, с его точки зрения, подготовить дома. И вот через сорок минут он делает ход, который мы не предугадали. У меня в тот момент состояние было довольно противным: заранее подготовить новинку, застать ею врасплох – и не предусмотреть первый же ответный ход…
Первые четверть часа я потратил на то, чтобы оправиться от этого психологического удара. Потом успокоился. Моя позиция все равно лучше; есть жертва пешки – очень перспективная… Подумал – и пожертвовал. Соперник жертву принял. Тогда я стал давить, пока дело не кончилось чистым матом на доске.
И опять пошла волна: разве это Карпов выиграл? Это Корчной проиграл из-за воздействия Зухаря!..
Победа принесла удовлетворение – все-таки мне удалось красиво это проделать! – но не сняла напряжения, которое нарастало во мне с каждым днем. Я не мог освободиться от ощущения неустойчивости, ощущения колеблющихся весов. Победа – хорошо, но ведь предстояло еще пять раз победить! – и, если каждая будет, как эта, из восьми партий… Игру нужно было ломать более решительно, но пока не был готов к этому.
И в десятой партии это сказалось. В открытом варианте испанки я применил новинку, связанную с жертвой фигуры – 11.Kg5!. (Журналисты приписали ее авторство Михаилу Талю, но справедливость требует назвать истинного автора – моего секунданта Игоря Зайцева.) Корчной выдержал этот тяжелейший удар, защищался блестяще, а вот я использовал далеко не все свои возможности. Сразу не получилось – и я как бы смирился, и не стал искать победу.
Тут бы взять тайм-аут, но я не угадал, отправился на игру. Не играл – присутствовал на сцене. Вроде бы все делал правильно, по науке, но без энергии, без попыток слиться с позицией, чтобы постичь ее суть. Все вроде бы видел, но выбирал только «крепкие», «надежные» ходы. Когда видел комбинации – обходил их, ощущая, что не то у меня состояние, чтобы наполнить эти комбинации жизнью. А потом и вовсе куда-то провалился. Стал пропускать один за другим удары, причем принимал их с такой несвойственной мне покорностью, что, когда увидел, что пора останавливать часы, испытал нечто похожее на облегчение. Кончилась эта мука, это тупое сидение за доской.
Тайм-аут, который я все же взял после этого, не принес облегчения. Все нужно делать вовремя! Отдохни я при первых же признаках утомления (первым пропадает аппетит к игре), может, мне бы и хватило двух-трех дней, чтобы ощутить себя в норме. Отдых не принес мне облегчения. Идя на следующую партию, я не чувствовал не только азарта, но и обыкновенного желания играть. Уговаривать себя: соберись! ты должен! – не самый лучший выход. Я понимаю, когда спортсмен собирается на прыжок, на подход к штанге – на разовое усилие; а собраться на пятичасовое предельное интеллектуальное усилие… Кто верит в это – занимается самообманом. В шахматы играть трудно, но хорошо в них играть можно только легко, естественно, чтобы не выжимать из себя ходы, чтобы игра лилась из тебя, как песня.
Короче говоря, следующую партию я как-то отсидел. Если бы Корчной понял мое состояние – мне бы несдобровать. Но я удачно имитировал желание немедленно реваншироваться, собранность, уверенность и напор, он думал только об одном: сдержать меня, уравнять партию, и, когда добился этого, не скрывал удовлетворения.
Пронесло…
Но я знал, что это только отсрочка. Кризис не мог длиться вечно. Напряжение вот-вот должно было достичь точки, когда произойдет взрыв. А там либо перекристаллизация и взлет к новому качеству (к себе! к себе, очистившемуся от выгоревшей в огне усталости), либо… неблагодарный труд по собиранию себя из кусочков, по восстановлению своей целостности. Делать это по ходу матча, противостоя безудержному напору Корчного… Лучше совсем не думать, что придется, быть может, пройти через такое. Потому что воображать такое куда тяжелей, чем делать. Ведь действуя, добиваясь маленьких успехов, о которых, кроме тебя, никто не знает, все-таки укрепляешься ими, подпитываешь надежду. А страх, рожденный переживанием возможной неудачи, опасней самого жестокого реального поражения.
Перелом произошел в тринадцатой партии. Ни до, ни после – в процессе. Во время игры. Я сел за столик в одном качестве, поднялся из-за него – в другом. Причем перелом я ощутил не в тот момент, когда ломалось, а после, уже задним числом, когда уже все произошло, – и я вдруг понял, что вижу все окружающее другими, прежними, докризисными глазами: все вокруг было ярко, отчетливо, интересно. И как закончится эта партия, – мне вдруг стало очень интересно. А уж, что в следующей я сыграю хорошо, в полную силу, – у меня и вовсе не было сомнений.
Вот так вдруг. Мотало, мотало где-то в омуте, на самом дне – и вдруг выбросило на поверхность. Молодец, что хватило мужества вытерпеть, не ломать себя, отдаться течению, похвалил я себя. Кстати, наступление кризиса Зухарь прозевал, и отчего он случился, тоже не смог разобраться. Он видел: происходит что-то ненормальное и пытался залезть мне в душу с помощью психоанализа, но я этого не люблю и потому пресек сразу. Сон пока был нормальным, значит, его время еще не пришло.
А началась тринадцатая, как и предыдущие. Я играл без желания, отстранение, словно партия была отделена от меня стеклом. Вроде бы все делал правильно – но все время чуть-чуть опаздывал. Причем замечал это задним числом. Крохи опозданий складывались, я все заметней не поспевал за мыслью соперника… И вдруг словно проснулся. И увидел ситуацию как бы со стороны – свое покорное ожидание, когда мне забьют еще один гол…
Исправлять положение было поздно, вернее – почти поздно. Почти – только потому, что у Корчного был уже цейтнот. Я решил воспользоваться этим, неожиданно для него поломал игру, раскрыл своего короля и пустился во все тяжкие. Корчной этого не ожидал, замешкался, и я использовал ослабление его пресса на все сто процентов: стал быстро-быстро вылезать из-под пресса, почти вылез… Партия была отложена, конечно, в скверной для меня позиции, но не без шансов спастись.
Как вы понимаете, и этот рывок на финише партии, и этот оптимизм были продиктованы моим новым состоянием, и Корчной был первым, кто его почувствовал, и потому долго раздумывал, какой ход записать, все не решался… Ведь он уже знал, что доигрывать ему придется с новым человеком, и он должен был учитывать не только особенности позиции, но и мою вероятную трактовку ее.
При анализе я убедился, что у меня есть шансы спастись, но не более чем шансы. Но я уже без страха смотрел в глаза вероятному проигрышу. Во-первых, думал я, мы еще поборемся, а во-вторых, в следующей партии я ему сам покажу, как у меня поставлен удар.
Итак, я был готов к самому неприятному доигрыванию – и вдруг Корчной берет тайм-аут. Значит, пока не нашел ясного пути к выигрышу и хочет это сделать наверняка. Ладно. Он себя убеждает, что тайм-аут продиктован производственной необходимостью, а я чувствую, что дело в другом: в нем проклюнулась неуверенность. Значит, начинает сдавать…
Доска, на которой мы раскачивались, резко пришла в движение. Я летел вверх, он падал вниз. Но пока никто, кроме меня и Корчного, этого не знал.
Четырнадцатую партию я провел в лучших своих традициях. В дебюте – новинка, затем, используя полученную инициативу, – неспешная, точная, подводная игра, отбирающая поля у его фигур, обрекающая его на томительное состояние ожидания, где и когда я ударю; и наконец – под занавес – получите смертельный укол. Партия тоже была отложена, но сомнений в ее исходе не было.
И вот доигрывание. Ладно, думаю, одну проиграю, другую выиграю, но инициатива уже моя, я ее не выпущу, так что все прекрасно складывается.
Но сел доигрывать четырнадцатую в боевом настрое. Как звучало в фильмах моего детства, на которых я был воспитан: русские не сдаются! Я опять рассчитывал на цейтнот. У меня было много времени, у Корчного – мизер, но я не стал гнать лошадей, решил его немножко помучить. Когда сделали очевидные ходы – перестал играть. Ведь у меня было в запасе целых сорок минут против его полутора. И минут десять из этих сорока я потратил просто так – ни на что: пусть потерзается. Потом четверть часа считал (у меня была на примете непритязательная ловушка, я на нее не очень рассчитывал, но – чего не бывает! – решил соперника подвести к ней: а вдруг впопыхах поверит блефу). Корчной видит, что я что-то знаю и готовлю – и сам впился в доску, буквально грызет ее взглядом. Потом я не спеша пошел – он мгновенно отвечает, я опять не спешу – он не тянет с ответом ни секунды; я делаю вид, что нападаю на пешку; он чует: что-то не то, но времени нет, секунды бегут… он задергался – и защитил пешку ферзем. И тут же мышеловка захлопнулась: ферзь оказался пойманным.
Вместо победы – поражение… Корчной был потрясен. Ведь через полчаса предстояло второе доигрывание – и второе поражение подряд… Я думал, что на второе доигрывание он не пойдет, но он вышел, вероятно, чтобы показать, что спокойно принимает удар судьбы. Он даже улыбался. Могу представить, чего ему стоила эта улыбка.
3:1
Не было ни гроша, да вдруг алтын.
Как дальше ставить игру?
Если рассуждать, как у нас говорят, по-простому, по-рабочему, следовало воспользоваться тем, что соперник дрогнул и потерял равновесие, и давить, давить – добивать… Но были два обстоятельства, которые нельзя было не учитывать. Первое: новая ситуация в матче и для меня была неожиданной; мне нужно было вжиться в нее, освоить ее – подтянуть тылы, чтобы не зарваться. Во-вторых, не следует забывать, что действие равно противодействию; если одних удары судьбы повергают, то других – закаляют, мобилизуют, заставляют действовать на пределе их возможностей; и Корчной – насколько я его знаю – относится именно к этой категории.
Поэтому я не стал форсировать события, продолжал играть как ни в чем не бывало, уверенный, что поднимающаяся во мне волна сметет соперника своей логической силой.
Так и случилось в семнадцатой партии. В ней ничто не предвещало ярких событий. Защита Нимцовича. Я пожертвовал – и мое положение стало получше; но промедлил – и получше стало у Корчного. Я видел, как он воодушевлялся, наращивая преимущество, обкладывая мою позицию, нанося все более тяжелые удары, но – повторяю – во мне была такая уверенность, что мне были почти безразличны и его настрой, и его действия. В таком состоянии невозможно проиграть, потому что тебе открыта сама суть игры, и ты делаешь безошибочные ходы не потому, что все точно посчитал, а потому, что не можешь иначе.
И вот – опять у Корчного сильнейший цейтнот, я чувствую: пора, – бросаю ему на съедение свои пешки, и маленьким мобильным отрядом: два коня с ладьей, поддержанные самим королем, – устремляюсь прямо на короля соперника. Прием древний как мир: в нужный момент в нужном месте нанести удар всеми наличными силами. Он и опомниться не успел, как я ему влепил красивейший мат двумя конями: один конь короля заблокировал, второй – нанес удар. Сколько шахматистов мечтают хоть раз в жизни реализовать нечто подобное на доске! Но чтобы такое в матче на первенство мира…
Вот теперь он сломается, решил я, почему-то забыв, что и в предыдущем матче с Корчным я тоже вел поначалу 3:0, и тоже считал, что матч выигран, а какой тяжкий путь, как выяснилось после этого, мне еще предстояло пройти.
Как описать вторую половину матча? какими словами? Если бы в это время, когда я красиво выиграл, когда я был на подъеме и ощущал, как сила и уверенность с каждым днем все прибывают во мне, – если бы кто-то сказал, что матч продлится еще пятнадцать партий и я растеряю все, что имею: и инициативу, и игру, и даже счет сравняется, и я буду стоять в одном шаге от проигрыша матча… – разве бы я мог поверить во все это? Разве я мог представить, что все это мне придется пережить, причем не единовременно, а растянутое на много ужасных дней?.. Это достойно отдельной книги, глубокого и поучительного психологического исследования. Но я этот урок усвоил плохо. Через шесть лет, играя первый матч с Каспаровым, я допустил те же ошибки, за которые и расплачиваюсь по сей день. Что это – судьба? Плата за консерватизм, диктующий веру в естественность и логику событий? Точного ответа я не знаю до сих пор, из чего следует, во-первых, что во мне еще достаточно сил, чтобы поднимать перчатку, которую снова и снова бросает мне судьба, чтобы снова и снова доказывать верность себе, своей натуре, какой бы – хорошей или плохой – она ни была; и во-вторых, это значит, что мне еще не раз придется доказывать свою способность держать удар. Ну что ж – я готов. И лишь об одном мечтаю: чтобы это испытание было мне интересно как можно дольше. Чтобы тот день, когда я, проснувшись, вдруг решу: да ну их на фиг! надоело все; буду жить, как другие, как все, – чтобы это утро пришло ко мне как можно позже.
Второй половине матча предшествовал перерыв. Корчной сорвался с тормозов, и, раздавая налево и направо интервью, одно скандальнее другого, умчался из Багио в Манилу, и уже там винил меня и организаторов матча во всех смертных грехах и грозился, что матч прервет. Разумеется, я в это не верил. Призовой фонд был достаточно велик, и, чтобы его получить даже в случае проигрыша, Корчной обязан был матч доиграть. Или сдать. Второе было исключено: Корчной – боец. Этого у него не отнимешь.
Мне оставалось одно – ждать.
Над Багио гуляли тайфуны. Скучища страшная. Каждый день неотделим от предыдущего. Я понимал Корчного: он увидел, что я поймал свою игру, и хотел пересидеть эту полосу, заодно сбив меня с ритма и темпа. Я настраивался на философский лад, насколько это возможно, когда ощущаешь, как лучшие твои дни уходят бесплодно, но досада грызла, понемногу делала свое черное дело.
Дипломатические контакты (точнее – игры; даже – торги) с секундантами соперника не прерывались ни на день и закончились забавным обменом: профессора Зухаря на зеркальные очки Корчного. Две болезненные занозы были вырваны из тела матча. Кажется, что еще надо? Только играй…
Но появился Корчной – и с ним двое боевиков из секты «Ананда Марга»: Стивен Двайер и Виктория Шепард.
Я не люблю чертовщины; тем более – сваливать свои неудачи на чертовщину мне кажется просто пошлым. Но столько было разговоров вокруг этих двух террористов, столько раз мои последующие неудачи увязывали с их парапсихологическим воздействием, что я – как мне кажется – просто не имею права обойти эту проблему молчанием.
Если судить непредвзято, последующие две-три недели я был в отличной форме. Я чувствовал в себе силу. Я хорошо видел шахматную доску. Я отлично считал варианты и угадывал замыслы соперника. Я ставил партии уверенно и прочно, и вел их к неотвратимой развязке. Но в самый последний момент со мною происходило нечто необъяснимое – я выпускал игру. В ситуации, когда нужно остановиться, – я продолжал идти вперед; когда нужно было собрать себя в кулак для решающего удара, – я делал спокойные, «полезные ходы»; а то вдруг на меня нападала слепота, и я проходил мимо таких ходов, которые разглядел бы любой перворазрядник. И что самое обидное – все эти чудеса я начинал творить в критические для партии минуты…
И все же, полагаю, главным виновником такой игры был не кто-то со стороны, а я сам. Думаю, все куда проще. Просто я перегорел в ожидании продолжения матча. Просто я уверовал; при таком перевесе и такой отличной форме для быстрого завершения матча достаточно технического исполнения. В который уже раз я прежде времени пережил будущую победу – и мне стало нечем ее наполнить.
Что же до Двайера и Шепард, то их присутствие было куда важней для Корчного, чем для меня. Я-то полагал, что человек со столь критическим умом, как у Корчного, не может принимать все эти оккультные штучки всерьез. «Эта парочка для него – вроде булавки, думал я; он держит их, чтобы покалывать меня, раздражать, отвлекать от игры; я не буду реагировать на них – и это уязвит Корчного почище любой иной моей реакции».
Но несколько лет спустя я выяснил, что все было не так просто. Оказывается, воздействием на меня функции этих умельцев далеко не исчерпывались. В их обязанности входила и психологическая обработка Корчного. Вот короткий рассказ свидетеля, известного швейцарского адвоката Албана Брод-бека, который в следующем матче был руководителем делегации Корчного.
«Я долгое время не мог понять, зачем цивилизованному человеку общаться с шаманами-проходимцами. Я не раз спрашивал об этом Корчного, но он старался избегать прямых ответов, уклонялся, говорил общими словами, мол, они ему помогают обрести уверенность и силу. Но однажды я зашел в его апартаменты, не ожидая встретить там посторонних, и увидал зрелище, которое меня поразило. Корчной, одетый в восточные одежды, исполнял ритуальный танец. В одной руке у него был нож, в другой апельсин, который, как мне объяснили участники этого действа, олицетворял голову Карпова. И вот Корчной после каких-то па и заклинаний должен был ножом пронзить этот апельсин… Я был поражен и высказал Корчному все, что думаю по этому поводу. Но Шепард, которая руководила ритуалом, сказала, что Корчной самоутверждается таким образом, аккумулирует в себе пространственную энергию…»
Полагаю, нечто подобное происходило и в Багио.
Но мне до всего этого не было дела. Я ощущал в себе силы, я должен был победить – и чем скорей, тем лучше. По себе я чувствовал: еще три-пять партий – и управлюсь. И вот восемнадцатая: имею преимущество, давлю, должен победить – ничья. В следующей выдержал стойку, и в двадцатой – опять пошел вперед. Опять имею преимущество, опять давлю, выигрышу просто некуда от меня деться; достаточно при откладывании записать нормальный ход – и победа; а я записываю черт-те что – и ничья. А дальше срабатывает известный закон: если в стопроцентной ситуации не забиваешь гол ты – через минуту в контратаке его забивают тебе. Вдруг – проигрываю…
Моя команда расстроилась, но сам я не испытывал ничего, кроме легкой досады. Промежуточный счет не имел значения. Куда важнее, что я чувствовал в себе силу, и уверенности во мне не убавилось. И уже в следующей партии я бросился реваншироваться. И почти прибил. Ну что мне стоило остановиться, когда был сделан контрольный ход? Выигрыш был на доске. Ну посидел бы дома, придумал бы отличный план; а может быть, и доигрывать не пришлось – у Корчного не было шансов на спасение. Но я завелся. Он ходит – я хожу, он ходит – я хожу, он ходит… Короче говоря, когда я очнулся, – в моих сетях было пусто.
Вот когда у меня пропал сон. И впервые на этом матче я обратился за помощью к Зухарю. Поражения не так терзают, как неиспользованные возможности. Ведь сыграй я в последних партиях нормально, – матч был бы уже завершен. Я не понимал, что со мной происходит. Я анализировал каждое свое действие, ход своих мыслей – и не находил себе оправдания. Правда, сомнения в исходе матча еще не родились, но и самоедства хватало, чтобы выбить меня из колеи. Нужно было как-то отвлечься, забыть о дурацких бесплодных мыслях, нужно было хорошо спать, спокойно готовиться к очередной партии и уверенным выходить на игру. Но прежде всего – спать. А сон пропал.
Я промучился полночи и позвал Зухаря. Он колдовал-колдовал надо мной – тщетно. Следующий день я ходил как ватный, ночью не стал испытывать судьбу, попросил Зухаря сразу браться за дело. И опять все зря. «Извините, – сказал он, – я не в силах быть вам полезным. Ваша нервная система не уступает моей, так что если желаете, – могу обучить вас своим приемам. Но усыпить – не могу». А таблетки были для меня табу – шахматы их не прощают.
И опять пошли ничьи. Двайер и Шепард исчезли с горизонта – по требованию судей и организаторов они были выдворены службой безопасности не только из зала, но и из гостиницы. Друзья мне рассказывали об этом, видимо, рассчитывая успокоить, но я отмахивался с досадой. Я знал, что все дело во мне, только во мне. И я бился мыслью и все не мог понять, – почему, почему, почему я не могу реализовать свое несомненное игровое преимущество?!..
И вдруг – в двадцать седьмой – победа. Причем в какой момент! я уже прогорел к этому времени, и где-то посреди партии почувствовал себя совершенно пустым, и Корчной это видел и уверенно шел к победе… Но он перестарался. Он слишком хотел победить, а я был хладнокровен. Повторяю: во мне уже выгорело все, что могло гореть, и я спокойно рассчитал, что бросок соперника придется как раз на его цейтнот, и все крохи сил, что у меня остались, я сберег на последний час игры. И все решил несколькими спокойными, точными ходами.
Еще шаг, еще один раз выиграть – и матч сделан. Но я не знал, не представлял, в этот момент не видел, как сделать последний шаг.
Нечаянная победа, победа, к которой я шел так долго и уже не чаял ее добыть, победа, которая упала ко мне вдруг счастливым подарком, не обманула меня. Правда, я надеялся, что она меня хоть в какой-то степени наполнит. Но этого не случилось, и тогда передо мной встала проблема: как же играть дальше? Ведь такую отличную форму, столько прекрасных шансов не смог реализовать; так на что же я могу рассчитывать, будучи опустошенным? В нашем лагере был праздник; долгое сидение в Багио всем так надоело, ребята предвкушали скорый отъезд; а я постарался уединиться, чтобы не портить им хороший вечер. Ведь все равно никто не мог бы мне помочь. Даже подсказать – что делать, как быть дальше, – мне бы не смог никто.