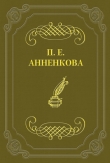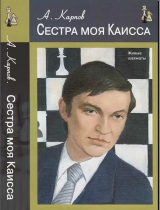
Текст книги "Сестра моя Каисса"
Автор книги: Анатолий Карпов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
А болеть дома я любил.
Почему? – сейчас даже затрудняюсь сказать. Ну, в школьные годы объяснить это еще так-сяк можно: не вставать рано, не сидеть на уроках – уже приятно. Но ведь и до школы постельный режим не вызывал у меня отрицательных эмоций. Возможность играть в шахматы и в войну? – но ее не прибавлялось; она не была напрямую завязана на здоровье. Вот разве что общение с мамой. Его количество не менялось, но качество несомненно становилось другим. Это вовсе не означает, что я был обделен маминой нежностью, – уж на нее-то по отношению ко мне мама была щедра. И мама, и сестра, и отец. Да и вообще от тех лет у меня сохранилось впечатление, что меня любили все. Но ведь нежности никогда не бывает слишком много, и я – как опытный ловец, как чуткий индикатор – реагировал на малейшее ее изменение.
Разумеется, мама меня старательно лечила. Ее действия были отработаны до автоматизма. Но я ко всем этим компрессам, таблеткам, микстурам, горчичникам и банкам настолько привык, что эмоционально на них никак не реагировал. Единственное, чего я категорически не принимал, – это традиционное на Руси лечение простуды гонкой пота. Забавно, что отец считал этот метод панацеей и пользовался только им.
У мамы на этот случай всегда хранилась неприкосновенная банка малинового варенья и бутылка кагора. Когда отец заболевал и жаловался на ломоту в теле, мама на ночь глядя заваривала крепкий чай, от души разводила в нем малиновое варенье, затем половина на половину смешивала его с горячим кагором, и, все это выпив, отец забирался в постель, закутываясь так, чтоб только глаза и нос были наружу. И потел. Потел так, что простыни можно было выжимать. Чтобы вытерпеть эту пытку и не проделать в покрове хоть малейшей дырочки, нужно было иметь крепчайшие характер и сердце. Отец их имел. И наутро – как ни в чем не бывало – совершенно здоровый отправлялся на работу.
Но тут я пошел в маму. Вот уж чем мы оба никогда не могли похвалиться – так это терпением. И даже величайшая любовь к отцу и готовность во всем ему подражать не могли меня заставить пройти эту пытку до конца. Ни разу.
Так на чем же мы остановились?
На том, что однажды вечером отец подсел ко мне с шахматами, расставил их на доске и сказал: «Ну, сынок, покажи, что ты умеешь…»
Первая партия!
Я был в таком восторге от самого факта игры с отцом – ведь это же было осуществлением давней мечты, – что первую партию провел буквально как в бреду. Я торопился, я спешил показать, что я умею; я хотел поразить отца тем, что умею все. Я хватался то за одну, то за другую фигуру, но не от обилия планов, а от избытка чувств. Потом я словно очнулся – и увидал, что моей армии фактически нет, и самое главное – я не помнил, когда и куда она делась; армия же отца почти не пострадала, только выдвинулась вперед и занимала, как мне показалось, всю доску.
Это был ужасающий разгром, причем, как я сейчас понимаю, отец был к этому почти непричастен. Он лишь следил за тем, чтобы его фигуры доминировали, контролировали доску, чтоб они не попадали под мои слепые ходы. Значит, это был не столько разгром, сколько самоубийство.
Но отец не акцентировал на этом внимания, не довел игру до мата, не зафиксировал результат. Он дипломатично («что-то маловато у нас фигур осталось – играть почти нечем…») предложил мне компромисс, а я, не понимая его смысла, интуитивно за него ухватился.
– Но ты же видел, папа, как мои сражались?
– Они сражались темпераментно. И бесстрашно. Только я не понял, чего хотел их полководец. Давай-ка все сначала, только ты, сынок, не спеши…
Получилось, что в той, самой первой нашей игре смысл был в ней самой, в ее процессе, в самовыражении через игру, в нашем с отцом общении через игру. Результат как фиксация соотношения сил уступил место эмоциональной оценке. Кто бы мог подумать, что это останется во мне навсегда! Урок благородства (потом – уже чемпионом мира – сотни раз во время сеансов я буду изо всех сил стараться не выиграть у самого маленького – и сам предлагать ему ничью), урок понимания, что хоть цель игры – победа, высший смысл ее – в самовыражении, значит – в обретении внутренней свободы.
Тем самым я получил от отца ключ, как снимать главное противоречие в нашем деле. Ведь игрок (а я уже тогда был игроком, хотя осознал это лишь десять лет спустя) должен победить. Он ради этого играет. Но к игре его влечет все-таки не неуемная жажда побеждать, не желание самоутвердиться за чужой счет – к игре его влечет сама игра, ее процесс, ее воздух. Игра примиряет его с жизнью, с ее рутиной, бестолковостью, скукой и неминуемым поражением в конце. Значит, игра – это не побег из действительности, не игра в жизнь и даже не суррогат ее; игра – это идеальный образец жизни, ее эталон; в ней есть все, даже бессмертие.
Разумеется, столь высокие материи от меня были тогда далеки, и пройдет еще много лет, прежде чем во мне заговорит потребность осмыслить, конкретизировать в словах мое ощущение, восприятие и понимание жизни. Но я хочу сказать, что семена были брошены уже тогда. Что, если б я узнал шахматы не от отца, а как-то иначе, если б я не получил от него тех первых уроков, причем не в назидательной форме, не в форме нравоучения, а как естественную норму поведения, которую именно так и воспринял и охотно сделал своей? Что, если б мое вхождение в шахматы произошло как-то иначе? Думаю, и результат был бы иным (каким именно – разве теперь узнаешь?), и я бы стал другим.
Итак, мы снова расставляем шахматы, и я, едва прикоснувшись к пешке e2 (я еще не знал, что начинать игру можно и другими ходами), тут же забыл наставления отца и отчаянно бросился вперед. Но теперь отца это не устроило. По его представлениям в основе любого дела – в том числе и игры – был порядок. Система. Он считал педантизм гарантией хорошего качества работы, и, поскольку взялся обучить меня шахматной грамоте, намерен был исполнить это так же добросовестно, как и все, что он делал.
«Не спеши, – сказал он. – Сперва подумай – потом ходи».
Элементарнейшая вроде бы заповедь. Я понял ее сразу – и смысл ее, и правоту, но исполнить не смог. Какой-то чертик сидел во мне, и, едва приходила моя очередь ходить, он тут же толкал мою руку для немедленного ответного действия.
Короче говоря, в этот вечер выяснилось, что умел я очень мало. Умел ходить, умел бить, умел строить самые примитивные планы. Но учитывать чужую мысль, чужую волю, представлять чужой план – пока это было за пределами моего горизонта.
Какой соблазн! – описать стремительное становление чудо-ребенка, показать, как он все хватает буквально слету, с полуслова, как вчерашний малыш-неумеха превращается в непобедимого шахматного бойца, в игрока, которому открыты все неписаные законы Игры…
Увы. Врать не хочу, а правда была куда прозаичней. И правда была в том, что мое шахматное развитие шло обычно, неспешно, – вероятно, не быстрее, чем у других. Мне потребовалось почти три года, чтобы догнать отца и играть с ним на равных. Целых три года! – а ведь он был несильным игроком; в свои лучшие времена он играл приблизительно в силу второго разряда. Крепкий любитель – не более того. Правда, на равных мы играли недолго. Уже к восьми годам я брал над ним верх регулярно, а к девяти мы и вовсе прекратили наши шахматные поединки, поскольку они утратили спортивный интерес: игра шла в одни ворота.
Читатель вправе спросить: нет ли здесь противоречия? С одной стороны, я утверждаю, что мое шахматное развитие шло обычными темпами, с другой – мое шахматное развитие не остановилось на каком-нибудь втором или даже первом разряде, как у огромного большинства сильных любителей, я еще в детстве опережал всех сверстников, а затем и взрослых, и довольно уверенно и быстро поднялся на шахматный трон. Почему? Что способствовало преодолению барьера заурядности, который останавливает почти всех?
Противоречия нет.
Уровень овладения игрой зависит:
1) от количества партий, в которых вы участвовали, и
2) от качества их, причем под качеством в данном случае я понимаю специфическую познавательную пользу, которую вы из них извлекли, иначе говоря – творческий КПД этих партий.
Когда я утверждаю, что мое шахматное развитие шло обычными темпами, это значит, что для подъема на каждую очередную ступень в овладении шахматным мастерством я должен был сыграть определенное количество партий. Для одних это число больше, для других – меньше, но в общем некий диапазон существует. Так вот, если мои друзья, мои товарищи по двору сыграли свою первую тысячу партий, скажем, за три года, то я этот порог одолел месяцев за шесть (хотя на самом деле я думаю, что мне понадобился срок значительно меньший). Я играл сам с собой, я играл с отцом, я играл со всеми; они любили смотреть – а я играл. Я делал все, что мог, – только бы не быть зрителем, а участником борьбы. Именно этим невероятным темпом я сжал время во много раз. Одного этого было достаточно, чтобы у окружающих возникло ощущение феномена вундеркинда.
Но ведь мою лодку гнали не один, а два движка. Мои товарищи играли в шахматы для удовольствия, я – тоже; удовольствие они получали от процесса игры, я – тоже. Но если для них все с удовольствия начиналось и удовольствием завершалось, то для меня – как и для любого истинного игрока – удовольствие было неотделимо от победы. И если они проигрывали, то для них это был просто проигрыш и ничего более, тогда как для меня любой проигрыш был неудачей, которой быть не должно, но раз уж она случилась – значит, я где-то ошибся, значит, нужно в этом разобраться и ошибку понять, чтобы не сделать ее впредь.
Жившему во мне игроку эмоций от процесса игры было слишком мало для удовлетворения. Я должен был побеждать, побеждать непрерывно, побеждать всех; а для этого найти алгоритм успеха, свою комбинацию «тройка, семерка, туз», против которой не устоит никто. И если мои товарищи думали о шахматах только в процессе самой игры, за доской, то я – так мне сейчас представляется – постоянно жил в атмосфере шахмат, они все время были со мной, если не в центре, то на периферии сознания.
Что же из этого следует?
Во-первых, новое качество в моей игре возникло не столько как следствие статистических процессов (знаменитый закон перехода количество в качество – утешение, компас и прибежище всякой трудолюбивой посредственности), сколько как результат целеустремленной работы.
Во-вторых, энергия, которую я вкладывал в каждую партию, тем более в отдельные, ключевые ее ходы, рождала необычную для моих сверстников плотность игры. Она, эта плотность, становилась для меня привычной и потому нарастала с годами.
В-третьих, вначале неосознанно, а затем все более сознательно я искал гармонию в том, что происходило на шахматной доске. Я еще не понимал ее тайны, но плоды гармонии – неистребимая жизненность и неотразимая победоносность – были для меня очевидны.
Не правда ли, этот маленький «букет» все-таки претендует на исключительность?
Только на первый взгляд.
Только в сравнении с тем, что привычно, что мы видим в окружающих нас людях.
В сравнении с банальностью.
Я не хочу сказать худого о товарищах моего детства. Они одарили меня своей дружбой, они никогда не подавляли меня – самого маленького и самого младшего в компании. Напротив – они всячески поддерживали и поощряли меня. Это их снисходительное благодушие и любовь создали тепличную атмосферу, в которой я поднимался как на дрожжах, развивался свободно, не ведая боли и уколов ревности. Не знаю, сколько им было дано, уж во всяком случае не меньше, чем мне! – это были здоровые, ловкие и толковые ребята. У них все получалось легко и просто, без проблем, без видимого напряжения. Жизнь не требовала от них борьбы, не требовала преодоления. И вот я думаю: не это ли погубило задатки, которые в них безусловно были? И у них, и у меня внешне все было вроде бы одинаково: одинаковые обстоятельства, одинаковое воспитание, предположим – одинаковые способности. Но они – имея громадный выбор (который не осознавали), дезориентированные громадной собственной силой (которую не осознавали тоже) – выбрали линию наименьшего сопротивления. Даже не выбрали – поддались ей, поддались течению. Оно усыпило, убаюкало их. «Мышцы» их душ, не испытывая нагрузок, уже к юности одрябли; память, загружаемая лишь школьной зубрежкой, потеряла творческие функции, стала механической; мысль – не имея достойной цели, – выродилась в колоду стереотипов. Помните, как у Марка Твена, в «Принце и нищем», государственная печать, оказавшись в руках мальчика-люмпена, превращается в инструмент для колки орехов…
А я в это время бил в одну точку. Бил, бил и бил. Не потому, что я такой умный – так сложилось. Игрок стал кормчим моей души. А любой игрок знает, что путь наименьшего сопротивления никогда не приведет к выигрышу. Тем более – к крупному выигрышу. Просуществовать, продержаться, свести баланс так на так, – да и то при условии стабильного везения! – вот максимум, на который может рассчитывать в игре плывущий по течению. Что в основе этой философии? Выгода. Вот печка, от которой он пляшет; вот его истинная цель.
А ведь у игрока совсем иная философия, значит, и цель иная. Игрок играет для того, чтобы пережить приключение. Играя – он преодолевает. Преодолевая себя, обстоятельства, судьбу.
Только ради выгоды игрок никогда бы не пошел на все эти издержки. Сама по себе выгода ему скучна. Желанна – как и всякому нормальному человеку, но при этом и скучна. А поскольку истинный игрок ищет переживаний, провоцирует их, коллекционирует их, любая скука ему противопоказана. В том числе и скука ради выгоды. Поэтому, стоит ему ощутить, что скука встала за его спиной, он тут же прогоняет ее простым приемом: он повышает ставку. Независимо от карт, которые в это время находятся у него на руках. Натура сильнее расчета!
Где же здесь исключительность?
Я не вижу ее.
Любой истинный игрок талантлив – это безусловно. Он не выносит рутины, ищет новые ходы, испытывает себя, бросая вызов судьбе. Он не хочет и не может жить скучно. Ну и слава Богу! Что в этом особенного? Где, на каких скрижалях написано, что скука и банальность – это норма? Банальность бесплодна, значит, тормозит развитие, – и уже хотя бы поэтому не может быть нормой. Скука – сильнейший источник отрицательных эмоций и первый признак спада, она способна истощить и погубить любое живое дело, – значит, и она противопоказана норме. А что же такое норма? Это состояние, это ситуация, которые способствуют развитию, движут дело вперед. Порождают нечто новое.
Вот почему я считаю, что букет векторов (повторяю: интенсивность поглощения партией, целеустремленность в работе над проблемами, плотность игры и поиск гармонии), которые слитным усилием вначале подняли меня в шахматной игре над моими друзьями детства, а потом вынесли на шахматный трон, – это всего лишь норма.
Нормально, когда человек много работает.
Нормально, когда он вкладывает в работу душу.
Нормально, когда он старается внести в работу необычность, небывалость, непредсказуемость, без чего и нет ни Творчества, ни Игры, между которыми – когда они с прописной буквы – я с удовольствием ставлю знак равенства.
Нормально, когда критерием творчества служит идеал.
Но! – как сказано в Святом Писании – много званых, да мало призванных.
Как же долог путь, который мне только еще предстоит пройти!.. Сколь он щедр на тупики, на испытания, на искушения… если бы знать наперед…
У игроков в преферанс есть поговорка: если знать, что лежит в прикупе, можно не ходить на службу. Не знаю, не знаю… по крайней мере, за себя ручаюсь: я бы так не смог. Скучно. (Если позволите, я не буду говорить о моральной стороне, ее, я уверен, мы оцениваем одинаково.) Уходит смысл. Остается ощущение бездарно прожитых дней. И ведь эту пустоту уже ничем не заполнишь: пустоту можно заполнять только сегодняшнюю, а вчерашняя остается зияющей в душе раной навсегда…
Нет, я бы наверняка так не смог. Я бы чем-нибудь другим занялся, – уж как-нибудь бы да придумал! – чтобы было напряжение, чтобы дух захватывало, – пан или пропал! – чтобы каждой клеточкой тела ощущать: живу! Живу! Но я забежал вперед.
А пока я, маленький и тщедушный, стою на коленях на стуле. Передо мной на углу стола шахматная доска. Напротив – отец. Он чуть откинулся на своем стуле, так что его лицо кажется загорелым в рябой тени от бахромы красного шелкового абажура, который парит над нами царственным балдахином. На доске очередной разгром. Остатки моей армии, разбросанные по полям, уже невозможно соединить ни хитростью, ни силой – нет времени, нет для этого ходов.
– Через два хода тебе мат, – говорит отец.
Я это вижу. Я уже настолько разбираюсь в шахматах, что кроме своих ходов, могу предвидеть и ходы отца. Чаще один-два, но иногда – прослеживая очевидную логику какого-то резкого его хода – я угадываю (или предполагаю) целую серию. И это меня захватывает необычайно.
Я вижу, что мне через два хода мат, вижу, что спасения нет, и начинаю плакать. Я это делаю не совсем специально: я уже знаю, что от слез становится легче на душе; но и отца можно разжалобить – в следующей партии он либо поддастся, либо так построит игру, что партия закончится миром в связи с полным истреблением обеих армий.
Я заранее знаю ласковое выражение его лица и глаз, и слова утешения, которые он произнесет, и прикосновение руки, треплющей меня по волосам. Но сегодня ничего этого нет. Что случилось?
Отчего отец не смеется и не тянется ко мне своею ласковой рукой? Отчего его глаза так холодны и жестки?
– Вот что, сынок, – говорит он подчеркнуто четко, – запомни: еще раз заревешь, – никогда больше не сяду играть с тобой.
У нас дома ничего не повторяют дважды.
Мои слезы высыхают. Мои последние в жизни шахматные слезы.
Так ко мне приходит познание одного из важнейших законов игры: угроза страшнее исполнения.
КОММЕНТАРИЙ И. АКИМОВА
Здесь я хочу продолжить свою мысль о том, что, будучи болезненным ребенком, Карпов волей неволей вынужден был накапливать впечатления. Эта тяга к накоплению выражалась и материально. Например, в коллекционировании. Но главное – в шахматах. В шахматах это более чем убедительно. Я уже не говорю, что ему здесь принадлежат все мыслимые рекорды; но он продолжает накапливать количество победных турниров, словно хочет сделать недостижимыми свои рекорды даже в самом отдаленном будущем.
Возьмем типичную карповскую шахматную партию. Самое в ней характерное – накопление мелких преимуществ. Шахматисты помнят слова Нимцовича: «Позиционная игра характеризуется не нападением или защитой, но только мерами, направленными на упрочение положения». Здесь – весь Карпов. Для него даже гармония – это нечто накопляемое. Его позиция – это накопить преимущества, большинство которых видит и знает только он. Именно поэтому он не пойдет на позицию другого типа, пока не будет уверен, что она не окажется более гармоничной.
Конечно, можно углубить эту мысль. Можно предположить, что Карпов, хранящий в подсознании память о смерти, о путешествии туда, живет с особо обостренным чувством неустойчивости бытия, с постоянной потребностью бесконечного увеличения этой устойчивости, то есть гармонии. Но развитие этой мысли в комментарии увело бы нас слишком далеко от шахмат, и поэтому мы ограничимся здесь лишь ее формулированием. Однако теперь, когда мы знаем, что Карпов поменял свое отношение к проблеме здоровья, особенно интересно будет узнать, сможет ли он перевести свой организм на иной режим. Тот режим, который был заложен в него природой до супершока. Но об этом мы сможем судить только по его спортивным результатам.
Глава третья
Первой шахматной территорией, которую я покорил, был наш двор.
Порядки в нем были куда демократичней игровой строгости, к которой приучал меня отец (именно к строгости, слово «дисциплина» здесь не дотягивает: в нем есть порядок, но нет ответственности, которую – при всем своем педантизме – отец ставил выше). Разумеется, здесь тоже была своя иерархия, но не выше ее была атмосфера братства людей, объединенных любовью к шахматам.
Мне не нужно было просить: «пропустите меня к столику, я тоже хочу смотреть». Мне и без того освобождали место, но часто просто брали на руки, чтобы я мог наблюдать игру с комфортом.
Мне не нужно было сдерживаться, если подсказка сама соскальзывала с языка, поскольку, повторяю, здесь торжествовала демократия: «Шахматы – коллективная игра!»
Мне не нужно было ни унижаться, ни ловчить, чтобы эти люди приняли меня в игру. Займи очередь – и все! И когда придет твой черед – садись на место выбывшего и показывай все, что умеешь. Хоть в три хода проиграй, хоть всех подряд обыгрывай – твоя судьба в твоих руках.
Я не сразу включился в игру – не хотелось проигрывать. Если даже с отцом я переносил это болезненно, так ведь отец – это отец, это часть меня; он как бы не имел возраста, а его размеры только воодушевляли меня; в поражениях от отца не было стыда. А в шахматной компании даже мальчишки были вдвое меня старше, про взрослых и не говорю. Я вертелся где-то на уровне их ног. Не желая того, они меня подавляли.
Но шахматы ко всему прочему еще и потому великая игра, что перед ними все равны. Они ко всем одинаково справедливы. И когда первая притирка прошла и все эти «большие» и «взрослые» превратились в «дядю Ваню», «дядю Петю», «Колю» и «Митю» (на крыльце дома или возле столика под березой обычно собирались пять-шесть человек, не всегда одни и те же; полагаю, всех членов этого «клуба» было не менее полутора десятков человек), возрастной разрыв потерял в цене, и на первый план вышло, кто и как играет. Я понял, что кое с кем вполне могу потягаться, и однажды решился – «забил» очередь. И хотя догадывался, что насмешек не будет, мне было приятно услышать ободрительное: «Нашего полку прибыло!»; «Молодчина, Толик, давно пора».
Мне незадолго перед этим исполнилось шесть лет.
Волновался я очень, но все же меньше, чем в первой партии с отцом. У меня уже был опыт – десятки партий, сыгранных дома; я знал, кто из дворовых шахматистов на что горазд, как ставит партию; наконец, проигрыш здесь не считался зазорным.
Противник мне достался далеко не самый сильный – Саша Колышкин, мой будущий друг. Он учился в одном классе с Ларисой, был на пять лет старше, и до этого дня, полагаю, меня не замечал. Это сейчас на пять лет старше, на пять лет моложе – почти незаметно, а тогда нас разделяла целая жизнь!
Чтобы я мог видеть доску, на скамейку поставили деревянный ящик. Сколько я отсидел на нем! Как мне памятна колкость его пепельно-серых, не-оструганных дощечек, пружинисто гнущихся под моим невесомым тельцем, и терпко-острый запах помидоров, который не в силах были вытравить из них ни дождь, ни солнце.
Как далека от этого знойного воскресного дня моя первая партия с отцом! Тогда я был счастлив самой возможностью игры, участием, причастностью. Это и теперь оставалось, но только как фон, как подмалевок, а сюжет, рисунок стал другим: я был игроком, и я вошел в игру, чтобы побеждать.
На моей стороне были плюсы – и я знал их.
Во-первых, Саша Колышкин, естественно, не принимал меня всерьез, значит, десяток начальных ходов – а то и больше – я мог рассчитывать на его легкомысленное отношение к игре. Во-вторых, я уже знал, как он нападает, поэтому заранее решил, как упрусь. А потом мое игроцкое счастье зависело от того, как далеко Саша зарвется, сколько себе позволит, до какой степени скомпрометирует позицию. Наконец, когда начнется настоящая игра (а я знал, что она начнется, что мне, клопу, Саша просто так не сдастся никогда), я надеялся, что у меня хватит умения и выдержки, чтобы реализовать то, что я успею накопить.
Все произошло, как я и думал.
Но в эндшпиле, имея подавляющее преимущество и распаляемый зрителями, я стал играть на публику, небрежно, делать очевидные ходы, ненагруженные мыслью, а потому легковесные. Наконец, не питаемая энергией, распалась гармония, – а я, актерствуя, этого даже не заметил!..
Меня не сам проигрыш поразил (к поражению я был готов; как я ни настраивался на борьбу за победу, я не мог не понимать, что поражение было бы самым закономерным исходом), а то, как я проиграл. Так и просится сказать: бездарно, – но ни тогда, ни еще много лет позже я не знал такого слова.
Это было потрясение. Ведь мог выиграть! Самую первую партию во дворе мог выиграть! Ведь я так готовился к ней, так хорошо все продумал и сделал!..
Читатель, вероятно, уже ждет признания: заплакал я или нет. Ведь такой малыш! И столь горькое разочарование!.. Неужто он (то есть я), обнаглев, станет описывать мужественные потуги ребенка, который, помня заповедь отца, собирает все свои тщедушные силенки… – и так далее, в том же сопливом тоне…
Не бойтесь – не совру.
Конечно, заплакал.
Я сидел на колких и гибких дощечках и тихонько плакал и совсем не стыдился слез. Мои старшие шахматные товарищи что-то говорили мне, утешали, хвалили, удивлялись, как это оно вот так вдруг повернулось. Я их слушал, но не слышал, переживая свою сладостную боль и нестерпимое в этой атмосфере всеобщей любви ко мне острейшее чувство одиночества и последние в этом дворе мои шахматные слезы…
Потом кто-то взял меня под мышки, приподнял и поставил сбоку на землю. Все как-то вдруг забыли обо мне, повернулись спинами: ведь начиналась новая партия. Это было самое главное, и я это понял и, вытерев слезы, спросил все еще срывающимся голосом: «Кто последний?»
А еще через год (впрочем, прошло больше года: я уже учился в первом классе, и поздняя осень как-то незаметно, как это бывает в наших краях, уступила место поначалу теплой зиме) я попал в шахматный клуб. Место это было примечательное.
Представьте двухэтажный, наивно-помпезный с фасада амбар – угловатый, толстостенный, красного кирпича, с маленькими окнами – маленькими не для экономии тепла, а потому что архитектору не пришло в голову сделать их большими.
Это был Дворец спорта Металлического завода, и шахматный клуб жил под его крышей.
Там были два зала – баскетбольный и тяжелой атлетики – и несколько больших комнат, в которых размещались спортивные секции. Шахматная секция теснилась в тридцати-сорокаметровом помещении, сплошь заставленном столами.
Это было единственное место в городе, где занимались шахматами. Не изучали – для этого не было ни шахматной литературы (несколько книжек на полке было – зрительно я их помню, но не берусь назвать ни одной; и это говорит само за себя), ни преподавателей-методистов. Именно занимались. Попросту говоря – играли. Часами. Десятки партий подряд.
Правда, иногда, когда в городе появлялся шахматный гастролер, мы смотрели его партии. Разумеется – если могли их достать. Да и то без особого рвения: у нас не было культуры такой работы, мы воспринимали только сюжеты партии, а все ее подтексты, неожиданные удары кисти мастера, когда на один-два хода вдруг всплывает яркая идея, чтобы тут же быть снятой уверенным шпателем партнера, – все эти красоты лишь угадывались самыми сильными игроками клуба, а общей массе были недоступны.
Впрочем, случались теоретические занятия и не привязанные к какому-либо событию – сеансу или турниру. Системы в них не было. Просто наш руководитель кореец Пак вдруг объявлял: «Завтра изучаем королевский гамбит. Прошу подготовиться». Почему именно королевский гамбит? и как готовиться, если на руках нет даже самой примитивной шахматной книжонки? – вот вопросы, которые мог задать любой из нас. Но никто их не задавал. Полагали: у Пака возник педагогический зуд, надолго его не хватит, так отчего же не потерпеть часок-полтора, тем более что у многих это рождало ощущение причастности к высшей шахматной премудрости и соответственно прибавляло уверенности в игре.
Меня эти занятия не увлекали.
Дело давнее, содержание забылось, но я думаю, не велик от них был прок.
Смотрели ходы.
Белые сюда – черные туда, если белые так – черные эдак; или еще как-то иначе – и что при этом происходит. Ходы выстраивались по схемам. В них был план и настойчивость и напор, но не было идеи. Вернее, некому было идею выявить. Некому было показать ее животворность, ее способность аккумулировать энергию, которую потом можно использовать на свой вкус.
И в самом деле, откуда среди нас было взяться шахматному философу, который мог бы подняться над игрой ход в ход, увидеть смысл не в активности, а в равновесии? В нашем клубе не было таких. Да мы и не подозревали, что такие бывают, что качественный рост без них попросту невозможен. Мы жили шахматами; они дарили нам радость общения и были неисчерпаемым источником положительных эмоций; и чего-то большего от них мы не ждали. Откуда нам было знать, что бывает какая-то иная игра! Мы не сомневались, что играем в ту же игру, что и гроссмейстеры, только мы плохонько – на любительском уровне, а они – хорошо – на гроссмейстерском. Святая простота.
Неудивительно, что и я, формируясь как шахматист в такой атмосфере, был пропитан ее духом. Я разделял вкусы моих старших товарищей, приняв как аксиомы их шахматные и игроцкие идеалы.
Если бы нашему клубу потребовался девиз, он бы звучал так: чтобы хорошо играть в шахматы – нужно в них играть постоянно и много. И никто бы не усомнился в этой прописной истине. Ведь прописные истины для того и существуют, чтобы пользоваться ими без размышлений. «Вижу, что это так, а не иначе, а потому и верую». Позиция удобная; убедить, что она так же далека от истины, как и ложь, почти невозможно…
Потом, конечно, я стал думать иначе.
Но пока случится это «потом», пройдет добрый десяток лет. Десять лет упоения шахматами, неутомимого и нескончаемого пропускания их через себя, как червяк пропускает сквозь себя почву, в которой живет. Чтобы увидеть шахматы другими, нужна была встреча с Учителем. Мне повезло – судьба одарила меня такой встречей. Но вот интересная тема для размышлений: какова была бы моя шахматная карьера, если бы я встретил Учителя раньше? Иначе говоря – насколько своевременно это произошло? Наконец – как высоко я смог бы подняться, если б не встретил Учителя вовсе?..
В шахматный клуб меня привели товарищи по двору. К этому времени каждый из них успел сыграть в квалификационных турнирах; получили вначале 5-й разряд, затем 4-й. В те годы шахматная лестница была длинной. Потом я понял из их разговоров, что в клубе комплектуется турнир на 3-й разряд; все они записались, и это их волновало: барьер был достаточно высок, само участие поднимало их в собственных глазах. И тут я подумал: а почему бы и мне не попробовать? Ведь я играл не хуже их, а некоторым и вовсе не проигрывал.