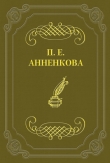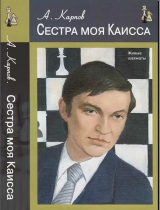
Текст книги "Сестра моя Каисса"
Автор книги: Анатолий Карпов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Следующую партию проиграл, но не расстроился – я ждал этого. Потом из-за тайм-аута сложился целый недельный перерыв, но он меня не выручил. Я ходил пустой, и, когда опять сел за доску, – мне нечем было играть. Опять поражение, второе подряд; потом удалось сделать прокладку – слепил ничью; потом проиграл снова… Как давно это было – то счастливое время, когда я вел плюс три! Теперь счет сравнялся, стало 5:5, и никто не мог поручиться, что будет завтра.
Знаете, чем отличается игрок от неигрока? Если проигрывает подряд неигрок, он разваливается на куски и сдается; если проигрывает раз за разом игрок, – он продолжает идти вперед, потому что знает, что серенькая полоска где-то кончится и опять начнется светлая, и начнется его игра.
Теперь ликовал лагерь Корчного, пресса дружно меня хоронила. Я действительно стоял на краю, но в отличие от всех остальных я чувствовал, что волна Корчного уже прошла, а моя опять начинает подниматься. Нужно было еще самую малость переждать, чтобы моя набрала массу, накопила инерцию, стала неодолимой – и я решил оставить шахматы и махнуть на один день в Манилу. Это была идея моего друга космонавта Виталия Севастьянова. 250 километров на машине в одну сторону, встречи с друзьями, трехчасовое яростное «боление» за наших ребят на баскетбольном матче, потом 250 километров обратно. В другое время после такой поездки я был бы мертвый, а тут меня словно обмыли живой водой. На тридцать вторую партию я пришел уверенный и спокойный. Корчной едва взглянул на меня – и его не стало. Если неделю за неделей видишь перед собой одного и того же человека, то с первого же взгляда угадываешь в нем и состояние, и настроение. И Корчной понял все; даже прежде меня понял, что эта партия будет последней. И я прочел это в его мгновенном, тут же отведенном взгляде.
Эту партию я исполнил так, как хотел бы играть всегда: спокойно, без эмоций, легко и непринужденно. Я видел всю доску, я контролировал игру от начала и до конца; я сразу видел дальнейшие ходы и проверял их только затем, чтобы глупый случай не нарушил неумолимого шествия судьбы. Я не торопил событий, и поэтому в основное время партия не была закончена. Но выигрыш стоял на доске. Дома мы внимательно поглядели ее – шансов на спасение Корчной не имел. В шутку был объявлен конкурс на невыигрывающий вариант за белых. Я, правда, помнил, сколько сотворил на этом матче «чудес», но чувствовал: все они в прошлом – и в первый раз за последние недели заснул мгновенно, едва голова коснулась подушки.
Я знал, что доигрывания не будет. Так и случилось. Но Корчному не хватило души, чтобы завершить этот матч красиво. В записке арбитру он написал, что не имеет возможности продолжать партию. Это – вместо честной сдачи. Он как бы оставлял крючок, чтобы утверждать, что матч не был завершен, чтобы перепоручить дело юристам, которые пытались разыграть эту пустую карту в последующие годы.
Мне жаль, что Корчной так смалодушничал. Ну – я еще могу понять – во время матча, в пылу борьбы, в ажиотаже человек иногда перестает отдавать себе ясный отчет в совершаемых поступках. Но потом – когда кончилось, когда страсти остались позади, и вдруг просветленным умом осознаешь, что это всего лишь шахматы, только шахматы, игра, символизирующая мудрость и благородство, – неужели и тогда не хочется отбросить все суетное, земное и отдать им честь за все то, чем они осмыслили и украсили нашу жизнь? Тем более, что наша потрясающая борьба, если отбросить всю налипшую на матч грязь, заслуживала красивой и благородной концовки.
Кстати, три года спустя, проиграв мне очередной матч в Мерано, Корчной завершил его собственноручной запиской такого содержания: «Я уведомляю в том, что сдаю без возобновления игры восемнадцатую партию и весь матч, и поздравляю Карпова и всю советскую делегацию с прекрасной электронной техникой. Корчной». Я бы его понял, если бы играли две электронные машины: Карпов и Корчной, а мы бы сидели где-то позади или даже за сценой и подсказывали им ходы и оригинальные планы. Но, слава Богу, если такое будет, то еще очень не скоро, и какое имеет значение, во что заглядываешь, готовясь к очередной партии, – в электронный компьютер или в том югославского «Информатора».
В Мерано Корчной был уже не тот.
Апломб прежний и злость та же, а вот сил стало поменьше. На технике, на опыте, на подготовке, которая у него, как всегда, была на высочайшем уровне (и на моих ошибках, на моей расслабленности), он какое-то время держался, а иногда, собравшись, выдавал и отличные партии. Но это были всплески на начинающей мелеть реке. Я это понял, едва начался матч в Мерано. Десять лет он был моим неизменным игровым соперником – и вдруг я открыл, что это уходит из моей жизни. Не скрываю: тогда я был этому рад; и лишь со временем, когда осознал, что Корчной больше никогда не попытается меня одолеть, ощутил, что моя жизнь с его уходом стала беднее. Подумать только! – всего семь лет назад – считая от сегодняшнего дня – я полагал, что наконец-то возле вершины не осталось никого… Каспаров уже был, он уже терпеливо взбирался, продираясь сквозь тернии, я знал о нем, наблюдал его сверху, но он мне казался таким маленьким и таким еще далеким…
Мерано я вспоминаю с нежностью и с удовольствием. Природу, людей, организацию соревнования, которую, как мне кажется, невозможно превзойти. И победа была красивая, безоговорочная, быстрая – 6:2 в восемнадцати партиях – небывалое преимущество в истории матчей на первенство мира.
Видимо, и Корчной понял, что его лучшее время ушло, и поэтому в следующем цикле он решил сойти с круга. Это случилось в Лондоне, в матче с Каспаровым. Поначалу Корчной повел и в счете, и в игре, но в середине матча, очевидно, вспомнил, что так можно доиграться и до матча со мной. И тут его словно подменили. Это была тень Корчного. Но я не хочу быть категоричным и не собираюсь его судить. В шахматах может случиться что угодно (я помню свою игру в Багио!). Одни считают, что он уже не хотел на меня выходить, другие – что Каспаров его раскусил и подобрал к нему ключ. Все может быть. Но вот одна маленькая деталь меня смущает. Корчной всегда ненавидел своих соперников по матчам, а если проигрывал им – оставался врагом на всю жизнь; с Каспаровым же, несмотря на сокрушительное поражение, он остался в прекрасных отношениях. И если вспомнить, что в его практике уже был прецедент, когда он уступил Петросяну право играть матч с Фишером… Впрочем, это их дело – дело их совести.
Когда делить со мной стало нечего, он помягчел, убрал колючки. Можно сказать, наши отношения нормализовались. Мы даже играли в бридж. Но ненадолго его хватило! Достаточно было нашим дорожкам пересечься в острой ситуации, как он показал себя в прежнем виде.
Это случилось в Брюсселе, в 1986 году. Я претендовал в турнире на первое место и, чтоб завоевать его, должен был непременно выиграть у Корчного.
Это был мой последний шанс. Я хорошо настроился, но выказал это не сразу: у меня были черные. Я выждал, чтобы Корчной проявил свои намерения, и, когда он показал, что хочет только ничью и уже настроен на ничью, я стал играть резко, резче чем обычно.
Корчному это не понравилось. Моя игра застала его врасплох, но защищался блестяще и почти уравнял позицию. До полного равенства ему оставалось сделать несколько точных ходов. Их видел я, их видел он – и предложил мне ничью. Будь моя турнирная ситуация иной – я бы ее тут же принял. Но мне нужен был выигрыш, и я сказал: продолжим. И тут из Корчного попер былой Корчной. Он прямо на глазах преобразился. Лицо исказила гримаса, в глазах засверкала издевка; он так брался за фигуры, словно эта игра вызывает у него величайшее отвращение. Но ходы делал хорошие, точные – именно те ходы, которые вели к ничейной позиции. Я загадал: еще ход – и буду закругляться, все равно из этой позиции большего, чем есть, не выжмешь. И делаю очевидный ход – нападаю на коня Корчного. А он, не глядя на доску, не сводя с меня иронического взгляда, берется за своего короля… Я-то на доску глядел и, когда увидел, что конь остается под боем, на моем лице, очевидно, изобразилось такое изумление, что Корчной замер. Он понял, что сделал что-то ужасное, его взгляд медленно сполз на доску… Несколько мгновений он с ужасом рассматривал короля, которого держал в руке, и коня, который стоял перед боем, потом вдруг опал, потянулся за бланком, чтобы подписать, но вдруг отшвырнул его, заорал, что не мне и не с ним играть такие ничейные позиции на выигрыш, смахнул все фигуры с доски и выбежал из зала. На его несчастье, телевидение снимало эту нашу партию от первой минуты и до последней, и все, что он вытворял за доской, потом показано было на весь мир.
После этого турнира Корчной поклялся, что больше не сядет со мной играть, но прошло совсем немного времени – и он забыл свою клятву. И опять все было, как всегда: и шахматы, и бридж. До очередного случая. Приехав на турнир в Линарес, где играл и я, а главным судьей должен был быть мой старший товарищ и соратник Батуринский, он в день первого тура заявил организаторам, что не будет играть в турнире, где арбитром «черный полковник». Ему предложили: Батуринский будет судить все партии, кроме ваших. Корчной сказал: не согласен; в этом турнире может быть один из двух: или я, или Батуринский… Самое поразительное, что его поддержали многие гроссмейстеры: Юсупов, Белявский, даже Тимман. Тимман оправдывался, мол, ему это крайне неприятно, но если приходится выбирать, то в интересах турнира он отдает предпочтение Корчному.
Это меня возмутило. Я сказал Яну: «Я могу понять советских гроссмейстеров, они люди небогатые и несамостоятельные; они привыкли поддерживать не справедливость, а силу. Их можно купить. Но ведь ты свободный человек из свободной страны, ты знаешь, что Батуринскому семьдесят пять лет, у него слабое здоровье – но и огромный опыт, и авторитет в шахматном мире. Не по собственному почину – по приглашению организаторов – он летит за тысячи километров на этот турнир. Для чего? Чтобы выслушивать незаслуженные оскорбления? Чтобы испытать на себе цинизм этих молодых людей, для которых самое святое – это минутная выгода? И ты поддерживаешь эту бессовестную травлю?..»
К чести организаторов, затея Корчного потерпела полное фиаско. Впоследствии он признался, что это была не импульсивная акция, он ее задумал заранее вместе с Гулько. Но в последний момент Гулько «соскочил» с уходящего поезда. «Турнир мне очень нравится, – сказал он Корчному. – Если бы твоя акция взяла верх, я бы с удовольствием тебя поддержал, а так, извини, я останусь и буду играть».
И Корчной уехал один.
КОММЕНТАРИЙ И. АКИМОВА
Карпов пришел в шахматы на переломе эпох: заканчивалась эпоха шахматистов-одиночек (олицетворяемая блистательной вершиной – Робертом Фишером) и формировалась эпоха, когда выдающийся шахматист был выразителем идей большой группы профессионалов, объединенных общими интересами. Карпову повезло: он еще застал шахматный романтизм (который вошел в его кровь и стал его неосознаваемым эталоном), а костяк и мышцы его мировоззрения формировались в атмосфере прагматизма. Вот откуда его двойственность, не разрушающая, впрочем, его целостности, зато сообщающая ей упругость.
Я понимаю протест Карпова, его неприятие даже гипотетической идея активного вмешательства в мыслительный процесс со стороны. Пусть даже все парапсихологи соберутся вместе против него – они тогда не согласится им уступить. В этом неприятии – весь он; здесь истоки его судьбы.
Уважая его точку зрения, я как профессионал не могу с ним согласиться в этом вопросе. Да, наш мозг хорошо защищен, но лишь до тех пор, пока мы полны энергии. Но едва мы начинаем уставать – мозг становится уязвим.
Известно, что подавляющее число ошибок шахматисты делают на последнем часу игры. Это – обычное явление даже у самых выдающихся игроков. Но все-таки для выдающегося игрока каждый раз это исключение, оно выпадает раз на много партий – своеобразное жертвоприношение случаю. И выдающиеся игроки соответственно это принимают, чуть ли не с облегчением: когда-то оно должно было случиться, и вот произошло, и теперь опять все пойдет ровненько, нормально, как обычно…
Но если выдающийся шахматист чувствует себя великолепно, полон сил, прекрасно подготовлен, ищет борьбы – и делает раз за разом необъяснимые, порою элементарные промахи… Может быть, тогда все-таки стоит поискать объяснение вовне?
Карпов не приемлет саму возможность воздействия корчновских парапсихологов на его игру, но пройдет несколько лет – и выяснится, что на выигранных у Карпова (только на них!) решающих партиях Каспарова присутствовал его экстрасенс Дадашев…
Где ты, благородное время, когда шахматисты обходились лишь доской да двумя комплектами фигур! когда простодушный Таль обходился собственным магнетизмом, когда считалось, что двое садятся играть в шахматы лишь для того, чтобы выяснить, кто из них лучше умеет это делать.
Сегодня лидеры завершают своею игрой командные усилия. Спору нет – болеть за них интересно. Но я думаю – какое счастье, что мы с вами играем совсем в другую игру – романтическую, рыцарскую, чистую – которая помогает нам понять себя, испытать себя, а самое главное – является своеобразным языком общения и взаимопонимания с человеком, который сидит по другую сторону шахматной доски.
Глава седьмая
Как ни много места в моей жизни заняло противостояние с Корчным, не оно было главным содержанием ее, не им эти три тысячи дней были наполнены. Я много работал над шахматами, играл в турнирах, дружил, любил, разъезжал по свету, пытался устроить свой быт, пытался понять себя и других людей, пытался постичь истоки бескорыстия и причины измен. В самолетах и гостиницах всех континентов у меня было довольно времени, чтобы все это обдумать; и я понял, что на шахматной доске я все вижу и чувствую несравненно лучше, чем за ее пределами, где многие вещи (например, смерть, измена, коварство) хотя и были мне близко знакомы, тем не менее не укладывались в моем сознании. Я знал, что с ними нужно мириться как с данностью – но и этого тоже не мог. Есть вещи, которые ранят всегда: ни привыкнуть к ним, ни приспособиться невозможно.
Но эти три матча были основными вехами этих лет. Я шел от вехи к вехе, как от вершины к вершине. Вершины эти были сугубо спортивные, и, хотя влияли на остальную жизнь, влияние это было не столь велико, как, наверное, казалось со стороны. Я понимаю, что для публики, для шахматистов всего мира я был интересен именно своими победами (и, надеюсь, для грамотных любителей – своею игрой), но для меня самого это были только экзамены, а жизнь лежала между ними, и именно ею я жил, именно она, а не экзамены, составляла основную ценность и смысл прожитых дней.
Это – мое, только мое; в принципе такое же, как у других, но лишь для меня живое и расцвеченное незабываемыми чувствами. Поэтому, надеюсь, никто не будет ко мне в претензии, если я оставлю это на хранение в своей душе. Но было в эти годы несколько моментов – минуты, часы и дни обретений и потерь, – о которых я не могу умолчать, поскольку без них эта книга будет неполной. Например, как ушли из моей жизни два самых близких мне человека. Или – как я стал чемпионом мира. Или – про мои отношения с Фишером. Я о них рассказывал не раз, но никогда не давал своему предшественнику оценки, не говорил, кем он был для меня и чем я ему обязан.
Для меня всегда необычайно важна была победа. За любую игру я сажусь с единственной целью – победить. Иначе, кажется, для чего играть? Но победы ради побед не привлекали меня никогда. Все же главное для меня в игре – наслаждение от нее самой, от ее течения, от ее процесса, от перипетий. Найти самый точный путь к победе, найти лаконичное, элегантное решение, получить удовольствие от гармонии, с какой реализуется твой план, от преодоления колоссального сопротивления соперника – вот, собственно говоря, ради чего только и стоит играть. И побеждать. И не только в отдельных играх, но и в матчах на первенство мира.
Не знаю, как Фишер, а я считаю огромной потерей не сыгранный нами матч. Прежде у меня было ощущение, как у ребенка, которому обещали замечательную игрушку, о которой он мечтал очень долго, уже показали ему ее, даже протянули – на, бери, – и вдруг в последний момент спрятали: обойдешься. Не стоит гадать, чем бы кончился этот матч, но ни на миг не сомневаюсь, что он бы стал самым знаменательным событием в моей жизни. Не сомневаюсь, он бы поднял меня как шахматиста еще выше. Потому что, сколь бы ни были напряженны и богаты мои матчи с Корчным, это все-таки было не то. Фишер был выше, и борьба с ним потребовала бы большей энергии, больше души. Она бы заставила меня выложиться до конца, и, может быть, тогда я бы узнал свою истинную глубину, мог бы судить, что в моих силах, а что нет. А так все эти годы меня не оставляет чувство, что я играю иногда в полсилы, иногда на восемьдесят процентов, редко – на девяносто. Даже в минуты, когда в матчах с Корчным бывал на краю, даже когда уступал Каспарову, я знал, что играю не в самую полную свою игру. Играл по ситуации, по партнеру. С Фишером мне пришлось бы играть в другие шахматы, и я до сих пор не могу смириться, что их не было.
Конечно, я был счастлив, когда Макс Эйве увенчал меня лавровым венком чемпиона мира. Как и у всякого профессионального шахматиста, с какого-то времени у меня появилась высокая мечта – и вот она осуществилась. Но в этом венке не было самых главных листьев, не было самого ценного для меня – памятных знаков о борьбе с моим блистательным предшественником. Я пытался себя утешить: ну мало ли чего мы в жизни не видели, мало ли чего не испытали, мало ли что прошло мимо нас, мало ли о чем даже не слыхали никогда – всего же не охватишь. Но это слабое утешение. Я посвятил свою жизнь шахматам, у меня был шанс испытать себя на самых высоких для нашего времени вершинах, но этот шанс забрали у меня. Поневоле станешь философски оценивать все, что было до этого и что пережил потом.
Впервые я увидел Фишера вскоре после того, как он стал чемпионом мира. Это случилось на турнире в Сан-Антонио, я был всего лишь молодым подающим надежды гроссмейстером. Организаторы упросили Фишера отметить своим присутствием турнир. Он появился в последний день, что было не слишком удачно. Победители – и я в их числе – мирно делили между собой очки, и Фишер, посидев среди зрителей не более четверти часа, понял ситуацию и исчез. Но еще перед этим, перед началом тура, которое организаторы задержали в связи с его появлением, он обошел всех участников и с каждым уважительно поздоровался. До этого мы не были знакомы, и он мне сказал какие-то вежливые слова. Меня поразил его взгляд; он был совсем не тот, что на фотографиях; в нем не было жесткости, а какая-то покорность и терпение. Впрочем, больше такого взгляда у него я не видел. Еще запомнилась его своеобычная медвежья походка: он ходил неуклюже, его руки и ноги двигались не в противоходе, как у всех людей, а одновременно – одновременно левые и одновременно правые – и поэтому получалась перевалка из стороны из стороны в сторону.
Кстати, Америка удивительно оперативно среагировала на чемпионство Фишера. До его победы шахматы в США были далеки от общественных интересов. Когда мы ехали на турнир в Сан-Антонио, то с удивлением обнаружили, что в американских магазинах не так просто купить доску с фигурами, тем более шахматные часы, а уж о шахматной литературе и вовсе мало кто слышал. Но уже к концу турнира это стало появляться почти повсеместно, а когда я вскоре опять прилетел в Америку, то застал в ней всеобщую шахматную лихорадку, и, естественно, все шахматные аксессуары были в изобилии, причем на любой вкус.
В это время я еще не помышлял примериться к Фишеру, но уже изучал его, восхищался им и думал о нем. Меня уже тогда поражала целеустремленность этого человека, посвятившего жизнь единственно только шахматам. Поражала, может быть, потому, что сам я склонен к эпикурейству и не нахожу в этом ничего дурного. А Фишер еще в юности сделал целью всей своей жизни мировое шахматное первенство – и шел к этой цели с одержимостью фанатика.
Я считаю, что Фишер превзошел всех прежних и ныне живущих гроссмейстеров умением производить и перерабатывать шахматные идеи. У него была старая школа – он работал один. Редко – с кем-нибудь еще. Но совершенно точно известно, что постоянных помощников у него не было, и чужими идеями он не кормился. В этом его принципиальное отличие, скажем, от Каспарова, которого снабжает идеями огромный клан. Думаю, он редко использует эти идеи живьем, все-таки это сырье, его нужно переработать и сделать пригодным для собственного употребления, и это Каспаров умеет очень хорошо.
А Фишер был уникален своей единоличноетью, своей обособленностью, своей самодостаточностью. Он с малых лет научился работать самостоятельно. Самостоятельно постигал таинства дебютов, самостоятельно готовился к турнирам, самостоятельно изучал отложенные позиции. Советские шахматные журналисты преподносили его своим читателям как ограниченного, необразованного выскочку из Бруклина. Его описывали так в погоне за занимательностью и от непонимания его сущности. А ведь он знал несколько языков, он много повидал и все помнил; он понимал людей; правда, философом был слабым – и это его погубило. Естественно, прессу он не любил – ни западную, ни советскую. Он считал, что пишущие о шахматах журналисты не понимают сути игры, не понимают смысла поступков шахматистов. Дилетантства по отношению к шахматам Фишер не выносил никогда.
Причиной его трагического разрыва с шахматной жизнью, как мне кажется, были чрезмерные требования, которые он предъявил к себе, как к чемпиону мира. Он считал, что чемпион мира не имеет права на неудачные партии, тем более на проигрыш; может быть, он и дальше заходил, лишая себя права вообще на малейшую шахматную ошибку. Из этого максимализма выход был единственный – не играть совсем. Фишер поставил перед собой творческую сверхзадачу – и проиграл ей психологически.
Этот максимализм (может быть, потому что я совсем другой) привлекал меня в нем необычайно. Я понимал, что это единственный путь к совершенству; как выяснилось потом – и к шахматной гибели, но тогда об этом еще было рано говорить, хотя я чувствовал, что здесь слишком тонко. Я просто пытался понять его логику и его цель. Ведь любой шахматист на его месте, выиграв у Ларсена четыре партии подряд, довел бы матч до победы в спокойном темпе, сделав четыре-пять ничьих, – сколько необходимо, сколько требуется для победы. А Фишер продолжал борьбу в каждой партии, словно она самая первая и единственная, словно от нее зависит все. Он не давал поблажки ни себе, ни сопернику, никогда – и в этом был весь Фишер.
Цельность Фишера проявлялась в любом его действии; даже недостатки Фишера были неотделимы от него, поскольку были гранями этой цельности. Вот почему для него была так важна инициатива в партии, в турнире, в матче, даже в каждом отдельном эпизоде. Ведь инициатива – это лучшее средство быть самим собой, а значит – сохранить свою целостность. И если Фишер был лидером соревнования, если все развивалось закономерно, логично, правильно, – Фишеру не было равных. Если он сразу вел в счете – его невозможно было остановить. Но дело не в математическом выражении преимущества. Так, например, ломая игру в первой партии матча со Спасским, он извлек огромный психологический ресурс из своего поражения и не побоялся не явиться на следующую партию, точно рассчитав, что тем самым психологически уничтожит Спасского.
Но в начале каждого соревнования это был неуверенный, колеблющийся человек. Думаю, первый тур для него всегда был мукой. А иногда и второй, и третий – пока он не убеждался, что способен на свою фирменную, полноценную игру. И пока не наступала эта ясность, это осознание, пока он ощущал в себе зыбкость и неопределенность, Фишер нервничал и терялся, «плыл» и был способен на самые непредсказуемые поступки. Именно это заставляло его бросать многие турниры. Еще раз подчеркну: не страх перед соперниками, а не совсем ясное ощущение себя, отсутствие доверия к себе. Это была неуверенность в своей готовности создавать именно ту игру, ради которой он отдавал всего себя шахматам, ради которой он садился играть.
Шахматы обязаны Фишеру тем, что он возродил к ним интерес во всем мире. Они были популярны в Советском Союзе и еще в нескольких странах, но всемирной популярности у них не было, поскольку в них отсутствовала спортивность. Миру было практически безразлично, кто получит шахматную корону – Спасский или Петросян, кто победит в турнире претендентов – Таль или Керес, Бронштейн или Корчной. А когда началось триумфальное шествие Фишера к шахматной вершине, возник спортивно-политический ажиотаж – кто возьмет верх: одиночка Фишер или сплоченная фаланга сильнейших советских гроссмейстеров. Любимый сюжет человека из толпы: один против всех! Это настолько подогрело интерес, что на какое-то время шахматы стали в мире спортом номер один.
Шахматисты безмерно обязаны Фишеру и тем, что с его руки многократно возрос их материальный и общественный статус. В дофишеровскую пору лучшие профессиональные шахматисты на Западе едва сводили концы с концами; у наших дела были получше, поскольку они всегда пользовались поддержкой государства. Но что это были за деньги! Например, в семьдесят первом году призовой фонд четвертьфинального матча претендентов Геллер – Корчной составлял аж 150 рублей: 90 – победителю, 60 – побежденному. Но уже через три года за выигрыш такого же четвертьфинального матча у Полугаевского я получил 1200 рублей. По нынешним временам совершенно смехотворная сумма, но она была уже на порядок выше, чем в предыдущем цикле. За выигрыш полуфинального матча у Спасского я получил 1500 рублей. А за выигрыш финального матча у Корчного я получил 1800 рублей… (Напоминаю: за этими матчами следил весь спортивный мир, их освещали сотни журналистов, они прокладывали фарватер шахматной истории.) По какому принципу рос приз – я не могу понять до сих пор, потому что процентное соотношение совершенно разное. Тем не менее, и это было уже достижением. А когда для турнира всех звезд в Москве был заявлен приз победителю в две тысячи рублей, организаторы считали, что чуть ли не озолотили участников. Это и впрямь было событием для советских шахмат: Совет Министров страны принимал специальное решение и необычайно раскошелился, чтобы показать всему миру, что и мы не лыком шиты. Для сравнения должен отметить, что Роберт Бирн, проиграв четвертьфинальный матч Спасскому (но это было в Америке), получил приз больший, чем я за все три своих победных матча.
Как я уже говорил, первая личная встреча с Фишером (если не считать давешнего мимолетного знакомства) произошла в Японии. Ее организовал Кампоманес, который не просто мечтал о нашем матче, но и сделал все от него зависящее, чтобы этот матч состоялся. Он понимал, что это единственная возможность удержать Фишера в шахматах, и чувствовал на себе историческую ответственность за продление шахматной судьбы этого великого игрока. Представляю, как велико было разочарование Кампоманеса, когда он наконец убедился, что все его бесконечные усилия, терпение и красноречие оказались тщетны.
Но в Токио до этого было еще далеко. В Токио мы с Фишером познакомились по-настоящему. Мы приглядывались друг к другу и пытались друг друга понять. Я с первой минуты почувствовал очень уважительное его отношение ко мне и отвечал ему тем же. Мне это было нетрудно – мое уважение к нему всегда было велико. Я рад, что наши встречи были, рад, что мы сблизились настолько, что между нами не осталось непонимания, рад, что уважение укрепилось симпатией; а то, что до матча мы так и не дошли… ну что ж, значит, не судьба.
Предмета для разговора нам не нужно было искать, он был единственным: матч между нами должен быть сыгран. Этого хотел я, этого хотел Фишер, и, хотя наши взгляды на регламент матча поначалу были очень далеки, мы оба не сомневались, что в конце концов найдем разумный компромисс и обо всем договоримся.
Упрямство Фишера известно. Сколько от него натерпелся Спасский! Сколько твердости пришлось в свое время проявить и мне, чтобы настоять на разумном решении нашего конфликта! Но теперь я был настроен оптимистично. Между нами не было посредников – и в этом я видел залог успеха.
Вести с ним переговоры было очень непросто. Если Фишер что-то вбивал себе в голову, он стоял на своем и, как мне казалось, даже не пытался вникнуть в резоны оппонента. Его позицию можно изложить в нескольких словах: он хотел играть безлимитный матч до десяти побед.
Услышав это, я понял, какой огромный путь в переговорах мне предстоит пройти, набрался терпения и стал методично втолковывать ему, что этот грандиозный замысел практически почти невозможно осуществить. Ведь если даже один из соперников начнет выигрывать все партии подряд, и каждую неделю будет играться три партии, и то матч продлится месяц. А если, скажем, он будет выигрывать даже одну партию из трех – это уже три месяца. Но ведь мы оба очень редко проигрываем, значит – и это нереально. Но даже и три месяца… Тогда я и представить не мог, как это возможно играть три месяца подряд. Фишер не представлял тоже, но стоял на своем. Тогда я предложил: давайте играть с фиксированным перерывом; скажем, после трех месяцев. Он упорствовал: никаких перерывов. Очевидно, боялся, что во время перерыва все советские гроссмейстеры будут работать на меня.
Но как бы ни были тяжелы первые шаги, мы оба были полны энтузиазма, оба стремились к этому матчу; хотя и потихоньку, но дело двигалось. Во всяком случае, после первой встречи моя уверенность сохранилась, хотя в душе уже поселилось сомнение; а на третьей встрече я с первого же взгляда понял, что Фишер перегорел, может быть, устал от мыслей об этом матче и ведет переговоры со мной скорее по инерции, чем из желания реализовать свой замысел.
После переговоров мы отправились погулять по Токио. Я опасался, что к нам начнут приставать любопытные и собиратели автографов, но, к моему величайшему изумлению, к нам не подошел ни один человек. Два самых знаменитых шахматиста современности, портреты которых почти не сходили с первых полос газет и журналов, шли вместе по улице – и хоть бы кто обратил внимание. Потом я понял, что такое возможно только в единственном месте на земле – в Токио.
Впрочем, один снимок – единственный в истории шахмат, на котором мы запечатлены вместе с Фишером, – все же был сделан. Председатель японской шахматной федерации Мацумото, подольстившись к Фишеру (тот не любит журналистские объективы даже больше, чем перья), сделал один снимок, как он объяснил, для семейного альбома. Увы, через несколько дней снимок был продан Франс-пресс и распространен этим агентством по всему миру.