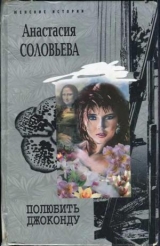
Текст книги "Полюбить Джоконду"
Автор книги: Анастасия Соловьева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Глава 2
Наконец, вырвавшись из пробки, я свернул на бульвары, но здесь, протащившись метров сто, вновь встал в пробке. Время шло, на лобовое стекло сыпал и сыпал снег. Давно уже стемнело. Впереди, на взгорке бульваров, сколько видел глаз мигали габаритные огни, мигали надоедливо, до обморока. Сегодня утром на лестнице Губанов, главный менеджер, сияя, сунул мне папку с новым заказом:
– Крупнейший заказ! По твою душу, Алексан Василич, в стиле модерн: гостиная красного дерева, никакого шпона – цельная! Обивка – черная кожа. Как можно быстрей! Я сказал, что после обеда будешь…
И полетел дальше, виляя задом, – лакей! Он уже несколько лет в Москве, а его акцент только усиливается. Точно козыряет им, так ему представляется изящней, что ли? И как этому набитому дураку удается быть всегда бодрым и веселым? Его греют заказы на эти клонированно безликие гостиные, спальни и кабинеты. Пошлость и безвкусие обязательно выбирают «в стиле модерн». Так им и Губанову кажется красивей. И зачем им столько кабинетов? Они писать-то могут лишь по-матерному. Да и то с ошибками. Хотя мат, ошибки, акцент – теперь современно, модно. Как же все осточертело!
Я затушил бессчетную за день папиросу, газанул и вырулил на тротуар. Джип легко перепрыгнул бордюрный камень и понесся сквозь снежную пелену вдоль вереницы одинаковых под снегом машин. Свернул в проулок – оставалось совсем немного, но дорогу перегородили два столкнувшихся автомобиля. Их водители сумрачно сидели по своим местам в ожидании ГАИ, которая тоже где-нибудь торчала в пробке. Я въехал в сугроб и бросил здесь машину. Она вдогонку мне дружественно пиликнула сигнализацией.
В переулках старой Москвы было тихо, безлюдно, не спеша падал мягкий снег. «Как тогда!» – невольно подумал я и вспомнил: я – школьник с рулоном ватмана по оледенелым ухабам пробираюсь в изостудию, втайне от себя самого мечтая о Суриковском – ведь сто человек на место. Да и не в человеках дело. Вспоминая то время, я почему-то всегда видел снег, темный вечер, безлюдные переулки. А мечта стать художником, свободным художником – какой трепетной и робкой птицей билась тогда в груди! Но она билась и наполняла смыслом мою жизнь. Теперь прошло пятнадцать лет, как я окончил Суриковский институт. Диплом со званием «свободного» валяется где-то дома. Уже более десяти лет я служу на фирме «Мебель-эксклюзив» главным художником, давно утратив веру и в искусство и во все кругом. Да и нет никакого искусства, есть имитация и пародия на него! Единственной теперь моей отрадой стало хождение в театр. И чем балаганней и глупей спектакль, тем лучше.
Я подошел к витой чугунной ограде. За ней в глубине светился тремя окнами маленький одноэтажный особняк. Я отыскал калитку, прошел на территорию, рассмотрев на столбе латунную вывеску: «Фонд «Обелиск».
Когда я еще только приближался к дому, дверь раскрылась: в светлом проеме я увидел высокого старика, коротко стриженного, в лыжном свитере; старик неприязненно сквозь толстые стекла очков щурился на меня. Приняв его за чудного охранника из пенсионеров, я представился.
– Прошу, прошу, – неожиданно светски откликнулся старик, широким жестом приглашая войти, и, когда я вступил в теплые сени, протянул мне изящную, с длинными красивыми пальцами руку: – Иннокентий Константинович. – На мизинце сверкнул темно-красным гранатом перстень черненого золота – антикварная вещь.
– Рад. Прошу вас… – И старик удивительно легкой походкой двинулся в глубь дома.
Мы вошли в пустой прямоугольный зал метров сорока пяти. По углам его сохранились колонны.
Здесь была гостиная. Изначальный стиль – модерн, – дидактически заговорил он. – Мы сохраняем здесь гостиную в том же самом стиле. В дальнейшем и весь дом оформим так же. Сразу внесу ясность. – Старик, всматриваясь в меня, изобразил подобие улыбки. – Я полностью с вами согласен, молодой человек, что только дремучее безвкусие и пошлость как раньше, так и теперь выбирает «в стиле модерн». Повторюсь: этот дом выстроен в 1908 году в стиле модерн, и соответственно интерьер имел в том же холопском вкусе. И пусть оно остается как было.
Я согласился.
– Соседняя комната будет кабинетом! Скажу прямо, – уже веселился Иннокентий Константинович. – Пока мы обходимся без матерщины. И пишем почти без ошибок!
Я усмехнулся.
– Только не думайте, – Иннокентий Константинович брезгливо поморщился, – что я какой-нибудь маг или экстрасенс. Я – историк. Преподаю в университете историю. Всю жизнь со студентами – поневоле научишься понимать, чем дышит молодежь. А этот дом когда-то принадлежал моему далекому во всех отношениях родственнику. Он был ничтожный человек, но честно погиб за Родину. Наш фонд приобрел его дом лишь по случаю. А штаб-квартира фонда находится в Питере. Мы – питерские. Кстати, фонд наш занимается крайне нужным делом: ведет архивные раскопки, связанные с периодом блокады. Мы ищем лиц, переживших блокадные времена, и пытаемся хоть как-то поддержать их. Я сам блокадник.
Он распечатал пачку «Беломора», закурил. В его руках и беломорина казалась дорогой штучкой.
– В одном с вами не согласен, – продолжал он. – Что-де нет искусства и жизни нет, а есть только толпа и балаган. Конечно, толпа есть и была всегда. А раз была – значит, и вкусы ее были всегда. Уж так устроен мир: она, эта толпа, ненавистным своим хамским духом всегда дышала в затылок художнику, истинному сыну отечества. Но на то он и художник, чтобы не сдаться, не сломаться. Вы думаете, в античной Греции не было быдла? Да оно там только и было. Те художники, мыслители – это жалкая горсть людей в море разнузданной толпы! А когда было не так, а? Возьмите пресловутую эпоху Возрождения. Только обывательский ум представляет ее себе как нечто светлое. А фактически? Разбушевавшаяся чернь по случаю что-де Бога-то и нет. И поэтому – оголтелая вседозволенность. На улицу выйти было страшно. Убийства стали нормой, кровь лилась потоками. Художники, философы, поэты – опять лишь ничтожная кучка, всех их можно по пальцам перечесть – творили, стоя буквально по колено в крови. Но! Если бы они были в кучке, а не разрозненные и одинокие! Но выстояли… Молодой человек, послушайте старика. Мне семьдесят лет, я перенес блокаду, больше полжизни прожил в коммуналке. И в какой! – в одной комнате: я, отец, мать, старшая сестра да еще тетка в придачу! А я весел и полон сил. И если Бог даст… Вы, я уверен, живете в приличных условиях. У вас неплохая семья, любящая жена, умные дети.
– Не совсем так, – поправил я его, – мы недавно развелись, и сын живет с матерью…
Когда я измерил простенки, обговорил детали интерьера и начал уже прощаться, Иннокентий Константинович спохватился:
– Чуть не забыл! В нашем дружном коллективе есть одна взбалмошная особа. Так вот она спит и видит иметь свой портрет в иконописном стиле, то бишь парсуну, да в полный рост и в этом зале. А для этого требуется, как вы прекрасно понимаете, чтобы художник был сразу и хорошим иконописцем, и первоклассным портретистом. Мы не хотим вешать какие-то поделки. Уж, пожалуйста, подберите такого. А дамочку эту мы к вам пришлем.
«Старик прав, – думал я, выйдя на улицу, – нельзя киснуть. А он интересный мужик».
Однако воспоминания о нем отзывались в душе смутной тревогой. Я сел в машину и задумался о парсуне. Иконописца такого я знал – с Гришкой Прилетаевым мы вместе учились в Суриковском, и, как ни странно, Гришка был действительно классным портретистом. Ему удавалось схватить характер портретируемого в первые же полчаса. Гришка работал быстро, большой круглой кистью, его уверенный точный мазок напоминал репинский. Парню пророчили славное будущее. И никто в этом не сомневался. Но после выпуска Гришка засел на Арбате и там увлекся портретами за пять минут. Вскоре он связался с барыгами, торговавшими старыми иконами. Гришка поначалу их только реставрировал, подмазывал на скорую руку. А потом и сам начал торговать. Дома у него появились мешки, набитые иконами XIX, XVIII и даже XVII века – «девятнахами», «семнахами», как называл их тогда Гришка. И вдруг он исчез. Ходил стойкий слух, что Гришка подался в монастырь и сделался монахом. Я пытался ему дозвониться, но трубку не брали. А раз подошел незнакомый мужик и подтвердил, что тот отбыл неизвестно куда. Прошло несколько лет, и вдруг в Москве средь белого дня я встретил его. Белобрысый Гришка ничуть не изменился, только отрастил бороденку, точнее, клок рыжих волос теперь торчал у него из подбородка, придавая поразительное сходство с допотопным дьячком. Но одет был Гришка по-мирски.
– Да ты что, в какие там монахи! – Шумно радуясь встрече, Гришка махал руками, точно отгоняя привидение. – Банальней все! Женился я – вот и все монашество! Мы с супругой съехались. Теперь живем как баре – в своей двухкомнатной квартире. Правда, с тремя детьми! – Гришка весело заржал. – Как пошли дети, так наше барство и кончилось! А тут еще четвертый на подходе! – сквозь смех с трудом выговаривал он.
Но нет дыма без огня. Гришка действительно обратился в православие и работал теперь в иконописной мастерской московского монастыря – писал для братии иконостасы. С тех пор мы с ним стали перезваниваться, изредка встречались.
Вернувшись домой, я позвонил Гришке.
– Есть работенка по твою душу, – заговорил я вдруг языком Губанова, почему-то опасаясь, что Гришка будет отнекиваться.
Так и вышло. Гришка невнятно мямлил и не брал заказ.
– Тебе там делов-то на несколько дней, – уговаривал я. – А стоит «жигуленок».
– У меня есть «жигуль».
– Жене купишь.
– Ей ни к чему.
– Тебе что – деньги не нужны? Или писать живых людей уставы не велят? – допытывался я.
– Не в том дело… – темнил Гришка.
И я решил к нему съездить.
– Гриш, ты дома сейчас? Я заеду к тебе?
– Валяй! – оживился тот. – Жду!
И я опять вышел под непрерывно падающий снег.
Напротив Гришкиного дома я заскочил в универсам. Здесь, не размениваясь по мелочам и экономя время, взял бутылку «Абсолюта», батон сухой колбасы и пирожных для детей.
Открыл Гришка. Он, подавая мне какие-то знаки вытаращенными глазами, зашептал:
– Блаженное время! Снимай ботинки – проходи на кухню.
По мертвой тишине в квартире я понял – все спят, чему Гришка несказанно рад.
Мы вошли на кухню под натянутые струны, с которых свисало детское белье. Гришка прикрыл дверь, на цыпочках протанцевал к столу и аккуратно выставил два мутноватых стакана.
– Ну-с, вздрогнем! – выдохнул он и вдруг застыл, прислушиваясь к неясному шебуршению за дверью.
Выпили. Гришка захмелел с первого же полстакана. Он торопливо изрезал колбасу толстыми кружками и теперь ловко вкидывал их себе в рот.
– Как иконы идут? – Я начал прощупывать почву.
– Да-а… – кисло протянул Гришка, разливая по второй. – Кто платит, тот и музыку заказывает. А платят спонсоры. А спонсоры знаешь кто? А батюшки перед ними…
– Какие батюшки? – не понял я.
– Да священники. Настоятели храмов, – сморщился Гришка, выпив. – Им оттуда приходит приказ, – Гришка указал в белье под потолком, – храм должен быть во что бы то ни стало украшен – расписан по высшему сорту. А денег нет! Вот батюшки и ищут спонсора. И находится такой дядя. А дядя уж уверен, раз он платит, значит, все должно быть в его вкусе. А какие у дяди вкусы?
– Хамские, – усмехнулся я, вспомнив Иннокентия Константиновича.
– Молодец! – Гришка пьяно шмыгнул носом. – Догадлив, парниша! Вот и получается…
– А чего ж ты парсуну отказываешься писать? – Я приступил к делу. – Они полагаются на твой вкус.
– Я и сам думал: может, зря отказался? Но, понимаешь… Где эту кралю мне писать-то? В мастерской? Места нету. На головах сидим друг у друга. Да и ребята засмеяли бы. Дамочка эта с первого же сеанса сбежала б. Конфуз! Не сюда же ее звать? Да и тут где? На кухне? – Гришка мрачно хмыкнул.
– Слушай! – сообразил я. – Я ж один сейчас в трехкомнатной квартире. Прихожу только вечером – спать. Хоть весь день пиши. Никто тебе не помешает.
– Ах да, вы же в разводах… – Гришка энергично зачесал затылок. Он был согласен.
– Завтра и начинай, – подхватил я.
– Может, мне всегда теперь парсуны писать? – Гришку бросило в другую крайность.
– Ты эту напиши, – сказал я, вставая.
Глава 3
Я поставила будильник на половину восьмого и проснулась в кромешной тьме. За стеной муж и дочка, звеня чайной посудой, оживленно спорили о чем-то. Я прислушалась, но слов не разобрала.
Все-таки порадовалась. Пусть мое существование под одной крышей с мужем тяжело и унизительно, зато у Елены есть отец – родной человек, с которым можно поспорить и посмеяться за завтраком.
В первые месяцы моей работы у Карташова, когда, почуяв неладное, муж начал замыкаться, внутренне уходить от меня, я тешила себя мыслью, что это ненадолго. Вот соберусь с силами и все-все расскажу ему… Но сил так и не хватило. Постепенно Лешка перестал видеть во мне не только жену, но и вообще человека – превратил в бесплатную домработницу. Чувствуя в этом долю своей вины, я все же озлобилась.
В глубине души я знала: дело в Лешке! В его природной холодности и недоверчивости. Именно поэтому я сразу стала скрывать от него случившееся. Я поступила глупо, как маленькая. Но все же, если представить… Сначала он отчитал бы меня за безалаберность, потом, немного успокоившись, порадовался бы, что сам он в этой клинике мелкая сошка. А дальше, окончательно придя в себя, начал бы давать наставления, как лучше разговаривать с Карташовым: решительно! Резко! Не мямлить!
Я на сто, нет, на двести процентов была уверена, что не услышу от него ни слова сочувствия. И это было бы самым страшным ударом. Я смалодушничала – захотела защититься от этого удара, но в результате совсем запутала свою и Лешкину жизнь.
– Пап, я ушла! – крикнула Лена из прихожей.
– Давай, до вечера, – попрощался муж.
– Ты сегодня во сколько вернешься?
– Сегодня? Да часиков в девять…
Девять часов – прекрасное время. Они поужинают, так же уютно болтая, посмотрят Ленкины уроки: физику и геометрию она всегда делает с отцом, потом включат телевизор.
Где-то в это время буду я?..
Вчера Карташов так объяснил мне ситуацию:
– Новое задание – дело совсем другого уровня! И деньги тут другие… И вообще, – добавил он, немного подумав, – справишься – больше не буду трогать тебя.
– Как это?
– Очень просто. Получишь свободу!
Я не поверила. Я давно привыкла не верить ему. Если верить – от пустых надежд сойдешь с ума. Но все же сердце у меня тогда екнуло то ли радостно, то ли тревожно…
Мы стояли в тихом заснеженном палисаднике какого-то старинного дома. В белом фонарном свете порхали снежинки. Карташов, нервно глянув на часы, с досадой бросил недокуренную сигарету.
– Пошли!
Дом поразил меня пространством и пустотой. Предводимые высоким породистым господином (в хорошем светло-сером костюме, в золотых очках, с неуловимым акцентом – немецкий профессор, решила я), мы прошли анфиладу полутемных, пахнущих ремонтом залов и оказались в небольшой, как попало меблированной комнате. Хозяин уселся к письменному столу, нам с Карташовым достались колченогие стулья.
– Это она? – Немец кивнул в мою сторону.
– Она самая. – Карташов напрягся.
Хозяин был недоволен. Карташов оправдывался. Дескать, если меня нормально причесать и одеть… Действительно, в вязаной шапке, надвинутой на глаза, бесформенном китайском пуховике и подростковых ботинках на десятисантиметровой подошве вид я имела не самый привлекательный.
– Ты не понял, что от тебя требуется? – В тоне хозяина прозвучала угроза.
Его акцент, неожиданно сообразила я, вовсе не немецкий, а старорусский; так говорили эмигранты первой волны, так говорила и Марина Влади.
Карташов опять затараторил. Хозяин небрежно махнул рукой и перешел к главному. Нужно войти в доверие к одному человеку. Художнику. Он будет писать мой портрет. За время сеансов я должна стать ему очень близкой, необходимой.
– Что вы хотите этим сказать? – спросила я.
Он, не глядя, безразлично кинул:
– То, что сказал.
Дальше пошла конкретика: завтра первый сеанс. Мне позвонят и объяснят, куда ехать. Всю информацию передавать Карташову. Это как обычно. И вот еще что. Портрет будет в полный рост и в иконописном стиле. То есть одета и накрашена я должна быть соответственно.
Теперь, дожидаясь ухода мужа, я думала о том, что надеть. Ничего подходящего у меня не было: каждый день я таскала джинсы, свитера и футболки, купленные на вьетнамском рынке. В шкафу болтался невостребованный офисный костюм, маленькое черное платье… Ни то ни другое с иконописным стилем не вяжется.
Можно, правда, порыться в Ленкиных вещах. В последнее время свекровь усиленно дарит ей одежду, каждый раз указывая на воспитательное значение подарка:
– Ты уже девушка, Лена. И вещи должна носить подобающие!
Но Ленка запихивает подобающие вещи в дальний угол шкафа, сохраняя верность джинсово-спортивному стилю…
Едва за мужем захлопнулась дверь, я со всех ног бросилась в детскую.
Ого! Да со свекровиных подарков можно открыть собственный магазин! В шкафу я обнаружила нежно-голубой льняной сарафан, несколько блузок, симпатичных, но, увы, абсолютно неподходящих. Замыкала коллекцию бабушкиных моделей бархатная юбка шоколадного цвета. Сразу заметно – фирменная штучка. На плотной подкладке, шовчики все аккуратненькие, ни одна ниточка не торчит, а размер-то – европейский сороковой! Это на мою худенькую, узкокостную Ленку?
Я примерила юбку и поняла, что справилась с проблемой. Строгая, но нарядная и даже торжественная вещь – это как раз то, что нужно для моего портрета. К юбке можно надеть белую шелковую блузку или бежевато-розовый джемпер. Он, правда, куплен на вьетнамском рынке, но пока новый, незастиранный, смотрится неплохо… Немного повертевшись перед зеркалом, я отдала предпочтение джемперу. В блузке вид холодный. Тетка из инстанции!.. А в джемпере, наоборот, простой, домашний, милый – такая скорее понравится художнику.
Интересно только, до какой степени я должна ему нравиться? Чего они хотят? Чтоб он изливал передо мной душу? Рассказывал о прошлом? Делился замыслами на будущее? Или беседами тут не отделаешься? Одно ясно: если я не справлюсь с заданием хозяина особняка – немецкого профессора, он за ценой не постоит. Видно, что этот человек привык проводить в жизнь свои планы. И если он споткнется об мою неумелость…
Но ведь я действительно не знаю, как стать ему близкой. Да Карташов мне в жизни таких заданий не давал! Одно дело за кем-то таскаться по Москве или собирать документы. Но кружить голову незнакомым мужикам… Нет таких средств у меня в арсенале!
Зазвонил телефон. Равнодушный мужской голос спросил Елизавету Дмитриевну.
– Слушаю вас, – так же тускло отозвалась я.
Его фамилия Аретов, представляет фирму, какой-то там эксклюзив… Ох, и насмотрелась я на этот эксклюзив за долгие годы! Сразу бы говорил: из профессорской команды! Коротко и ясно.
– Я, собственно, звоню по поводу парсуны.
– Простите?
– Насчет парсуны вам звоню.
– Что это?
– А вы не знаете?!
– А что вас так удивляет?
– Просто мне сказали: вы мечтаете иметь свой портрет в иконописном стиле.
– Ах, портрет?! – фальшиво воскликнула я. – Действительно – мечтаю! Просто не знала, что он так называется.
– Сегодня первый сеанс. Вы как, готовы?
– Конечно.
– Работать придется в Бутове. Далековато, зато условия прекрасные… Вы откуда поедете?
– С «Пролетарки».
– Хотите, я заеду за вами?
– Буду вам очень признательна, – совершенно искренне ответила я.
Кофточки-юбочки нашлись сами собой, но вот красивые зимние сапоги – это для меня непозволительная роскошь! Недавно видела одни неплохие в Таганском торговом центре – четыре тысячи девятьсот рублей. Мне за такие деньги полгода у Карташова работать!
На сеанс я собралась ехать в демисезонных ботинках, почти туфельках. Выглядят они, конечно, очень изящно. Но узкий мыс, тонкая шпилька – настоящее мучение ковылять в такой обуви по обледенелым декабрьским улицам. Предложение Аретова необычайно обрадовало меня.
– Тогда диктуйте адрес.
Мы договорились встретиться в шесть у моего подъезда. В оставшееся время надо было успеть приготовить обед, сделать лицо и прическу.
…Меню сегодня включало суп из замороженных овощей, картофельную запеканку с мясным фаршем, кисель из пакетиков… И охота Лешке есть эту приютскую пищу?! Мог бы давать побольше денег… Или вообще ничего не давать. Питаться на стороне. Зачем ему это жалкое подобие семейного очага?
Хотя почему жалкое? Как уютно они сегодня завтракали с Еленой! И ужинать будут так же. Дочка подогреет запеканку, поставит сметану на стол. Дальше воображение дорисовало против моей воли: в разгар их приятного ужина на кухне появляюсь я. Лена достает из шкафа еще одну тарелку, Лешка спрашивает, почему у меня такой усталый вид…
Фантастические, надуманные картины! Когда-то, представляя их, я готова была кричать от боли. А теперь? Нет, боли, по крайней мере, я не почувствовала. Может, боль умерла? А может, я к ней просто привыкла, сроднилась, так сказать… Ко всему привыкаешь.
По правде говоря, мне просто осточертели эти рассуждения. Сколько лет я возвращалась к этой теме, но ничего нового придумать не могла. Все одно и то же: молчать, терпеть… но, может, он еще изменится? В память о прошлом, о нашей любви… спросит просто, без обычной холодной брезгливости: как дела?.. почему ты такая грустная сегодня? и снова: терпеть, терпеть, терпеть! – ничего он не спросит! никогда не изменится!
– Не изменится! – высокомерно повторила я своему отражению в зеркале. – И не мечтай!..
Последним важным делом, оставшимся до встречи с Аретовым, была прическа. Правда, волосы у меня хорошие: густые, красивого каштанового цвета (крашеные, конечно, дешевая краска «Палетта» WN 5)… только от этого не легче. Из соображений экономии я уже давно не хожу в парикмахерскую. Меня стрижет Ленка. Длина и форма – по вдохновению. Я не спешу демонстрировать миру плоды вдохновения моей дочери и собираю волосы в хвостик. Но в особо торжественных случаях в ход идут крупные бигуди. Здесь главное – действовать небрежно. Накрутить, не глядя в зеркало, недосушить, потом расчесать щеткой – и под сильный лак. Получается естественно, объемно, эдакий художественный беспорядок…
Я уже застегивала ботинки, когда из школы вернулась Елена.
– Мама! Какой у тебя вид!
– Какой?
– Прикольный! Почему ты не ходишь так каждый день?
– Потому что расфуфыриваться на каждый день просто смешно.
– А у нас химоза всегда так выглядит, и никто не смеется!.. Ты надолго?
– Да не очень… Сегодня же папа придет пораньше.
– Откуда ты знаешь?
– Слышала, как вы утром разговаривали… Поужинаете с ним.
И я уже собралась поведать дочери о своих подвигах на ниве кулинарии, но тут запищал телефон. Ленка сняла трубку и, сделав круглые глаза, передала ее мне:
– Тебя, мужик какой-то…
– Елизавета Дмитриевна, я у вашего подъезда.
– Иду.
– Мама, кто это?! – Ленкины глаза не желали сужаться.
– Да так. Знакомый, – бросила я, выбегая из квартиры.
Точнее, незнакомый. Аретова я не видела никогда.
У подъезда стоял серебристый джип. Словно встревоженная моим появлением, машина нервно мигнула фарами. Через мгновение так же настороженно встретил меня ее владелец. В сумерках я не могла рассмотреть его лица, но почувствовала пристальный взгляд, уловила нотку беспокойства в голосе:
– Здравствуйте, Елизавета Дмитриевна…
– Можно Лиза. А вас как зовут?
По телефону он назвал мне только фамилию.
– Александр Васильевич. Александр.
Я прикинула: лет тридцать пять – сорок. Значит, он человек моего поколения. И возможно, моей судьбы. Угодил по глупости в лапы к какому-нибудь Карташову и теперь раскатывает по его делам.
Нет, какая ерунда! У человека моей судьбы неоткуда взяться такому джипу! Скорее всего, Аретов принадлежит к высшим эшелонам этой организации – вращается на уровне «немецкого профессора». Даже, не исключено, его младший компаньон и будущий правопреемник.
Но если фигура подобного ранга задействована в операции, дело действительно очень важное… Для чего-то им понадобился этот художник? Зацепить компроматом его не удалось – и пришлось городить целый огород, с моделью, с портретом. А кстати, что я о нем знаю? На какой почве буду искать близости?
Но только я решила подробно порасспросить об этом Аретова, как ему позвонили на мобильный. Говорил он явно по делу, но о чем конкретно, я понять не могла. Материалы, клиенты… цветовые решения. Может, клиентами они называют людей, оказавшихся в ситуации несчастного художника? Тогда как истолковать его фразу: от подобных клиентов нет спасения? Они что, сами набиваются к ним? Может, и набиваются… Беспечные, доверчивые люди, не сознающие, что каждый миг мы живем на грани…
– …Скажите, а что за человек этот художник?
– Не сомневайтесь! – Показалось, он обрадовался моему вопросу. – Художник – мастер своего дела! В прошлом – блестящий, тонкий портретист. А ныне – серьезный иконописец… Его работы в известных московских храмах находятся. Так что выполнит заказ в лучшем виде.
– Ну а… вообще? – разочарованно спросила я: разговор развивался в каком-то непонятном направлении – я-то хотела услышать от Аретова нечто иное.
– И вообще он мужик нормальный! Веселый, компанейский… Сейчас, правда, у него в жизни не лучшая полоса…
«Ну, это, положим, вашими стараниями!» – последовал мой внутренний комментарий.
– …Но это все временные трудности.
– А я заметила: в жизни часто случается так, что временные трудности легко становятся постоянными. – И тяжелый вздох очень некстати вырвался у меня из груди – я ведь не собиралась откровенничать, просто хотела перевести беседу в нужное мне русло.
– Вы пессимистка?
– Да нет… Не совсем.
– Тогда откуда такие мысли? И вздыхаете как тяжело!..
Надо же, заметил! Психолог! Я опять принялась искать подходы к теме художника, но Аретов посчитал ее исчерпанной и непринужденно спросил:
– Давно вы служите в фонде?
– В фонде? – машинально переспросила я.
– Ну да. В «Обелиске», у Иннокентия Константиновича?
Иннокентий Константинович… Что-то знакомое… Да! Так Карташов называл «немецкого профессора».
– Что вы сказали? Иннокентий Константинович?
– Вы давно у него работаете?
– А вы?
– Я работаю в «Мебель-эксклюзив», – медленно начал объяснять Аретов таким тоном, каким обычно говорят с бестолковыми. – Главным художником! Иннокентий Константинович заказал нам написать ваш портрет. Сказал, что вы его сотрудница.
Почему же мне-то об этом он ничего не сказал?
– Да я, собственно, не сотрудница… Так, на общественных началах.
– Ясно. А чем занимаетесь?
– Почти ничем… Образование у меня медицинское, но я уже давно не работаю по специальности…
– Ошиблись дверью вуза? – спросил Аретов насмешливо.
– Нет, даже наоборот. Выбрала то, что надо.
– А почему же не стали работать?
– В общем, жизнь так сложилась… Ребенок, семья.
– У вас большая семья?
– Огромная!
– Понятно…
А на самом деле ничего не понятно! Если Аретов не человек Карташова, то чей же тогда?.. А ничей! Свободный человек. И художник… Им заказали написать мой портрет. Не ради портрета – ради выхода на портретиста. А Аретов его коллега. Но почему он принимает в этой истории такое активное участие? Созванивался со мной, теперь везет на машине? Наверное, действует как представитель фирмы. Он же главный художник! Главный художник и свободный человек…
Джип двигался с такой сумасшедшей скоростью, что скорость не чувствовалась вообще. Казалось, мы стоим на месте, а мимо проносятся кварталы обшарпанных домов, заводские корпуса, бетонные заборы, трубы, автозаправки.
– Что это за район? – спросила я.
– Варшавка.
– Окраина ада!
– А разве в аду есть окраина?
– Если есть, то непременно такая!
– Откуда Лиза все это знает? – иронично улыбнулся он.
– Ну, я так думаю… А почему вы так быстро едете? Это не опасно?
Он засмеялся:
– Хочу быстрее вывезти вас с окраины ада в преддверие рая.
– Где это, по-вашему?
– Вы же знаток такой географии!
– Я знаток географии, а вы за рулем. Куда мы с вами едем?
– Пока что ко мне домой, в Бутово. И заодно вы по своей шкале оцените это место.








