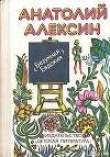Текст книги "Меня не узнала Петровская"
Автор книги: Алла Драбкина
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
6. Галина Петровская
Я выскочила за Снегиревым, потому что выглядел он не ахти. Узнать такое! Нет уж, хватит с меня подростковых подвигов и сурового молчания. Довольно того, что я тогда влезла не в своё дело, уверенная, что совершаю нечто большое и чистое, как говорили наши пионервожатые.
– Эй, Снегирёв! – крикнула я, – садись, подвезу… – распахнула дверцу машины.
– Богатая стала? – спросил он.
– Совсем уже ополоумел, не видишь? Это такси…
Он тяжело плюхнулся рядом со мной, попросил разрешения закурить.
– Ты что, и ушла из-за меня? – спросил он.
– Мне надо уже в парк. Потом еще вернусь к ним туда.
– Слушай, а ты даже разговариваешь, как человек… Я что-то не могу припомнить, чтоб ты разговаривала с кем-нибудь… Разве что сама с собой.
– Да, я была тяжёлой девицей…
– Послушай, зачем ты тогда влезла в эту историю… Не влезь ты тогда, всё могло быть иначе. Я ведь не мог простить Ксану именно из-за тебя. Да и Вика… Если б ты не сочинила на себя этот поклёп, она бы не попыталась выгородить тебя и подставить Ксану…
– Если бы да кабы… Все мы не знали, что творим. Пробовали себя: кто в роли злодеев, кто в роли героев… А на свете нет ни злодеев, ни героев. Просто люди заблуждаются либо по глупости, либо от большого ума.
– Да, жизнь сурова, – с какой-то утрированной важностью сказал он.
Мне захотелось рассмеяться. Почему – не знаю. Наверное потому, что Алёшка-то и был как раз из тех, кто до сих пор играет в героя.
– Может, она и сурова, но не кажется ли тебе, Снегирев, что иногда мы сами нагнетаем разные сложности? И не замечаем сложностей истинных? – Я тут же поняла, что моя фраза прозвучала обтекаемо, а потому была не убедительна.
– И в чем же, по-твоему, истинная сложность? – спросил он.
– В том, чтоб избрать для себя правильные принципы.
– Разве бывают принципы неправильные? И какие правильные?
– Правильные те, которые приносят радость тебе самому и окружающим.
– Ну уж нет. Человек живет не только для радостей…
Снегирёв совсем не изменился. Сколько я его помню, он всегда проповедовал суровость и воздержание. Это я видела. Они, мои одноклассники, думают, что я всегда была сбоку припекой и ничего о них не знала. И ошибаются. Я знала о них о них обо всех достаточно, как будто наблюдала за нами из первого ряда партера. Так уж сложилось, благодаря странностям моего воспитания и характера.
Моя бабушка по маме была наполовину кореянка, наполовину японка, а дедушка воспитывался в её разнонациональной семье, потому что в детстве остался без родителей. Дедушка был сыном русского охотника, смельчака и авантюриста. Он вырос в бабушкиной семье на правах сына, и потом, когда пришла пора, женился на бабушке. Потом у них родилась моя мама. Папа же мой был военным и оказался на Дальнем Востоке, точно так же, как потом оказался в Ленинграде, по службе. Я родилась на Дальнем Востоке и жила там до двенадцати лет. Вскоре после моего рождения папу перевели из тех мест, где жила семья мамы, на Камчатку, и я считаю Камчатку своей родиной. Иногда мне кажется, что именно за первые двенадцать лет моей жизни я получила всю дозу воспитания, причитающуюся человеку.
Помню жемчужно-серое небо Камчатки, влажное, насыщенное снегом, помню космическую пустоту тундры, ее нетронутость и необъятность. Так однажды инкассатор, везший из Петропавловска зарплату для рабочих рыбозавода, потерял в снегу мешок со ста тысячами рублей, и этот мешок валялся два месяца, пока его не нашли с самолета. Около мешка были обнаружены следы охотничьих лыж, но, судя по всему, охотник не соблазнился такой чепухой, как деньги, а отвезти их в ближайший населенный пункт не сумел. Только сообщил кому-то из начальства, как выяснилось потом, а начальник забыл про сообщение и вспомнил через неделю после того, как деньги нашли.
– Не пропали же, – оправдывался он.
В нашем поселке жили люди самых разных национальностей: от корейцев до немцев, не считая всех существующих народов и народностей СССР.
И все это были люди, выкованные Камчаткой: отважные, сдержанные и обладающие чувством собственного достоинства. Я не могу представить никого из моих старых знакомых толкающимся в трамвае или орущим с перекошенным лицом на собственного ребенка. Да и не было у нас детей, чуть что падающих наземь и дрыгавших ногами с криком «Хочу какавы!» Все тут было тихо и полно достоинства, даже собаки не брехали.
Помню один день в тундре. Я убежала чуть вперед от других детей, глядела на темно-синий снег, бесконечный и нетронутый, и вдруг почувствовала, что потеряла куда-то свое «я». То есть получилось как-то так, что мое «я» оказалось не внутри, а снаружи меня. Оно летело под низким небом тундры и смотрело сверху на румяную щекастую девочку, удивляясь, что она тут делает, зачем она вообще живет на свете.
– Это же я, я!!! – я ударила себя кулаком в грудь. – Это я! Там, на небе, и тут, на снегу! Везде – я!
Потом я плакала от ужаса, что «я» не хочет вселиться в мое тело, и от счастья, что оно, «я», живет повсюду. Потом такое случалось со мной несколько раз, и я уже не так пугалась, а больше радовалась, ощущая себя тундрой, камнем, птицей, чертой горизонта, морем.
Здесь, на Западе, этого больше не повторялось…
Помню еще чудесные и космические истории коряков, в которых намекалось на то, что корякам тоже известно это чувство слияния с миром и выхода из мелкой человечьей оболочки.
Тундра… Веер следов большой волчьей стаи, а чуть сбоку – следы босых человеческих ступней.
– Однако они взяли его к себе… – говорит мне корякский мальчик.
– Кто – они? Кого они взяли?
Он серьезно и медлительно рассказывает мне о том, что год назад пропал лучший олений пастух, и все считают, что волки взяли его в свои вожаки. Что так бывало и раньше – волки выбирали смелого и достойного человека, и он сливался с душой стаи и уходил с ними навсегда, оставляя для людей только эти загадочные следы на снегу.
Конечно, это звучало фантастично и дико, но вот они, следы, и вот оно, чувство слияния с миром, когда ты – не ты, а, может быть, даже один из волков. Я и до сих пор не знаю, как объяснить те следы босых ступней.
Довольно часто мы на маленьком самолетике летали к бабушке. По дальневосточным меркам это было недальнее путешествие. Дедушка к тому времени уже умер…
Я не знаю, какому богу молилась (и молилась ли) моя бабушка, но если бог был, то он был самый красивый и радостный, какого только можно себе представить. Какой-то колючий цветок, вроде репейника, поставленный в вазу и оттененный веточкой, замшело-зеленеющей… Лежащий на подоконнике камень, сверкающий слюдой… Тонкая фарфоровая чашечка с розовым чаем, настоянным на бруснике… Все эти мелочи бабушкиного быта поражали меня такой красотой и радостью, что я могла часами играть с ними, даже не прикасаясь к ним, а просто любуясь, не по-детски тихо. А в свободные минуты бабушка рассказывала мне сказки. Это были не детские сказки, которые я могла бы прочесть в книгах. В этих сказках мир не делился на черное и белое, на героев и злодеев, а каждый был по-своему прав. Эти загадочные японские истории про лис… До сих пор мне непонятно, кто же такие лисы и как к ним относиться. Духи, оборотни. Но эти духи и оборотни подлаживались к людям, влюблялись в обычных земных людей и служили им. Помню одну историю, как человек женился на Лисе, и она исполняла все его желания. Ему понадобились деньги – и она достала их, но потом оказалось, что эти деньги каким-то лисьим чудом были украдены у других людей. И мужа Лисы посадили в тюрьму за кражу. Когда он вышел из тюрьмы, Лиса сумела убедить его, что не хотела зла, и он поверил ей, снова стал жить с ней вместе. Потом ему захотелось власти и тут же, как по волшебству, погиб человек, который стоял между ним и властью. Опять это были штучки Лисы, и следы преступника привели судей в дом этого человека. Опять он сидел в тюрьме, а Лиса ждала, и по его выходе ей снова удалось убедить его в том, что она не хотела зла. Уж не помню, сколько раз повторялись такие истории с человеком и Лисой и чем все это кончилось. Помню только, что я не выдержала и сказала бабушке:
– Это очень глупый человек! Сколько он может верить лгунье Лисе?
– А она и не лжет, – ответила бабушка, – она действительно не виновата. Ведь она нарушает человеческие законы, но не лисьи.
– Зачем же она тогда полюбила обычного человека?
Затем, что любовь одна, и стоит она не только выше человека, но и выше волшебства, выше всего живого, и достоин ее лишь тот, кто все сложит к ее ногам: мозг, душу и тело.
Я навсегда запомнила этот разговор, потому что он был тихий, серьезный и не нравоучительный. Просто бабушка размышляла вместе со мной, тогда еще ребенком, а не строила свою мысль из блоков-заготовок, как часто делают взрослые в разговоре с детьми. Помню, что ни на один мой вопрос она никогда не отвечала сразу заготовленным ответом.
Помню, как я разорила однажды птичье гнездо – мне нравилось держать в руках трепыхающихся птенчиков, считать удары их маленького сердца.
– То, что ты делаешь, – очень плохо, – сказала бабушка.
– Почему?
– Ты играешь, а они гибнут. Посиди понаблюдай, как тяжело живется ласточке. Понаблюдай и подумай.
И я наблюдала и думала. Потом, совершив какой-либо поступок и сама не зная, как к нему относиться, я думала уже по собственному почину, ставя себя на место других. У меня уже был навык думать. Сейчас мне кажется, что люди, которых считают плохими, на самом деле не плохие, а просто не умеют думать. Другое дело, что импульсивно такие люди совершают почему-то не хорошие, а дурные поступки, что и заставляет нас считать их плохими людьми. Но это все-таки не говорит о порочности человеческой натуры вообще, а просто о том, что совершить дурной поступок гораздо легче, чем хороший. Но я точно знаю, что дурные поступки не только позорны, но еще невыгодны. Что выгадал Алешка, предав Ксану? Эту, так называемую, суровую жизнь? Ну и пусть теперь кушает ее полными ложками.
– Кто бы мог подумать… – бормочет Снегирев.
– Тот, кто мог подумать, – отвечаю я.
Мы опять надолго умолкаем.
В Ленинград мы переехали, чтобы жить здесь и учиться, уже в шестом классе. Все тут было чуждо мне: природа, люди, сам город, хотя красоту этого города я, благодаря своей бабушке, понять сумела, потому что она научила меня понимать, что чуждой человеку красоты не бывает. Это не мой город, но это красивый город. Но вот чего я никак не могла вынести, так это многолюдья. Толпы же орущих детей в наших школьных залах во время перемен заставляли меня терять ощущение себя. Только это была не такая потеря себя, как у нас на Камчатке, она не заставляла меня подняться над собой, а, наоборот, загоняла мое потерявшее лицо существо в маленькое, глупое, вдруг ставшее неловким тело. Мне делалось страшно, я разучивалась ходить и даже стоять и часто замечала, что теряю сознание. И тогда я просто решила не выходить из класса на переменках. Вначале с этим не могли примириться, но потом все же привыкли.
Я оставалась на перемену в классе, а вместе со мной оставались дежурные – иногда двое, иногда один человек. И таким образом, я имела возможность наблюдать отдельных ребят «крупным планом». Из-за моих странностей они не считали нужным прятать от меня свое лицо, сдерживаться в мелочах и вообще соблюдать церемонии. Они не знали меня и потому не знали, что я знаю их. Привычки, любимое словцо, мера щепетильности… На первый взгляд, все это мелочи, но как часто именно эти мелочи давали мне ключ к чужим характерам.
Я знала, что Кузяев, например, не считает неудобным заглядывать в чужие тетрадки и даже в портфели. Нельзя сказать, что он был нечист на руку, но, если можно так выразиться, нечист на душу.
Я знала, что Вика Седова (теперь Снегирева) очень завистлива и не может скрыть этой своей завистливости. Проговаривается.
Знала я и об Алешке Снегиреве. Может быть, я одна во всем классе догадывалась о его подлинном типе, и это лицо было мне малосимпатично. Правда, у меня были и личные основания его не любить. Дело в том, что Алешка был последним, кто отстал от меня из-за этих переменок. Уже учителя махнули рукой, уже все ребята примирились, но Алёшка упорно продолжил гнать меня из класса. Его бесило не то, что я нарушаю школьные правила, а то, что я не подчиняюсь ему. Он был буквально помешан на укреплении собственного авторитета, ни в чем никому не желал уступить, а своих многочисленных друзей просто дрессировал: за что-то наказывал, за что-то поощрял, в общем, разыгрывал господа бога.
– Сейчас она не выходит из класса, а завтра вообще сядет нам на шею, – говорил он своему лучшему другу Горбоносу, когда тот просил оставить меня в покое. Алешка дошел до того, что распустил руки, пытался меня как-то отлупить, чего не делал даже Кузяев. В общем, у Снегирева была очень сильная воля. Сильная воля и… никакого характера. То, что другие принимали за характер, было чисто внешним: толстоват, медлителен, добродушен… О это добродушие! Помню, как он однажды разговаривал при мне с Осокиным, у которого украли чужой фотоаппарат. Достать из-под земли, украсть, что угодно, но – вернуть. Для мальчика семнадцати лет это было слишком бойко, уж слишком жестоко. Как корчился бедный, слабый Осокин! Но, несмотря на это, Осокина мне было жалко, а Снегирёва я возненавидела. Я знала, что Снегирев чуждый мне человек. Суетливый раб своего мелкого тщеславия. Теперь же я знаю уже нескольких людей его сорта и даже могу попытаться назвать основные черты их отличия от нормальных людей. Про себя я называю таких, как Снегирев, абстракционистами. Почему? Ну, наверное, потому, что все их поступки и желания противоречат человеческому естеству, понятия о добре и зле для них абстрактны. Эти люди часто поступают вопреки себе и другим, лишь бы не нарушить какие-то никому не нужные, заплесневелые догмы, которые заменяют у них ум и сердце. Сколько я помню Снегирева-юношу, он всегда был против естественных человеческих радостей, он все время воевал за свои абстрактные правила, которые, конечно же, были суровы, даже когда не было такой необходимости.
Теперь я понимаю, что могло случиться у Алешки двенадцать лет назад по отношению к Ксане. И понимаю, какой дурой была я и какую дурацкую сыграла роль.
Помню, как я вышла на несколько минут из класса в ту перемену… Когда я неожиданно вернулась, Ксана отскочила от Викиной парты. Нет, я даже на секунду не подумала, что она что-то взяла у Вики, хоть вид у нее был смущенный и перепуганный донельзя. Кем ни стыдно сознаваться, но эта брошка взволновала и мое воображение. Я ведь ее фактически и не рассмотрела, потому что это было против моих правил – толпиться вместе с другими, толкаясь локтями. Но после того как эта вещица сверкнула в руках Ксаны, она стала интересна и мне.
И вот, когда Ксана, в свою очередь, вышла из класса, я залезла в Викин портфель. Брошка лежала на самом виду, в маленькой коробочке на учебниках. Я догадалась, что брошку трогала Ксана, потому что Вика не могла бросить ее так небрежно. Значит, брошку трогала Ксана, а я помешала ей положить ее на место. Я стала думать, куда бы могла положить ее сама Вика, и не придумала ничего лучше, как сунуть в маленький карманчик портфеля. Помню, что сердце у меня билось как у настоящей воровки – потом за всю свою жизнь я не испытывала более омерзительного ощущения. И ещё помню совершенно необъяснимую злобу на Вику. Зачем она притащила эту брошку, зачем ей понадобилось вынуждать меня лазать по чужим портфелям… Но, как я теперь понимаю, это было вполне в Викином характере, хоть чем-то удивить других, хоть чем-то выхвалиться, обратить на себя внимание… Купить.
Ну, а потом была эта безобразная сцена с уличением Ксаны. Ксана вела себя так, что, не знай я правды, я бы тоже подумала, что брошку взяла она. Но я правду знала, так же как знала, где лежит брошка. Сказать все, как есть? Этого я не могла сделать, потому что считала свой поступок гораздо более постыдным, чем воровство. Это я-то! Из простого любопытства!.. Бр… И я созналась в другой вине, уверенная, что все вскоре разъяснится. Но ничего не разъяснилось. Никто не извинился передо мной, никто не сказал правды. А я так ждала!
Я глупо злилась на других, прекрасно зная, что сама виновата. О том же, что в краже подозревали Ксану, я узнала только сейчас. И только сейчас мне стало ясно, почему рассыпалась у нее дружба с Алешкой. Мы оба с ним узнали это сегодня.
По правде говоря, судьба сыграла в своё время хорошую штуку, она распорядились справедливо, отдав кесарю кесарево. Мне трудно вообразить то, что могло получиться из любви Алёшки и Ксаны. Такие люди, как он, умеют так сгибать и порабощать близких, что только диву даешься. А у Ксаны, в отличие от Алешки, был только характер и не было этой несчастной силы воли, которая все ломает на своем пути. В лучшем случае они бы разошлись, а в худшем… Даже страшно подумать…
– Все ты врешь, Снегирев, – сказала я. – Человек живет для радости.
– Вот как? – взросло усмехнулся он. – А быт? А неприятности на работе? Уж не удалось ли тебе, Петровская, избежать всего этого?
– Удалось, Снегирев… Потому удалось, что я не ставила себе невыполнимых задач ни в быту, ни в работе. Знаешь, есть такой анекдот про Диогена… Сидит Диоген в своей бочке, подходит к нему другой философ, разодетый в пух и в прах, и говорит: «Сидишь в бочке, Диоген, и ешь чечевичную похлебку. А все потому, что не умеешь заискивать перед сильными». А Диоген отвечает: «Заискиваешь перед сильными, терпишь унижения, а все потому, что не умеешь жить в бочке и есть чечевичную похлебку». Ясно?
– Что ясно?
– А то, что не стоит из-за материальных благ убивать свой дух. Брюхо, оно ненасытно. Для тех, кто это знает, быт не страшен.
– И как же твой муж относится к этой философии?
– Наверное, так же, если он мой муж.
– И вы не чужие? Тогда я тебе завидую. Ты феномен. У всех моих знакомых жизнь складывается иначе.
– Тогда надо сменить круг знакомых.
– Да пойми ты! – вдруг заорал он. – Если бы я только знал, с кем я живу! Если б меня не обманули с самого начала!
– Опять врешь. Ты сам себя обманул.
– Это демагогия. Ты не знаешь, как я любил Ксану, как тяжело мне было убить в себе эту любовь!
– Никакой любви не было.
– Да как ты смеешь, да что ты понимаешь…
– А ты знаешь, Снегирев, что такое любовь? Любовь, это когда девушка, опоздав на свидание, говорит, что электричка метро, вместо того чтоб довезти ее до площади Восстания, почему-то увезла ее в город Воркуту, а ты этому веришь. Если не веришь, – значит, не любишь. Ведь Ксана же сказала, что не брала брошку.
– Но у нее было такое лицо…
– Ваши лица были не лучше, чертовы правдоискатели. Вы травили человека и хотели, чтоб он при этом был невозмутим? Но невозмутимость дается только вконец испорченным людям…
– Легко же тебе говорить все это сейчас… А тогда…
– А тогда надо было просто верить. И в Ксану, и в счастье…
– Может, и сейчас ты прикажешь мне верить моей так называемой жене?
– Ну, поскольку она сказала правду…
– И жить с ней как ни в чем не бывало?
– А ты уверен, что она хочет с тобой жить?
– То есть как? Она-то меня любит…
– Если ты в этом уверен, то, значит, надо жить с ней. Сначала.
Он задумался. Долго молчал. Потом заговорил:
– Странная ты, Петровская. Ты толкаешь меня на поступки, которые мне выгодны. Но они ведь абсолютно беспринципны.
– Так ведь я и советую тебе сменить принципы. Вместо суровости и подозрительности избрать доверие и радость.
Он опять задумался. Я наблюдала за ним, гордая тем, что поселила в нем сомнение в его правоте. Мне даже кажется, что он впервые задумался о таких вещах. Ну и бедненькая же жизнь была у него, если он не знал таких истин! Но я уже не могла его ненавидеть, не могла презирать. И это только потому, что мне удалось заставить его подумать. А вдруг он все-таки мог стать иным? Но тогда вина Вики им растает тысячекратно.
Мы приехали. Я остановила машину, но он продолжал сидеть в ней рядом со мной. Чтоб вывести его из задумчивости, я зажгла свет.
– Почему я не думал об этом раньше? – спросил он. – И потом, нас же всегда учили быть принципиальными…
– Но не жестокими. А если даже кто-то из учителей путал эти понятия, то нечего было лезть вон из кожи в порыве ученичества.
– Опять ты права, Пет… – он глядел на табличку с фамилией шофера.
– Бах? Ты – Бах? – у него глаза вылезли из орбит.
– Бах бах, бабах!!! Да, я Бах.
– Послушай, но ведь он, я слышал, какая-то большая шишка в университете…
– И я ему не пара? Глупости это, Алешка. Это важно дуракам.
И опять я заставила его задуматься. Ну что ж, подумать он может и без меня. А мне пора в парк.
Отъезжая, я видела, что он стоит у своей парадной и смотрит мне вслед. Что он решит, как поступит?
И если сумеет задуматься в этом случае, то появится ли у него вообще потребность думать? Не формальное «я думаю» – и поза «Мыслителя» Родена, – а настоящее умение? Навык?
Но мне сейчас нужно было думать о светофорах.