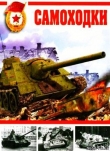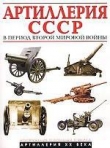Текст книги "По дорогам войны"
Автор книги: Альфред Рессел
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Помогая нашей стороне, мы хлопали в ладоши, топали ногами и громко кричали. Дети забавлялись от души.
Около полудня 7 июля 1940 года "Мохаммед Али эль Кебир" бросил якорь на рейде Ливерпульского порта.
Мы вступили на землю Англии. Как когда-то во Франции, так и здесь я задавал себе вопрос: как нас примет эта страна? Англию мы знали как страну храбрых, сильных, как страну, где царит порядок и дисциплина. Как же нас примут здесь большие господа и маленькие люди, те, кто творит историю?..
После высадки мы строем зашагали по улицам Ливерпуля на вокзал. Вдоль тротуаров быстро образовались густые шпалеры жителей – старых и молодых, детей и женщин. Люди рукоплескали нам, поднимали в знак приветствия большие пальцы, бросали нам цветы. Там и сям кто-нибудь выбегал на проезжую часть и совал идущим солдатам пачку сигарет, табак или просто легонько пожимал руку в знак симпатии. Это было очень мило с их стороны. После печального опыта с французами мы этого совсем не ожидали. В то время мы не могли бы говорить об английской сдержанности в проявлении чувств. И хотя от Франции, мечущейся в хаосе и беспорядке, нас отделял лишь узкий пролив Ла-Манш, мы в первые же часы пребывания на английской земле почувствовали себя совсем в ином мире. Сразу было видно, что мы находимся в стране, где царит порядок и дисциплина.
С ливерпульского вокзала мы сели в приготовленные для нас железнодорожные составы, доехали до станции Бистон-Касл и по безукоризненной дороге зашагали в Чамли-парк – пункт нашего назначения. По пути нас дружески приветствовали из своих садиков жители. Они поднимали вверх большие пальцы, желая удачи. Радостно, доброжелательно встречали они наше маршировавшее войско и спрашивали, кто мы такие. "Чехи, чехи..." слышалось вокруг, и по их лицам можно было понять, чтя они уже о нас кое-что знают. Чистые, ухоженные загородные домики с встроенными черными брусьями, по самую крышу увитые зеленью, производили впечатление уюта. Коротко подстриженные газоны с пестрыми пятнами цветов в бордюре так и приглашали посидеть на них. И ко всему этому – открытые лица и бесхитростные взгляды жителей. Могли ли мы желать большего?
Мы прибыли из разложившейся, слабой Франции в организованную страну, в страну, которая решила дать отпор агрессору. Но чем? Голыми руками! До острова после отступления из Дюнкерка добралось примерно 350 тыс. человек, а все их вооружение стало добычей противника. Для обороны Англии не было орудий, зенитной артиллерии и прежде всего танков. Легкое оружие, которым располагала армия, если не считать легкого пулемета типа Брен, который производился по чехословацкой лицензии, было устаревшим, но и его не хватало. Ополчение, состоявшее из бывших военных и штатских, вооружалось в силу необходимости берданками и заостренными железными прутами из ограждений парков. Пошли в ход даже исторические алебарды из музеев и родовых имений как оружие, удобное для ближнего боя. Ко всему прочему Черчилль в эти критические для страны дни откомандировал единственную танковую дивизию, которая могла бы помешать немецкому вторжению в Англию, на Средний Восток для охраны жизненно важных коммуникаций с Индией. Несколько кораблей с грузом винтовок, которые Рузвельт спешно велел отправить в Англию, были слабым подспорьем мужеству британцев.
По пути в Чамли-парк мы перешагнули лежавшее поперек дороги дерево. Оно должно было служить противотанковым препятствием. И это посреди местности, где танки легко могли двигаться во всех направлениях! Это казалось смешным, даже наивным, но это было честно. Собственно, это совсем не было смешно. Все, что служило обороне, англичане принимали с величайшей серьезностью. Они героически сражались бы всеми средствами, какие оказались бы у них под рукой, умирали бы тысячами под ударами агрессора, но не сдались бы. Единственное, что они могли противопоставить для отпора врагу, были их воля и отвага. Несокрушимая воля к сопротивлению!
Их учил этому новый премьер-министр Уинстон Черчилль. Вместо чемберленовского "мира на одно поколение" он предложил британцам кровь, слезы и пот. И упорную оборону каждой пяди земли!
Сила воли, целеустремленность и решимость всего народа дать отпор Гитлеру и бороться за "каждый ручей, каждый холм и каждое селение" в сочетании с морем сделали из Англии, несмотря на ее временные роковые слабости, трудноодолимый бастион. "Белые скалы Дувра", символ английской несгибаемости, не раз воспетые в стихах и песнях, образовали первую оборонительную линию Англии. Британская уловка с укреплениями на юге и юго-востоке страны и удачный стратегический камуфляж завершили дело великолепной обороны Великобритании, катастрофически слабой и одновременно неодолимо сильной.
После капитуляции Франции решалась судьба всего мира. Простые англичане были готовы тогда голыми руками задушить убийцу. И я восхищаюсь жителями Уэльса, знаменитого своими коровами Чешира, тружениками Лондона и промышленного Манчестера, выходцами из гористой, полной очарования Шотландии – всеми честными людьми британской земли!
Пролив Ла-Манш какое-то время действительно был оборонительным заслоном против фашизма. Только римляне достигли английских берегов. Наполеон винил в своей неудаче бурю, Гитлер – море. Но все они запамятовали храбрые сердца за "белыми скалами Дувра".
Счастливые люди! В воскресенье 7 июля 1940 года они, улыбаясь, возвращались из Биркенхеда на катерах в свои ливерпульские квартиры и шумно приветствовали нас на "Мохаммеде", потерпевших кораблекрушение. И это происходило уже после Роттердама и Дюнкерка, после того, как самый роскошный боевой корабль Альбиона "Ройал Оук" с экипажем, насчитывавшем -1800 человек, лежал в Скапа-Флоу на дне морском, после того, как в сентябре 1939 года в Европе разразилась самая жестокая война в истории человечества. Однако многие в Англии еще не принимали войну всерьез, а гитлеровцы еще не казались им такими грозными. "Пусть, мол, они нам наподдали, но на то ведь она и война!" Удивительные люди!
Между тем наше "чехословацкое суденышко" носилось по бурным волнам эпохи и уже дважды переворачивалось: первый раз в сентябре 1938-го, второй – в 1940 году во Франции.
Сколько драгоценных человеческих жизней удалось бы сохранить, если бы длинный нос Его Лордства почуял, откуда дует ветер до того, как разразилась катастрофа, если, бы предыдущий кабинет Его Величества видел дальше кончика своего носа. Сколько времени и возможностей было упущено, прежде чем те, кто обязан был знать, прозрели!..
Из Чамли-парка в Лондон
Английский парк – это надо видеть! Большой простор, почтенные дубы и липы, растущие купами, а сквозь них просматривается холмистый пейзаж с тропинками, зовущими к каждодневному моциону. Пастбища и луга во время войны кое-где были превращены в поля. В 1940 году, когда мы поселились в парке, между деревьями колосилась золотая пшеница, а в их тени паслись пестрые коровы. Английские дубы меня околдовали.
Палаточный городок примыкал к деревьям, и чехословацким солдатам жилось здесь не плохо. Оснащение лагеря было удовлетворительным. Здесь достигли кульминации события, завершившиеся 26 июля 1940 года, в день приезда президента Чехословацкой республики, когда из армии в знак протеста ушло 539 военнослужащих. Это все были последствия Франции.
После эвакуации из Франции я в Англии не занимал никакого поста и был включен в список "офицеров без функций". Незаслуженная участь наполняла меня горечью, однако мое тогдашнее положение позволяло острее чувствовать, что происходило вокруг и в самих людях. Я лучше видел зависимость между причинами и следствиями. Франция повторялась. Ночью в мою палатку тайком приходили недовольные солдаты и молодые офицеры, делились со мной своими сомнениями и разочарованиями. Были среди них и такие, кто хотел все разрешить кратчайшим путем.
Отношения в чехословацком лагере в Англии действительно были сложные. Граждане республики, нашедшие здесь после бурных событий на европейской континенте временное пристанище, пережили деморализующее влияние поражения Франции и тогдашней французской среды в целом. Измученные тем, что надежда на возвращение домой угасала, люди были сбиты с толку быстрой сменой событий и переменой взглядов. Бурно кипели идейные разногласия, возникшие уже во Франции; политическое и классовое расслоение в армии углублялось, начали заметно ослабевать служебные, а затем и личные связи. Участились случаи индивидуального и массового грубого нарушения дисциплины. В лагере царила атмосфера неуверенности и недоверия одних к другим. Исчезло чувство взаимного уважения, активизировались отрицательные стороны человеческой натуры. Люди честные, патриотически настроенные (а таких было большинство) тяжело переживали моральный кризис армии. Эти люди искали методы и средства, чтобы добиться перелома.
Ключ к решению проблемы был в руках командования армией. Однако командование, а с ним и многие командиры и штабные офицеры не обладали достаточной чуткостью и гибкостью, чтобы понять, что образ мыслей и чувств солдат в армии мирного времени на родине и дух одиноких добровольных бойцов за свободу своей далекой отчизны – две разные вещи, требующие разного стиля в работе и разного подхода к людям и проблемам времени, а также другого сердца и другой головы.
Проявляя невероятную тупость, тогдашнее командование даже не попыталось вскрыть истинные причины разложения болевого духа. Оно упрощало свою ответственность, изыскивая виновных лишь за пределами своего круга; соответственно выглядели и его потуги поправить дело. Кризис разрешали бюрократическим путем – приказами в письменном виде, а главное – запретами и наказаниями при полном исключении личного контакте. А люди хотели услышать откровенное слово понимания, ободрения, осуждения. Без персональных изменений все это, конечно, осуществить было невозможно, поэтому армейское командование занималось администрированием – в письменной форме, строго, неуклонно. Оно не допускало других взглядов и идей, да и вообще их не требовало. Оно все знало, все предвидело. Это был авторитарный режим, возведший глухую стену между собой и подчиненными. Такой режим душил всякий взлет, убивал инициативу в людях. Вследствие этого режима служить стало безрадостно, пропадал энтузиазм и интерес к делу. Многие открыто говорили: с такими командирами мы проиграли в 1938 году; с ними ничего не получилось во Франции; в результате их бездарности мы в конце концов попадем, как недисциплинированная часть, за проволоку концентрационного лагеря.
Затем настало 26 июля 1940 года.
Об ошибках и заблуждениях командования армии и некоторых командиров, которые в значительной мере способствовали обострению противоречий, я в обход служебных предписаний 5 августа передал через посредство Франтишека Углиржа, с которым познакомился на пароходе и о котором знал, что он является сотрудником в аппарате президента Бенеша, особый рапорт верховному главнокомандующему чехословацкими вооруженными силами Бенешу. В дневнике я записал об этом так:
"29 июля.
В покинутом стане снимают палатки. С уходом 539 солдат проблема "разрешена". О них не говорят, но чувствуется, как всем стало легче оттого, что они ушли. Я в последние дни много размышлял об этом событии. Я считал своим долгом честно высказать правду. У меня не было влияния, чтобы изменить ход событий, но я могу воздействовать на их дальнейшее развитие объективной информацией. Люди доброй воли не могут остаться в стороне. Речь идет о внутренних делах чехословацкой части. Я проведу анализ затяжного кризиса (начало которого следует искать еще в период создания чехословацкой армии во Франции) и передам материалы Ф. У. с просьбой вручить их президенту. Впрочем, это он и сам мне предлагал..."
5 августа в Лондоне я передал свой рапорт Углиржу. В нем было 26 страниц. На основе моих аргументированных доводов Франтишек Углирж мог в Лондоне доложить соответствующим лицам о склонности некоторых чехословацких офицеров к фашизму. Позже Углирж сообщил мне, что президент мой рапорт принял.
В своем рапорте я сообщал о реакционной настроенности ряда офицеров, приводил свидетельства о дискриминации так называемых испанцев, о недемократических методах расследования и наказания проступков, о невероятном бюрократизме высших начальников и их штабов, о значительном падении дисциплины и морали, а также о других перегибах, спорах и проблемах. В рапорте предлагались и меры по исправлению положения. Например, предлагалось выдвинуть на командные посты бывших бойцов интербригады, обладающих опытом и высокой сознательностью, пользующихся авторитетом у солдат. Еще во Франции я никак не мог понять, почему этого не делается. Я предложил также провести необходимые персональные замены и конкретные меры по укреплению дисциплины и морального духа.
Ни одно из этих предложений осуществлено не было.
* * *
С политической точки зрения события 26 июля произошли в крайне неблагоприятной обстановке, в критический момент, в тот период, когда Великобритания одна противостояла Гитлеру и вторжения следовало ожидать в любую минуту. Все было поставлено на карту. Поражение Великобритании позволило бы Гитлеру сосредоточить почти весь огромный военно-экономический потенциал, которым располагал тогда рейх, на одном-единственном фронте против Советского Союза. Общее мнение тогда сходилось на том, что Гитлер в ближайшем будущем нападет на СССР. В тот период долгом чехословаков по отношению к родине, проявлением лояльности к борющейся Англии и практическим выражением позитивной позиции к Советскому Союзу было не ослаблять антигитлеровских военных усилий, а сосредоточить общие силы на обороне острова.
В событиях в Чамли повинно не одно какое-то лицо: вина ложится на всех. Были грубые перегибы со стороны командиров, но и подчиненные не выполняли своих обязанностей. Когда наиболее сознательная часть лагеря стала нарушать дисциплину, это позволило лицам, которые не относились положительно к нашему делу или со временем перестали к нему так относиться, свести на нет все усилия исправить положение. Атмосфера в лагере стала чревата конфликтами. Царило непонимание и нетерпимость, всем не хватало политической дальновидности и тактической прозорливости. Непримиримые противоречия мешали правильно оцепить реальную действительность. Максималистские требования и односторонняя догматическая позиция в условиях 1940 года не могли конструктивно способствовать преодолению кризиса и установлению прочного единства в рядах бойцов. Наибольшая вина ложится на саму систему и на тех, кто эту систему внедрил и упрямо поддерживал.
Лучше уж не вспоминать...
* * *
Все имеет свой конец, плохой либо хороший. Дождался его и я. 3 августа в 16 часов я уезжал к семье в Лондон. Впервые в Лондон! Удивительны судьбы человеческие! Поезд довез меня до Кру, важного промышленного центра, где я пересел на скорый, шедший в Лондон. Этот город имел важное значение для обороны страны, это было видно уже издали. Всюду вокруг качались аэростаты воздушного заграждения, по земле то и дело пробегала тень истребителя.
Графство Чешир – первое по пути следования в Лондон. Кругом – пастбища и пастбища, разделенные заборами или живой изгородью на четырехугольники, а в них лениво пасутся в зелени бурые и пестро-черные коровы. Прекрасные животные даже не оглядываются на поезд. В море пастбищ теряются крошечные участки овса, кое-где мелькнет золотое сияние спелой пшеницы. Среди пастбищ попадаются невысокие дубы, растущие в одиночку, группами или рядами. Коровы, коровы, а также овцы и – королевские дубы на фоне пастбищ. Все это Чешир и графство Стаффордшир. Порой в густой зелени вспыхнут красные стены фермы, засияют цветочные клумбы, взгляд утонет в английском газоне. Газоны в Англии – это естественные ковры, густо сотканные и такие нежные, что даже не верится, что это трава. Наверное, ее стригут под машинку, иначе никак не объяснишь эту мягкость...
Поезд летел все дальше, за окном продолжали мелькать сельские ландшафты. Мы проехали через Стаффорд, миновали город Рагби. Наш скорый с ревом промчался мимо станции Блетчли. Спустя три часа пути через графства Уоркшир, Нортгемптоншир, Бакингемшир и Хартфордшир картина за окнами начала меняться. Сеть дорог стала гуще, кое-где мелькала гладь канала, из парка выглядывали охотничьи замки. Пастбищ стало меньше, обработанных полей больше, зачастили железнодорожные станции. Но что это? Исчезли названия станций и населенных пунктов, сняты таблички с домов и улиц, нет указателей на дорогах, замазаны рекламы с местными обозначениями – нигде ничего не прочтешь. Таким приемом были обезврежены многие гитлеровские парашютисты и агенты. Потеряв ориентацию, немцы вынуждены были расспрашивать местных жителей, чем и выдавали себя, несмотря на прекрасное владение английским языком. Что им было толку от записанных в путеводителе станций, если они не знали, где находятся!.. Гуще пошли промышленные предприятия, дома городского типа рядами стояли один к одному, почти неразличимые. Однако до Лондона еще оставалось 45 минут пути...
Мы въехали в него как-то вдруг. Как в пестром калейдоскопе, слева и справа от поезда замелькали пригородные дачи, а затем мы оказались в густом скоплении типично лондонских домов и домиков, которые, будто от нехватки света, вытянулись в высоту. Предприятия, станции, склады и улицы, .эстакады, виадуки и тоннели, а между ними дома, дома и опять дома, а мы все мчались, оглушаемые дребезжащим грохотом поезда, и я не поспевал взглядом за бешено летящим миром за окном. Сумеречный свет, свет уходящего дня, внезапная тьма и опять свет – и так все повторялось снова и снова. Серая масса камня и кирпича, которую столетья нагромоздили на этот полный диссонансов участок земли, то отступала, то вплотную придвигалась к поезду, и я невольно спрашивал себя, когда же этому придет конец. Прошло полчаса, а может и больше, прежде чем поезд остановился и я оказался на лондонском вокзале Юстон.
Мог ли я когда-либо предполагать, что нога моя ступит на эту землю? Взволнованный, я некоторое время стоял на перроне, а затем окольными путями отправился к цели. Спустился в лондонское метро, а потом в затемненном городе взял такси. Мы ехали долго и часто останавливались: водитель освещал таблички с названием улицы и номером дома.
Наконец мы были на месте. Я позвонил. Двери открылись, и мы обнялись. Мы виделись в последний раз 13 марта 1939 года. На следующий день ночью Эмиль Штранкмюллер – майор генерального штаба и начальник второго отдела службы информации МНО (министерства национальной обороны) вместе с полковником Моравецем и его группой информации вылетели в Лондон. Это было около полуночи. А на рассвете 15 марта в Прагу вошли немцы.
Я поздоровался с Франтишкой и супругой майора Штранкмюллера, не замечая, что в той же комнате на постели сидел Милан и ждал, когда дойдет очередь до него. Однако ждать было превыше его сил, и он бросился ко мне, раскрыв объятия. Минуту спустя то же самое сделал Фред.
Через несколько дней я вернулся в лагерь.
Блиц
Прошло время. Каштаны поржавели, а липы почти совсем облетели. 14 сентября 1940 года я выехал из ворот Чамли-парка в Кру, на поезд. Стояла тихая, теплая, меланхолическая осень. Я вспоминал, как сухо простился со мной сегодня генерал Мирослав Нойман. Он смотрел на меня, как смотрят на неодушевленный предмет. К сожалению, во главе чехословацкой армии стоял человек, который, кроме честности, не имел личного отношения ни к чему! Разве мог человек такого типа сплотить расколотый коллектив лагеря?..
В Лондон я приехал совсем затемно. Последний раз я был в столице 3 августа. За это время здесь многое изменилось. На Оксфорд-сёркус я хотел спуститься в метро, но меня туда не впустили. Платформы были забиты женщинами и детьми, которые проводили здесь ночь на импровизированных постелях из одеял. Женщины вязали, читали, разговаривали. В скором времени такая же участь ждала и нас. В прошлый раз такого тут не было. Когда же я все-таки проехал на метро и вышел на другой станции, сирены как раз гудели отбой – конец воздушного нападения. Мне все стало ясно, в том числе и то, почему поезд замедлял ход перед Лондоном.
Таксист привез меня в какое-то место и велел выходить. Было полное затемнение: кругом не видно ни зги. Потом кто-то, кого я даже толком не разглядел, посоветовал мне сесть на автобус. Пришел автобус, но не взял меня. Пришлось ждать следующего. Следующий не шел в Далидж. Я сел только на четвертый автобус, но далеко мы на нем не уехали. Началась новая воздушная тревога. Все пассажиры вышли на остановке возле британского парламента и побежали в убежище. Я остался на улице один. Здесь я еще никогда не был. Большой Бен грозно поднимался прямо передо мной, и я невольно подумал, как это странно – стоять здесь в темноте во время налета, в том месте, где делается история Англии. Мне было жутко в чудовищно огромном, казалось, вымершем городе, занимавшем площадь 4200 квадратных километров. Яркий свет прожекторов прорезывал ночь, адски грохотали зенитные орудия, а кругом была пустота. После отбоя водитель довез нас до Брикстона и там всех высадил: было уже поздно, и автобус дальше не шел.
В полночь надо мной сжалился случайный таксист, окончивший смену, и взял меня попутно. Мы ехали довольно долго, прежде чем нашли улочку Розендейл-Роуд и осветили фонариком-номер 131. Было около часу ночи, когда я добрался домой.
Проснувшись, утром я увидел необыкновенно ясное небо. Лондон был залит солнцем, недвижный воздух был напоен сладковатым запахом осени, а в поседевших кронах деревьев еще таилась усталая тяжесть урожайного лета. Эта осень не показалась мне какой-то английской, так как очень походила на нашу мирную осень. Но этот мир на земле длился недолго. Внезапно небо превратилось в поле битвы. В немом изумлении следили мы из сада, как высоко в небе яростно роились серебристые мушки вокруг более медлительных немецких бомбардировщиков. Английские истребители типа "Харрикейн" и "Спитфайр" бешено проносились по небу, оставляя за собой причудливо переплетенные белые линии. Истребители внезапно бросались на вражеские формирования, затем отваливались в разные стороны, принимая разнообразнейшие положения, или, крутясь, стремглав неслись к земле. И в ту минуту, когда у нас в жилах застывала кровь при мысли, что стремительный полет к земле одного из "Харрикейнов" продолжался как-то слишком долго, самолет выходил из пике и по элегантной дуге взмывал ввысь. Мы стояли, немые и восхищенные свидетели гигантской воздушной битвы за Англию, и "болели" за героев-летчиков. Среди них были и наши, чехословацкие.
Время близилось к полудню, когда в голубых небесах раскрылись два парашюта. Немцы. Как куклы, качались они из стороны в сторону, неумолимо приближаясь к земле, которую ненавидели. Через некоторое время их провели мимо нас.
* * *
Мы собирались ужинать, но, готовя еду, все ужасно торопились.
– Что с вами? – спросил я.
– Увидишь сам – ответила Франтишка, чем-то явно напуганная.
Когда мы сели за стол, завыли сирены. Все вскочили и помчались в укрытие. К чему такая спешка? Я тогда еще не знал, что у них уже есть опыт, и остался один за длинным столом. "Я отсюда не уйду!" – мысленно заявил я себе со всей решимостью. И тому были причины. Вчера еще я топтал лужайку какого-то лорда в Лагере чехословацкой армии в Чамли-парке, а вечером в запутанном лабиринте темного Лондона ощупью искал дорогу к одной из тысяч улочек большого города. И вот, когда наконец я оказался за столом с изысканными блюдами и напитками в покинутой всеми столовой домика на Розендейл-Роуд, нужно было– уходить. Кто бы захотел все это бросить? И с чего эти страхи? Лондон же такая громадина, а наш домишко – такая кроха! Какая же тут опасность?
Но тут в столовую вбежала моя жена, в глазах ее был ужас. Она схватила меня за руку и потянула к дверям. Потом меня неделикатно затолкали в укрытие и кто-то прихлопнул за мной дверь. Мы были в убежище. Это изобретение называлось "андерсоново укрытие", по имени некоего мистера Андерсона, члена военного кабинета Черчилля, рассудившего, что на худой конец хороша во дворе перед домом и собачья конура из гофрированного железа, чуть-чуть присыпанная землей. Кое-кто эту конуру переименовал в "могилку" и, как показал лондонский опыт, не без основания.
Наша "могилка" имела площадь четыре квадратных метра, воздуху в ней было кубометров шесть. В ту ночь сюда набилось трое женщин, трое детей (Фред сидел в укрытии у соседей), один полковник и три майора чехословацкой армии. Укрытие находилось в саду, в пятнадцати метрах от дома, заглубленное в землю по дуге в семьдесят градусов. До половины высоты стены из гофрированного железа были обложены землей. Как сельди в бочке, набились мы в черную дыру убежища. Я сидел у самых дверей, протянув ноги через чьи-то еще. Все ждали. Франтишку я в темноте не видел. Долго стояла тишина. Я впервые был в укрытии. В Чамли-парке мы обычно по ночам, стоя, следили за полетом немецких бомбардировочных соединений, шедших на Ливерпуль, и чувствовали себя в безопасности:
Тишину ничто не нарушало. Был ли смысл и дальше сидеть в этой тесноте?
– Спокойно, уже скоро, – заметил мой сосед. – Ночь ясная. Сейчас прилетят.
Ожидание чего-то плохого, что должно неминуемо произойти, но еще не происходит, страшно выводит человека из равновесия. Мы стали нервничать. Почему они не летят? Все хотели, чтобы это уже поскорее прошло.
Наконец небеса над нами разверзлись. Гулко взревели моторы в зените. Это были неприятные минуты, разумеется, чисто психологически: ведь самолет в зените для нас уже был безопасен! Бомба, которую он сейчас сбросит, не упадет уже нам на голову, она полетит вперед. А что, если он сбросил ее раньше и именно сейчас она опускается на Розендейл-Роуд, 131? Расстояние, которое пролетит бомба по инерции после бомбометания, – счастье для одних и гибель для других. Дети спали.
Батареи неподалеку от нас производили страшный грохот. Когда они стреляли тяжелыми снарядами, наше убежище дрожало. Потом мы слушали разрывы где-то далеко от нас. Они доносились, как мягкий гул из глубин воздушного пространства, как удары под периной. Потом – тишина, опять удары и опять тишина. Затем на нас обрушился град осколков. Они глухо били по крыше, звякали о камни, звенели, ударившись рикошетом о водосточную трубу.
Казалось, настала наша очередь. Стояла удивительно ясная ночь: накануне было полнолуние. Я ощупал железную стенку. "Прочная, выдержит!" назойливо уговаривал меня какой-то внутренний голос. "Лопнет, как скорлупка"! – уверенно заявлял другой. "Не рассуждай и верь! В вере спасение! – мысленно говорил я себе. – Если тебя обманет твоя вера, ну и что из этого? Что будет, того не узнаешь..."
Батареи усилили стрельбу. И только теперь я вдруг осознал, что надвигается катастрофа, что она все ближе и ближе. Кругом грохотали орудия, оглушали взрывы, и меня все больше одолевало предчувствие, что этой ночью о нами что-то случится. Я попробовал разобраться в своих чувствах. С пятнадцати лет я жил вдали от родителей, моя мама умерла шесть лет назад, но вот в эти минуты я внезапно ощутил себя сиротой, который ищет защиты от смертельной опасности в воспоминании о матери. Как если бы она была моей защитой...
Я приоткрыл дверь убежища, чтобы увидеть жену. Она сидела и смотрела на меня. Почему она смотрит так странно, почему она вообще сегодня не такая, как вчера и даже минуту назад? Самолеты все еще были над нами.
Вот и бомбы. Кажется, будто они падают прямо тебе на голову. Первая бомба резким ударом разрывает воздух. Наше укрытие дрогнуло. Вторая и третья бомбы упали неподалеку. Все замедленного действия. Потом пошли фугаски: одна взорвалась недалеко от нас, другая упала на седьмой дом слева. Они все еще летят над нами. Цель налета – район Далидж и аэродром, расположенный невдалеке. Я оглянулся на людей. Все они смотрели на вход, как бы ожидая оттуда спасения. Никто не говорил. Я старался не смотреть в глаза жене, но в какой-то момент все же встретился с ней взглядом. В ее глазах было нечто такое, как миг великого удивления перед концом.
Батареи работали иа полную катушку. Канонада слилась в оглушительную лавину звуков, и наши уши уже ничего не воспринимали. Вдруг совершенно неожиданно воздух дрогнул от страшного удара. Мы все скорчились. Потом чудовищная сила небрежно встряхнула убежище, приподняла его и снова грубо всадила в землю. То, что с нами в ту минуту происходило, наши чувства зарегистрировали лишь через какое-то время. "Дом!" – крикнул кто-то. В одно мгновение все небо перед нами было охвачено красным заревом, но это горел не наш, а дом напротив. Сквозь щель я старательно разглядывал очертания нашего дома на фоне безоблачного, озаренного луной неба, но сколько ни глядел, не видел никаких повреждений: темный силуэт дома No 131 был без изъяна. Наш дом уцелел, хотя и был близок к гибели.
В наступившем затишье мы быстро проверили сад, ища бомбы замедленного действия. Одна лежала за укрытием. Когда она взорвется – неизвестно. Повсюду вокруг лежали бомбы. Мы были как в ловушке.
Час за часом уходил в вечность. Скоро наступит полночь. Час короток, если у вас три дня увольнительной, по час и отчаянно долог, когда ждешь света нового дня, который настанет только через пять часов. Главная мощь удара ослабевала. Все с облегчением вздохнули.
– На сегодня – все, – убежденно говорит полковник и начинает рассказывать анекдоты в ожидании отбоя, когда "отменят тлевогу", как лепечет маленькая Эвичка Штранкмюллер.
Ничего с нами уже не случится! Однако иногда шестое чувство подсказывает людям, что нужно делать. Мы прислушались к нему и вернулись в укрытие.
Стояла тишина, ничего больше не происходило. И вдруг молнией всех хлестанул ужас. Я как раз глядел сквозь щель в двери. Ночь внезапно прорезал ослепительный режущий свет, и оглушительный взрыв, последовавший за этим, потряс всех до мозга костей. Треск, звон стекла из разбитых окон смешался с грохотом рушащихся стен. В дыму и пыли исчез наш дом и все вокруг него. А потом наступила минута оцепенения. "Фред!" – в ужасе вскрикнул я. Наполовину оглушенный, я вылез из укрытия. Густой дым мешал продвигаться вперед, от мучительных опасений за жизнь сына меркло сознание. Стоя возле укрытия, я слышал, как тяжело вздохнула Франтишка. Мы оба мучительно переживали в эту минуту. Я звал Фреда, кричал что есть мочи в глухое пространство, но ответом была лишь пугающая тишина. Больше я не мог выдержать. Ничего не видя, не ориентируясь, я стал пробираться на ощупь, но из-за волнения никак не мог найти дыру в заборе, отделявшем соседний сад, где находилось убежище. Наконец я нащупал проход, пролез в него, но дальше не пошел. Что я там найду? Дым не рассеивался, искореженные деревья указывали направление к месту катастрофы. В голове моей проносились страшные видения. В том месте, где укрылся в ту ночь Фред, мне виделась в земле глубокая воронка – и больше ничего! Ничего от него не осталось. Я хотел броситься к тому месту, но ужас сковал меня, и я все стоял и глядел в непроницаемую завесу пыли, где только что жил мой сын. Боль сжимала сердце.