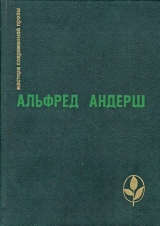
Текст книги "Винтерспельт"
Автор книги: Альфред Андерш
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
Усадьба Телена была угловой. Оба человека-большой, грузный, с плавными движениями, хотя и выглядевший словно поверженный властелин, но уже не казавшийся столь беззащитным, как два часа назад, и маленький, жилистый, устрашающий, вынужденно вежливый-скрылись из виду за пристройкой к сараю. Кэте сняла очки и прислонилась к чисто выбеленной стене дома, где ей предстояло прожить еще несколько часов. Двор с навозной кучей, деревенская улица, полугородской безликий дом напротив, несколько деревьев – все это превратилось в расплывчатое нагромождение белых, серых, коричневых, зеленых или ржаво-красных пятен. Не было никакой необходимости идти к Иозефу Динклаге и что-то ему объяснять: движение головы и прочее. Винтерспельта больше не существовало. Только это переплетение неясно очерченных цветовых пятен.
Он подумал, не предложить ли сигарету этому, как его, Райделю, да, именно так, Райделю. В памяти возникло выражение «выкурить трубку мира».
Ах, да что там, сказал он себе, это не игра в индейцев. Он убрал пачку. Вспомнив предостережения Хайнштока, он, как и тогда в канцелярии, прикрыл сигарету ладонью.
(Шефольд не знал, что немецким солдатам, в отличие от американских, запрещалось курить не только на посту, но и на улице.)
Теперь этот тип еще остановился и закурил сигарету! И нельзя ему запретить! Малейшая ошибка-и он повернется, пойдет в канцелярию и потребует, чтобы его сопровождал кто-нибудь другой. «А ну, поторапливайся, здесь не курят!» Нет, нельзя подливать масла в огонь.
Постоялец в отеле предложил бы ему сигарету. Но, конечно, лишь в том случае, если бы с ним обращались не так, как с этим типом.
Райдель не был заядлым курильщиком. Он выкуривал свой рацион, эту солому, которую им выдавали, но не страдал, когда курева не было.
Он представил себе, как вынул бы сигарету из протянутой ему пачки, но не стал бы прятать ее в нагрудном кармане (что было ему разрешено, хотя курить ее тут он не имел права), а на глазах у этого типа бросил бы на дорогу.
Жаль, что у него не будет такой возможности. Этот гость ему такого шанса не даст.
Лучше всего остановиться и не смотреть в его сторону.
Искусство состояло в том, чтобы, не глядя, все же определить, что тот курит сигарету фабричного производства. Где, интересно, он их достает? Если он шпион, все объясняется просто. Но если не шпион, то, видно, располагает немалым количеством витамина «С» – связями.
Какие могут быть связи у человека, живущего в Хеммересе?
Шефольд двинулся дальше. Он хотел было идти медленно, чтобы разозлить своего провожатого, но скоро отказался от этого намерения: чем медленнее он будет идти, тем дольше от него не избавится. А ведь весь этот день Шефольд думал об одном – о той минуте, когда избавится от Райделя.
И все же он остановился, когда они проходили мимо крыльца того дома, на ступеньках которого недавно, около двенадцати, играли, нападали друг на друга, обнимались мягкими лапками два котенка-черно-серый в полоску и светло-рыжий.
Он огляделся и сказал:
– О, как жаль, их уже нет!
Ответа он не получил, но заметил, что и Райдель жалеет об исчезновении котят. Это подтверждалось хотя бы тем, что он не глядел равнодушно или нетерпеливо в другую сторону, а, как и Шефольд, искал взглядом животных.
«Два маленьких котенка – и он становится человечнее, – подумал Шефольд. – Ну что ж, это уже кое-что».
Возле усадьбы Мерфорта беседовали несколько человек из его роты. Увидев, что он идет по улице со штатским, они сразу же прекратили болтовню. Дошло, видно, до них, что тот, кто идет прямо из батальона по заданию штаба, еще не полностью выпал из игры. Ни один из этих мерзавцев не решился что-нибудь ему крикнуть. Стояли себе и глазели, как идиоты.
Солдаты в деревнях. В Маспельте. В Винтерспельте. Какими будут эти деревни, когда в них не останется ни одного солдата?
Будут ли они напоминать тогда сезанновские пейзажи или кубики из известняка и мха, как у Алберта ван Ауватера, лишенные отпечатка времени? Пока же через них шла история, складывавшаяся из отдельных эпизодов, событий. Покинутые солдатами деревни обходились без слов. Они являли собой картины, немые картины.
Надо прикинуть, как сложится его жизнь в роте, когда все будет позади. (Когда майор отделается от Борека, покончит с этим рапортом.) Одного уже не исправишь: все теперь знают, что он такое. Никуда ему от этого не деться. «Райдель? Да он педик». Он уже не будет распространять вокруг себя страх. С этим покончено.
И ничего уже не исправишь. Помочь может только перевод в другую часть. Если майор не дурак, он его переведет. Но быть переведенным означало потерять из виду Борека.
Однако может случиться, что после ухода солдат Маспельт и Винтерспельт вовсе не станут живописными полотнами, во всяком случае, не будут напоминать картины Сезанна или Ауватера, а превратятся в пустыню или в ландшафт с руинами в стиле Альтдорфера.
Какое чудо, что он видел Маспельт и Винтерспельт еще почти невредимыми! Кое-где царапины, небольшие ранки, шрамы, но ничего, что всерьез нарушило бы их жизнь. А ведь здесь противостояли друг другу две гигантские армии. (Нет, даже не армии, а всего лишь рота Кимброу и батальон Динклаге.) Просто невозможно поверить, что вместо Маспельта и Винтерспельта далеко в тылу с лица земли исчез большой город Франкфурт. Наверно, отец преувеличивал.
Он уже не мог справиться с собой, дождаться, когда снова окажется в своем окопе, чтобы разложить наконец все по полочкам, разобраться как следует в гнусной истории, в которую он влип.
Ясно было одно: майор хотел помочь ему, потому что он помог майору.
Рука руку моет.
Но почему было так необходимо, чтобы одна рука мыла другую?
В этом вся загвоздка, из этого и надо исходить.
Забегая вперед, сформулируем результаты напряженных раздумий Райделя: до самого конца он так и не сумел взять в толк, почему майор Динклаге считал, что должен ему помочь. Динклаге думал о благополучии Шефольда и предполагал, что Райдель, оказавшись в затруднительном положении, сделает все, буквально все, чтобы безупречно выполнить порученное ему задание. Счастливый случай, так сказать, – Динклаге не мог уяснить себе, почему Шефольд этого не понимает. Он сразу сообразил, что с Райделем Шефольду не грозит никакой опасности.
Он так и не осознал, что допустил ошибку, сказав Райделю, что стремится прежде всего помочь Бореку.
Райдель мыслит четче, чем он: если майор хочет помочь не ему, а Бореку, то достаточно заставить того забрать свой рапорт. Тогда с этой историей будет покончено, и нет ни малейших причин рассчитывать на его, Райделя, услуги. Доставить Шефольда на передовую мог любой другой.
Необдуманные слова Динклаге, сказанные в порыве неприязни к Райделю, помешали Райделю понять, почему майор упрямо настаивал на своем: что он – и никто другой – наиболее подходящий человек для столь секретного дела.
Едва он подумал о Франкфурте, как на него нахлынули воспоминания, словно слетели с ясного, лишь местами подернутого легкой дымкой неба: он вспомнил последний разговор с родителями.
Телефонная кабина на почте в Прюме. Где-то на шоссе под Хабшайдом торговец скотом Хаммес вдруг остановил свой автомобиль и спросил: «Вас подвезти, господин Шефольд?» Это было, когда майор Динклаге еще не превратил главную полосу обороны в зону молчания. Тогда Шефольд еще мог почти свободно расхаживать повсюду, какое-то время это была территория, принадлежавшая немцам, по ней проходила линия фронта, которая все время менялась, была неопределенной. Только в сентябре началось это окостенение, и Хайншток сразу же стал настойчиво рекомендовать Шефольду ограничиться – если уж ему так необходимо разгуливать-дорогой, ведущей через долину Ирена.
– Да нет, спасибо, – ответил он.
– Я еду в Прюм, – сказал Хаммес. – У вас есть время? Хотите проехаться?
Он тут же сел в машину. Добраться до Прюма – о такой прогулке по Германии можно было только мечтать. Во время поездки у него вдруг возникла идея позвонить из Прюма родителям. (Он мог бы позвонить им из любой деревенской гостиницы. Но это никогда не приходило ему в голову. Для этого нужен был Прюм, нужно было представить себе здание почты.)
Маленький серый городок в глубокой лесистой долине. На
улицах совсем мало людей. Прюм почти вымер, но почта еще работает.
Он подошел к окошку, заказал междугородный разговор с
Франкфуртом, за семь лет он не забыл номер: 27 5 11; оказалось, что номер не изменился.
– Франкфурт на проводе!
Он вошел в кабину, закрыл за собой дверь, снял трубку. Маленькая серая кабина в маленьком сером городке. В Германии.
10 июля 1944 года. Дата, которую легко запомнить, день, когда он впервые за семь лет снова говорил по телефону со своими родителями.
– Кто это? Голос отца.
– Это я, Бруно.
– Где ты?
Никакой паузы, никакого удивления, ни малейшего признака, что от неожиданности он не может прийти в себя.
– В Прюме. В Эйфеле.
– Что ты там делаешь?
Сухие вопросы. Такой уж он человек. Его отец, член суда низшей инстанции, офицер резерва, кавалер Железного креста I степени, полученного в первую мировую войну, никогда не позволял себе проявлять эмоции.
А возможно, он был просто осторожен. Разговор могли подслушивать.
– Собственно говоря, ничего, отец.
– Почему ты не остался за границей? Он словно допрашивал обвиняемого.
– Как ты поживаешь, отец? Как мать?
– Спасибо, мы здоровы.
– Отец, я так рад, что скоро снова буду с вами.
– Да. Мы тоже рады встрече с тобой. Хоть бы он добавил: «Бруно»!
– Я совершенно не могу себе представить, каково это – снова жить во Франкфурте.
– Ради Франкфурта ты можешь не возвращаться. Франкфурта больше нет.
Значит, вот в чем дело? Возможно, отец не в состоянии думать ни о чем другом, кроме того, что Франкфурт разрушен? Наверно, они пережили нечто ужасное.
Он подумал, как лучше ответить. Правильно ли сказать: «Мы восстановим Франкфурт»? Нет, это было бы не то.
Он вспомнил, что его отец имел обыкновение говорить: «Оптимизм-это просто синоним глупости». Его отец высоко чтил Гёте, но любимым его писателем был Шопенгауэр. (В вопросах литературы он тоже был патриотом родных мест.)
Вдруг отец забыл про всякую осторожность.
– Если ты болтаешься там в Эйфеле только потому, – сказал он, – что не можешь дождаться возвращения в Германию, то это очень глупо с твоей стороны, Бруно. Ты уже не найдешь Германии. Германии больше нет.
Ах, наконец: «Бруно»!
Он был избавлен от ответа, потому что на другом конце провода вдруг послышался шепот, шушуканье. Трубку взяла мать.
– Мальчик, – сказала она, – не слушай его. Твой отец просто ожесточен.
– Мама!
– Надеюсь, ты соблюдаешь осторожность, мальчик?
– Да, да, мама, не беспокойся.
– Ах, как я рада слышать твой голос, Бруно!
– Смотрите хорошенько друг за другом, мама! Я хочу увидеть вас в добром здравии, через несколько недель.
– Ты думаешь, это будет так скоро, Бруно?
– Скорее, чем все мы думаем.
– Это было бы прекрасно.
Выходя из кабины, он улыбался. Он был взрослый мужчина сорока четырех лет, такой крупный и грузный, что в телефонной будке его охватил страх перед замкнутым пространством. Но взрослым он не был – на самом деле он был ребенком.
«Ему крупно повезло, что я его не пристрелил. Да и мне тоже. Представить невозможно, как бы со мной разделался майор, если бы я прикончил этого типа.
Все же котелок варит. Вовремя сообразил: если он шпион, можешь заработать орден! Доведи его только живого до места! Дело ясное», – подумал Хуберт Райдель.
Дерьмо. Не думал он ни о чем похожем. Это он сейчас хорохорится. В штаны наложил от страха. О рапорте «Борек против Райделя» – вот о чем он подумал. О том, что влип бы еще в одну историю, если бы не сумел повести себя прямо-таки образцово, когда случилось чрезвычайное происшествие, а да бы волю своей страсти палить из винтовки. И тихо надеялся, что избавится от дополнительной неприятности, если по инструкции (или не совсем по инструкции) доставит на место человека, внезапно появившегося наверху, под соснами.
Особенно если выяснится, что он шпион. Ведь вполне естественно – увидев человека, появившегося на передовой со стороны противника, подумать, что это вряд ли случайный прохожий. «Судя по всему, вы слишком много думаете, Райдель!»
Как на это поглядеть?
И все же, пожалуй, это была ошибка из ошибок, потому что такого быть не может, чтобы командир якшался со шпионами. Да это просто невероятно. Говорят, что и среди офицеров бывают предатели, но так открыто они этим наверняка не занимаются. Командир должен был совсем уж спятить, чтобы встречаться с вражеским шпионом у себя в канцелярии. И вообще, провалиться ему на этом месте, если майор Динклаге – предатель.
А может, все наоборот? Может, этот Шефольд – немецкий разведчик? («Наш разведчик», – подумал Райдель.) «Но и это невероятно. Для разведчиков штатских есть своя система инстанций и командных пунктов; там все строго секретно и никаких контактов с частями действующей армии. Не будут же наши средь бела дня посылать разведчика через собственные окопы! И не станет он появляться на командном пункте батальона. Разве только его отзывают, потому что он примелькался и не может больше оставаться на той стороне? Но ведь этот-то возвращался назад средь бела дня через собственную линию обороны! Разве такое бывает?»
Значит, верить тому, что было в письме, которое ему показал этот незнакомец?
«Д-р Бруно Шефольд. Памятники искусства».
Со смеху сдохнешь!
Все не то. Единственное, за что можно зацепиться, это несколько фраз, но и они становятся все более необъяснимы, чем дольше о них думаешь.
«У меня назначена встреча с командиром вашего батальона, майором Динклаге». «Ваш майор – кавалер Рыцарского креста». «Господин доктор Шефольд, не так ли? Рад с вами познакомиться».
Как они могли договориться о встрече (если он не был ни вражеским шпионом, ни немецким разведчиком)? Как Шефольд узнал, какие ордена у командира? Откуда они знали друг друга по фамилии, если между ними – линия фронта?
И что, собственно, было командиру обсуждать с человеком,
который появился на передовой со стороны противника?
Фельдфебелю этот Шефольд сказал: «Я живу в Хеммересе. Могу я просить вас доложить обо мне господину майору Динклаге?»
Хеммерес отрезан, находится на ничейной земле, никто из нас никогда не ступал на эту землю. Как же это получается?
Держи ушки на макушке!
В Институте Штеделя он занимал всего лишь должность ассистента; хотя ему было тогда уже тридцать семь лет, но научных сотрудников в Институте насчитывалось всего пять, а места хранителя и главного хранителя музея уже давно были заняты.
У Хольцингера он был на хорошем счету, с тех пор как предложил убрать таблички с надписями возле картин.
– Это только отвлекает, – сказал он. – Когда люди читают название картины, имя художника, даты, они уже не видят картины, а размышляют об истории искусств.
Хольцингер с интересом посмотрел на него и спросил:
– Вы думаете, это не важно – узнать, что был такой человек по имени Адам Эльсхаймер?
Эльсхаймер был любимый художник Хольцингера.
– Если я влюблен в манеру Эльсхаймера, в то, как он изображает ночь, как решает проблему темноты, то я заинтересуюсь и тем, как зовут этого художника, – сказал Шефольд. – Тогда я, возможно, постараюсь выяснить, что он заимствовал у Караваджо и как повлиял на Клода, может быть, даже на Рембрандта. И узнаю, что этот сумеречный блеск, который умеет создавать только он, происходит оттого, что он писал на меди. Но для этого ведь существуют каталоги, книги. Прежде всего я должен увидеть, как он словно прикасается лучом света к своим крошечным фигурам. Увидеть! Ах, – добавил он, – мне милее те посетители, что приходят снова и снова и сразу же бросаются к одной или двум картинам, от которых не в силах оторваться, нежели те, что заводят со мной профессиональные разговоры о стилях и эпохах, дают советы, как лучше развешивать картины, и при этом норовят рассказать что-нибудь об «историческом жанре» и «синхронизации». Ужасно! Давайте оставим картинам только номера, господин профессор! Кто хочет узнать больше, чем говорит сама картина, может заглянуть в каталог.
Он знал, что Хольцингер охотно осуществил бы его предложение, не раздумывая. Но этим директор вызвал бы изрядное неудовольствие совета учредителей Штеделевского института искусств.
Холыдингер придумал другую причину, чтобы уклониться от этого предложения. Смеясь, он сказал:
– Художники тщеславны. Со старыми мастерами мы это можем сделать. Но живущие! Бекман швырнет мне свою кисть в лицо, если я приду к нему в мастерскую и сообщу, что возле «Железного мостика» больше не будет висеть табличка, на которой каждый может прочитать, чья это работа.
Шефольд вспомнил разговор с Хольцингером, и ему показалось, что он снова очутился во Франкфурте.
Кстати, разговор этот происходил, по-видимому, тогда, когда Макс Бекман еще преподавал в Штеделевской художественной школе во Франкфурте, то есть до 33-го года. Позднее Хольцингер уже не мог бы говорить о табличках возле картин Бекмана. Ибо со стен были сняты не только таблички, но и сами картины. Хольцингер превратился в молчаливого, замкнутого человека, а Бекман эмигрировал, как и он, Шефольд, только тремя годами раньше.
Когда Шефольд в один из апрельских дней 1937 года пошел в запасник, чтобы отыскать Клее, он увидел на полках и картины Бекмана. Добавить к Клее еще и Бекмана он не мог. Вот теперь Бекману мстили большие форматы его картин – их нельзя было спасти!
Месяц спустя Шефольд прочитал в одной брюссельской газете, что картины Бекмана, и Нольде, и Кирхнера, и Кокошки, и Файнингера, и, кстати, Клее из немецких музеев продаются с молотка в Швейцарии. Вот, значит, о чем шла речь в той бумаге из Берлина, где Институту Штеделя предписывалось такие-то и такие-то картины-список прилагался – приготовить к определенному сроку для вывоза! А они думали, считали неизбежным, что картины будут уничтожены! Хольцингер несколько дней не появлялся в музее, заперся дома, ни с кем не желал разговаривать. Но нацисты не уничтожили картины, а продали их с аукциона! Это было ужасно, однако, вообще-то говоря, не настолько, чтобы считать, что произошла трагедия, уходить в себя, думать о конце мира. В один прекрасный день немецкие музеи снова скупят эти картины; Шефольд мысленно потирал со злорадством руки – суммы, которые придется выплачивать, приведут не одно городское управление на грань банкротства! Придется, как никогда, клянчить у меценатов!
Но потом он вдруг вскочил со стула уличного кафе на бульваре Анспа, поспешно расплатился и ушел, потому что не мог больше сдерживаться, не мог сидеть, внезапно поняв, что означало это известие для него, Шефольда. Не было необходимости спасать Клее. Возможно, Клее уже сейчас висел бы в какой-нибудь швейцарской или американской частной коллекции, и с ним уже ничего не могло бы случиться!
Из этого, далее, вытекало, что он, Бруно Шефольд, мог оставаться во Франкфурте, ибо если не нужно было спасать Клее, то не было и причины покидать Франкфурт. Где переждать это время – во Франкфурте или в Брюсселе, – принципиальной разницы нет.
Он чувствовал себя обманутым, словно кто-то насильственно лишил его способности поступать благоразумно. И ему вовсе не обязательно было идти сейчас по бульвару Анспа. Его эмиграция основана на недоразумении.
Прошло много времени, прежде чем он избавился от этого
чувства.
Если бы он остался во Франкфурте, его в самом начале войны призвали бы в вермахт: научный ассистент в художественном музее – не та профессия, без которой нельзя обойтись.
И он оказался бы солдатом, как тот, что шел сейчас рядом с ним.
Нет, таким он все равно бы не был.
Вместо того чтобы остаться во Франкфурте, он снял Клее с полки запасника, пошел наверх, в свою ассистентскую комнату под крышей музея, завернул картину в оберточную бумагу; она была в такой плоской раме и такая маленькая, что он мог сунуть ее в портфель, где она сошла бы за подшивку документов, втиснутую между пачками почтовой бумаги, брошюрами, каталогами выставок. На границе таможенники даже не потребовали открыть портфель.
Прежде чем покинуть Институт Штеделя, он даже не выглянул из окна своего кабинета. Утренний поезд в Брюссель отправлялся через полчаса. Но вид из окна он никогда не забудет. Майн – и на том берегу длинный, прерываемый только Леонхардскирхе фронт белых зданий классической архитектуры (в воспоминании они казались ему чисто белыми, хотя на самом деле, конечно, были светло-серые или выцветшие желтоватые), а за ними "колокольни, рыжевато-серая громада собора (который в архитектурном отношении, надо признать, не был выдающимся творением песчаниковой готики, но какое это имело значение);
этот вид, открывавшийся на город, на реку, не уступал Флоренции, Парижу, Дрездену (нет, Дрездену он, пожалуй, все же уступал!), и к тому же это была не просто декорация, а одна из граней вполне реальной субстанции – свободного, богатого и так тесно застроенного города, что отдельные названия архитектурных сооружений воспринимались лишь как примеры, вкрапления: Старая ратуша, Либфрауенкирхе, Катариненкирхе, Кармелитерхоф, Векмаркт, Бухгассе, Гросер-хиршграбен…
«Франкфурта больше нет». Отец, безусловно, преувеличивает. Он ожесточен, потому что, наверно, кое-что действительно разрушено. Но субстанция, материя Франкфурта, конечно же, не могла исчезнуть! Фронт домов вдоль Майна, Старая ратуша, церкви – они переживут войну. Дом, где родился Гёте, – груда развалин? Нет, представить себе это невозможно!
Чепуха – еще как возможно! Вполне можно представить себе, что он вернется не во Франкфурт, а на сцену, где кулисами окажутся рухнувшие стены, глядящие в небо оголенные балки, пустые глазницы окон, все изменившееся до неузнаваемости, где бродят оставшиеся без крова уцелевшие жители, безропотные, не способные понять, что перед ними уже другой город – город, не похожий на их Франкфурт.
Он возвратит им Клее. (Хоть эту картину им не придется покупать.) Может быть, от Института Штеделя сохранились подвальные помещения. Он войдет в запасник, расположенный в подвалах, и положит картину Клее на ту же полку, откуда он ее взял. Поскольку Шефольд был влюблен в свое дело, он вознесся в мыслях так высоко, что возомнил, будто Клее может компенсировать уцелевшим жителям Франкфурта дом, где родился Гёте (если он превратился в кучу щебня). Маленькая акварель – 30x28 см. Семечко. Полифонически очерченное белое поле. Из него мог вырасти новый город.
Какая жалость, что он сегодня утром упустил возможность порыться в его бумажнике. Упустил, растяпа, момент, когда мог все у него перерыть. Может, как раз там и спрятано то, что ему требуется, тогда уж он бы их раскусил. Да, тут явно дело нечисто!
В какой-то момент-предположим, когда они приближались к концу деревенской улицы, – Райдель подумал: а как бы он повел себя, если бы ему удалось раскусить Шефольда (и майора). (Хотя он пока и ведать не ведал, с какой стороны к этому подступиться. Он только гадал, принюхивался, было у него какое-то недоброе чувство, «подозрение как таковое», если нечто подобное вообще существует.)
И вдруг он пришел к удивившему его самого выводу, что ему на все это наплевать. Что бы там ни оказалось, он не побежит в канцелярию и не станет бить тревогу. Ему надо блюсти исключительно собственный интерес, а этот его интерес подсказывал ему, что должна существовать прямая связь между готовностью майора Динклаге не давать хода рапорту «Борек против Райделя» и тем фактом, что майор пошел с этим господином доктором Шефольдом в свою комнату и закрыл за собой дверь. И разгадать эту таинственную зависимость двух независимых друг от друга событий было бы невозможно, если бы он вздумал трезвонить о том, что ему удалось бы разузнать и что не имело никакого отношения к его конфликту с Бореком.
Проникнуть в эту тайну было бы здорово. Но только в том случае, если бы он мог использовать это в своих целях. Не устраивая большого шума. Втихую, украдкой, осторожно.
Даже в том случае, если бы под угрозой оказалась безопасность армии; если бы выяснилось, что клиент не только подозрителен, но и на самом деле шпион, тайный агент, с которым сотрудничает их командир, сотрудничает с предательскими намерениями. Но какими? Нет, исключено; скорее можно предположить, что у этого типа было задание шпионить за командиром, подвести его под монастырь. Но даже в таком случае он, Райдель, не побежал бы, как последний дурак, и не стал бы устраивать шум. Он не идиот. Во-первых, надо еще прикинуть, на руку ли ему это – устраивать шум. Скорее всего, ему от этого никакой пользы. Он может раскрыть любой заговор – службист, вроде штабс-фельдфебеля Каммерера, не бросит из-за этого в мусорную корзину рапорт Борека. Каммерер посмотрел бы на него ледяными глазами и спросил бы: «А какое отношение имеет одно к другому?» Он получил бы официальное поощрение, а потом против него начали бы процесс. Они же такие справедливые.
Нет, что бы ни обнаружилось-если вообще что-то обнаружится, – все должно оставаться между ним и командиром. Даже и представить себе нельзя, какие шансы открылись бы для него, Райделя, если бы оказалось, что у командира рыльце в пушку. Нет, не может быть, чтобы ему так подвезло!
На безопасность армии ему плевать. С безопасностью все равно покончено. Ей угрожают совсем другие, притом давно.
Потому-то теперь и конец не только безопасности, но и самой армии. Достаточно поглядеть на эту часть, куда его забросило. Майор может хоть из кожи вон лезть, чтоб заставить эту ораву подтянуться, все его старания – коту под хвост. Если начнется заварушка, пропадет она, эта 416-я, как пить дать. Максимум, что с ней еще можно сделать, – это сгубить в боях! И сделают это те, кто поставил на карту безопасность армии, притом уже давно…
Вот почему теперь главное – обеспечить собственную безопасность. Старые обер-ефрейторы, вроде него, знают, как смыться с передовых рубежей, тем более с неумело выбранных позиций, прежде чем начнется крупная заваруха. Старые обер-ефрейторы не дают себя бессмысленно загубить. Они вовремя рвут когти.
Тщеславного желания завоевать политические лавры, вскрыв что-то очень важное, у него не было.
Никогда не было. Он вспомнил солдата, чью пьяную болтовню услышал как-то в бункере «Западного вала» в начале войны.
Размахивая бутылкой из-под водки, солдат кричал: «Хайль Черчилль! На этой навязанной нам англичанами войне!»
Райдель не донес на него.
На политику он плевал. Образцовым солдатом он стал только для того, чтобы никто к нему не смел придираться.
Его не касалось, что Борек – враг рейха. Ему до этого не было никакого дела. И если он все же донес на Борека, то лишь из соображений самообороны. Потому что этот идиот просто-таки заставил его это сделать. «Надо было бороться, оказывать сопротивление, а ты вместо этого приспособился. Наверно, ты еще и гордишься тем, что все эти годы приспосабливался, только и делал, что приспосабливался, подлый трус!»
Внешне – да. Внешне он приспосабливался. Но внутренне – нет. Никогда.
Он просто маскировался. Аккуратнейшим образом. Люди вроде него должны маскироваться. Да, он был весьма горд своей маскировкой. Может, для него это – форма сопротивления. Борек ничего не понял.
Борек думал, что такой человек, как он, Райдель, должен быть еще и врагом рейха, но тут он основательно ошибался: во времена вроде нынешних не только достаточно, но и единственно правильно хорошо замаскироваться и спрятаться, чтобы остаться тем, что ты есть.
(Огромные, окрашенные в серый, зеленый и бурый цвет камуфляжные сетки, которые они натягивали над позициями на Верхнем Рейне!)
Его маскировка оказалась недостаточно хороша. Или его поведение в условиях маскировки. Лишь однажды, один – единственный раз он не остался в укрытии, показался противнику. И вот, пожалуйста. Сразу ярлык: розовый кружок.
Из-за этой проклятой метки он и не сумел добиться в этой лавочке, которая теперь полностью обанкротилась, даже звания унтер-офицера.
Идя рядом с Шефольдом по длинной улице Винтерспельта, он, возможно, задумался на мгновение над тем, не шагает ли он сейчас навстречу такому времени, когда сможет выйти из укрытия. Времени, когда педик позволит себе быть педиком. Пусть он по-прежнему вызывает ухмылки, но пусть его терпят, пусть ему дадут существовать. У всякой пташки свои замашки.
Плевал он с высокого дерева на их терпимость. Их скрытая ухмылка для него невыносимее, чем угроза штрафной роты.
В одном Шефольд, во всяком случае, ошибся, предположив, что обер-ефрейтор Райдель – не просто человек, вызывающий ужас, но еще и настоящий нацистский солдат.
Этот подозрительный субъект ничего не сказал майору о пинке. Чудно. А ведь уже было протестующе поднял руку, когда майор распорядился, чтобы он, Райдель, проводил его туда, откуда он пришел! Почему же он снова опустил ее, потушил сигарету-и все?
Наверно, ему было неприятно говорить об этом. Райдель знал клиентов такого сорта. Они лучше удавятся, чем заговорят о том, что им неприятно.
Ну, за это можно обойтись с ним прилично.
Этот Райдель вел себя теперь корректно. Был ли он по – прежнему враждебно настроен, как утром, как с самого начала, – разобраться в этом Шефольд не мог.
Может быть, он мрачен просто оттого, что вынужден вести себя хорошо.
Интересно, что он думает про меня, кто я такой?
То, что Шефольд всего только раз задал себе этот вопрос, пожалуй, самый важный в его положении, да к тому же мысленно сразу его отбросил как нечто второстепенное, незначительное, характерно для этого человека, великодушие которого граничило с беспечностью. Ему бы надо всегда иметь возле себя кого-нибудь вроде Хайнштока. Хотя обычно он даже предостережения Хайнштока оставлял без внимания. Если погода была хорошая, а дорога пустынная, Шефольд считал, что и война исчезла – тут уж Хайншток мог себе хоть мозоли на языке натереть. (Чего, впрочем, этот человек из каменоломни все равно никогда не делал, ограничиваясь короткими репликами, неодобрительным молчанием, пристальным взглядом прищуренных глаз.)
Он со своей стороны очень хотел бы знать, что такое Райдель. Майор дал ему в дорогу неразрешимую загадку. У Райделя рыльце в пушку, но майор не снизошел до того, чтобы объяснить, какого рода проступок числился за Райделем. Не военное, не политическое, не уголовное преступление – в чем же тут, черт возьми, дело?
Угрюмый солдат. Немой офицер. Шефольд сожалел, что оказался среди людей, которые, судя по всему, потеряли дар речи.
Правда, майор вел с ним светскую беседу, но о том, что по-настоящему важно, он молчал. Загадка «Райдель» была не единственной, которую он ему задал.








