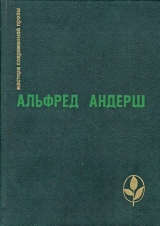
Текст книги "Винтерспельт"
Автор книги: Альфред Андерш
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
– Нет, господин хауптфельдфебель.
– И стоять прямо вы тоже не можете?
– Нет, господин хауптфельдфебель.
– Почему не можете?
– Из-за душевной предрасположенности, господин хауптфельдфебель.
Несколько человек засмеялись. Райдель, не отличавшийся высоким ростом, стоял на левом фланге и не смеялся; он восхищался Бореком, Борек отколол номер, против которого ротный фельдфебель был бессилен; он мог написать рапорт на этого новобранца, но потом началось бы долгое расследование насчет душевной предрасположенности; офицеры и лекари в чинах, у которых хлопот по горло – венерических подштопывают, – с интересом слушали бы его; ясно, куда Борек метит: хочет, чтобы его перевели на тепленькое местечко.
– Молчать! – заорал фельдфебель. Он снова повернулся к Бореку:-Трижды вокруг строя бегом, марш!
И пока продолжалась утренняя поверка, Борек трижды обежал вокруг строя. Каждый раз, когда он пробегал мимо Райделя, тот замечал, что лицо юноши становится все бледнее. Стекла его очков запотели. Хотят доконать, подумал Райдель; если им удастся довести его до того, что он откажется выполнять приказ, тогда ему крышка. Он обратил внимание на то, что, когда Борек после третьего круга встал в строй, у фельдфебеля хватило хитрости воздержаться от каких-либо торжествующих замечаний. Теперь этот молокосос попал в черный список, такие вещи Райдель знал точно.
И Райдель решил позаботиться о том, чтобы убрать парня, так сказать, с линии огня, иными словами: чтобы Борек при построении стоял не первым, а третьим и не так бросался в глаза.
Для этого Райдель обратился к фельдфебелю Вагнеру, который с ним согласился, но при этом поглядел на него с удивлением.
– Что это с вами, Райдель? – спросил он. – Вы обычно и пальцем не пошевельнете ради такой мелюзги.
– Просто не хочу, чтобы мое отделение вечно было на плохом счету, – сказал Райдель.
Но на следующую ночь, лежа без сна на своем соломенном тюфяке, вытянув руки вдоль туловища, сжав кулаки, он вспоминал того человека, который в давние времена, в том самом дюссельдорфском отеле, сказал ему: Придет время, и ты сам начнешь гоняться за мальчиками.
Шефольд вспомнил, что в прошлую субботу после полудня Маспельт выглядел таким же сонным, как этот Винтерспельт сегодня и, наверно, каждый день. В условиях почти мирной жизни, которую вел 3-й полк 106-й американской пехотной дивизии, по субботам после полудня никого не назначали в наряд, кроме, разумеется, часовых на высотах Ура. Большинство людей Кимброу околачивались в это время в трактирах Сен – Вита. В канцелярии 3-й роты 3-го батальона находился лишь один ефрейтор. Всякий раз, даже теперь, Шефольд кипел от возмущения, вспоминая ленивое, скучающее лицо этого человека, который продолжал потягиваться на своем стуле даже после того, как Шефольд сказал ему, что должен сделать капитану Кимброу сообщение чрезвычайной военной важности.
– Это действительно важно? – спросил ефрейтор, до армии служивший в налоговом управлении в Батте, штат Монтана. Он привык, что люди, которых ему приходилось выслушивать, всегда считали чрезвычайно важным все, что они говорили.
– Хотите пари, – сказал Шефольд, – что, поговорив со мной, капитан сразу поедет в Сен-Вит, в полк?
Даже теперь, проходя по улице Винтерспельта, Шефольд считал, что слово «пари» явилось, так сказать, магическим сигналом, заставившим того ефрейтора оторвать от стула свой толстый зад – а зад счетовода 3-й роты pfc [25]25
Private first class – ефрейтор (англ.).
[Закрыть]Фостера действительно был тяжелым, – и двинуться в путь. Он не догадывался, что сразу же убедил Фостера, тонко разбиравшегося в интонациях, и что Фостер медлил лишь потому, что никак не мог решиться побеспокоить шефа в момент, когда тот пишет письма. По субботам после полудня Кимброу занимался своей личной корреспонденцией и распорядился, чтобы его беспокоили лишь в том случае, если начнется война. Шефольд, этот профан в военных делах, и не подозревал, какие мысли теснились в голове у испытанного служаки.
Ефрейтор запер канцелярию и оставил Шефольда ждать возле дома. Шефольд около часа дня попрощался с Хайнштоком, наскоро перекусил в Хеммересе и перешел по деревянному мостику на другой берег Ура. Дощатый мостик скрипел, и вода в реке была такой же темной и прозрачной, как всегда. С часовым на высотке он обменялся несколькими словами. Ему теперь не приходилось предъявлять пропуск-все его знали. Полный нетерпения, он пересек холм с его пастбищами, за которым находился Маспельт. Было три часа пополудни, когда он увидел Кимброу, который шел не то чтобы медленно, а словно как-то бесцельно, неохотно; следом за ним шагал ефрейтор; Кимброу, худой, черноволосый, в battle-jacket, длинных брюках и легких ботинках, пилотку он держал в руке, волосы падали ему на лицо, и только две silver bars [26]26
Серебряные полосы (англ.).
[Закрыть]на плечах куртки выдавали, что он офицер; он посмотрел на Шефольда своими фиалковыми глазами и сказал:
– Хелло, док!
Ефрейтор Фостер почувствовал облегчение, уловив, что не напрасно потревожил шефа. Джон Кимброу вообще не разозлился – он был даже рад отложить едва начатое письмо. Поняв всю бессмысленность своих попыток описать в письмах впечатления от Европы, всю невозможность достоверно отразить события здешней жизни, он стал рассматривать свои эпистолярные занятия по субботам, которым раньше так радовался и которые надеялся превратить в нечто тайное и личное, просто как обязательные упражнения. Иногда он всерьез думал о том, не перестать ли ему вообще подавать голос. Его адресаты это переживут. Он тоже переживет, если не узнает, что происходит в данный момент в Саванне, штат Джорджия. На протяжении веков были войны, во время которых институт, подобный полевой почте, вообще не был известен. Боб Уилер возразил ему, объяснив, что, например, во времена крестовых походов рыцари писали домой длинные письма. Ну что ж, это их дело. Он считал, что молчание более соответствует происходящему ныне.
Он разместился со своими письменными принадлежностями в парадной комнате крестьянского дома, где был на постое. Она напоминала комнату в доме Телена в Винтерспельте, только меньшего размера. В Маспельте все было меньше и потому темнее, чем в Винтерспельте. Кимброу не мешало, что иногда в комнату заходили хозяин или его жена, разговаривали друг с другом, он не понимал их языка, не знал, что их немецкий могут понять лишь очень немногие немцы. Зато ему мешали мухи. Письмо к Дороти, написанное недавно, – тоже одно из этих обязательных писем! – он оборвал на фразе: «Я хотел бы написать тебе еще, но, пока я пишу, мне на правую руку все время садится муха».
На Фостера вполне можно было положиться-Кимброу со всей тщательностью подбирал счетовода канцелярии, – так что выяснять, какое впечатление произвел на него Шефольд, было, собственно, незачем.
– Он был взволнован?
По некоторым разговорам с Шефольдом Кимброу знал, как легко приходит в волнение этот грузный немец, например когда дело касается картин.
– Я думаю, – сказал Фостер, – он пришел неспроста.
Так, в высшей степени свободно, мы переводим почти непереводимое идиоматическое выражение, универсальное значение которого в обиходном языке американцев основано на слове trouble-maker [27]27
Человек, причиняющий беспокойство (англ.).
[Закрыть]Ефрейтор Фостер сказал, что у него не сложилось впечатление, что Шефольд-trouble-maker. Выражение «возмутитель спокойствия», которое хоть как-то передает значение этого американского понятия, – прекрасное выражение, но именно потому, что оно так прекрасно и-диалектически – одновременно благозвучно и сложно, оно не пригодно для перевода идиомы столь универсального характера. К тому же выражение «возмутитель спокойствия» не скомпрометировало бы Шефольда в той же степени, как слово trouble-maker (если бы он был таковым, причем в этом случае против него пришлось бы пустить в ход так называемого trouble-shooter [28]28
Человек, улаживающий конфликты (англ.).
[Закрыть], ибо понятие это настолько универсально, что вызвало к жизни контрпонятие). Придав своей мысли отрицательную форму («I think he's no trouble-maker» [29]29
Не думаю, чтобы он просто хотел причинить беспокойство (англ.)
[Закрыть]), он охарактеризовал Шефольда как нельзя более положительно: если последний не был trouble-maker, то, значит, он пришел неспроста, у него было что сообщить.
Кимброу и Фостер взглянули друг на друга. Потом Кимброу взял пилотку, лежавшую возле него на скамье, но не надел ее.
Как известно, последующий разговор – он происходил в кабинете рядом с канцелярией, ибо у капитана Кимброу, как и у майора Динклаге, был отдельный кабинет, – жестоко разочаровал Шефольда. Всего три часа назад, то есть около двенадцати, он, беседуя с Хайнштоком, утверждал, что Кимброу остолбенеет от изумления, едва узнает о намерении Динклаге, и, когда Хайншток, настроенный весьма скептически, спросил, уверен ли он, что американцы вообще пойдут на это предложение, безмерно удивленный, воскликнул:
– А почему бы им не пойти?
Но Кимброу повел себя странно,как вынужден был Шефольд признаться Хайнштоку в воскресенье утром. Удивился ли он, а тем более остолбенел ли от изумления – определить было невозможно – ни по его лицу, ни по тому, что он сказал.
Быть может, виновата в этом была комната. В нее проникало мало света, потому что в нескольких метрах от окна начинался склон холма, под которым лежал Маспельт. В полутьме, царившей здесь, лицо Кимброу, на которое падали черные пряди волос, казалось еще бледнее, чем на улице.
– По ту сторону стоит немецкий пехотный батальон, – сказал Шефольд. – Это вы знаете. Командир батальона со своей частью хотел бы сдаться в плен американцам.
Он заранее решил говорить как можно спокойнее и по – деловому, на безупречном английском языке, без американизмов, и не пытаться использовать военную лексику, которой не знал.
– Откуда вам это известно?
– От моего друга Хайнштока. Я уже рассказывал вам и майору Уилеру о Хайнштоке. Без него я не мог бы свободно передвигаться на той стороне.
– Откуда это известно ему?
– Этого я не знаю. Известно – и все.
Быстрое чередование вопросов и ответов. После первых информирующих фраз – никакой паузы, свидетельствующей об удивлении.
– Для нашей разведки было бы не бесполезно узнать, откуда у этого Хайнштока такие сведения.
– Если бы вы знали Хайнштока, вы бы не сомневались, что его словам можно абсолютно верить.
Только на следующий день, благодаря оговорке, которую допустил Хайншток, Шефольд смог сообщить Кимброу об источнике этих сведений.
– Вы знаете этого офицера?
– Нет. Я никогда его не видел. Он майор. Фамилия его Динклаге.
Кимброу пододвинул Шефольду блокнот.
– Напишите мне, пожалуйста, его фамилию!
Пробежав глазами написанное, он произнес:
– Динкледж.
– Нет, – сказал Шефольд. – Динк-лаге. По-немецки это произносится «Динклаге».
– Динклаге, – повторил Кимброу тоном послушного ученика.
– Опытный офицер, фронтовик. Он сражался в Африке и в Италии, получил высший немецкий орден.
– Рыцарский крест?
– Да.– (Значит, это они знают!)
Впервые в разговоре возникла пауза-Кимброу долго смотрел в окно, потом задал вопрос, все же выдававший некоторое удивление, хотя в языковом отношении сформулированный чрезвычайно сухо и скупо:
– What makes him tick?
Иными словами, он осведомился о часовом механизме, заложенном в майоре Динклаге, словно механизм этот привели в действие и теперь срок действия истекал; в ответ на это Шефольд пожал плечами, ибо у него просто не было желания объяснять молодому американскому капитану, почему немецкий офицер без пяти двенадцать пришел к мысли, что пора сделать выводы. Проходя мимо громоздких неуклюжих домов Винтерспельта, Шефольд понял, что сделал ошибку. Непременно, просто непременно, и притом очень терпеливо, надо было объяснить Кимброу, что за механизм заложен в Динклаге, что за часы в нем поставлены на определенное время, которое теперь истекало, хотя и с гигантским опозданием. Так что наверстать упущенное уже было невозможно. Вместо этого он спрятался в раковину своей эмигрантской ранимости, своих чувств и убеждений, заставивших его уже в 1937 году завернуть в упаковочную бумагу картину Клее и сесть в скорый поезд Франкфурт – Брюссель, в котором, имея соответствующий паспорт, тогда еще можно было беспрепятственно покинуть Германию. Годы эмиграции. Все эти Динклаге не постеснялись бы намекнуть, что он провел их не в крайней бедности. Человек, вернувшийся к ним, был вполне упитанным.
Но к чести Шефольда надо сказать, что вопрос, который задал ему Кимброу, он не оставил вовсе без ответа. Пожав плечами, он все же попытался объяснить поведение Динклаге:
– Вероятно, он считает войну проигранной.
Кимброу подумал, что сам майор Динклаге, окажись он сейчас здесь, объяснил бы свои действия не иначе, чем этот искусствовед, понятия не имевший о том, что такое военное мышление. Подготовка офицеров – по таким предметам, как теория, логистика, военная история, – была, по-видимому, во всем мире одинакова, и если немецкие офицеры следовали тому, чему обучились у Клаузевица-Кимброу слушал в Форт-Беннинге лекции одного преподавателя Вест-Пойнта об этом прусском военном теоретике, – то большинство из них, кроме самых больших идиотов, должны были знать, что война для Германии проиграна.
– Это недостаточное объяснение, – сказал он. – Я полагаю, что почти все немецкие офицеры считают войну проигранной. Но никто из-за этого не приходит к мысли сдаться противнику.
– К сожалению, – сказал Шефольд.
Этот тяжеловес бредил картинами и любил вкусно поесть. Кимброу считал описания картин, которые давал Шефольд, плодом его воображения. Только в последнее время, установив, что сам он не в состоянии описать картины собственной жизни, передать их в письмах, он стал испытывать некоторые сомнения на этот счет. Нужно бредить наяву, как Шефольд, чтобы сделать картины зримыми.
К тому же Шефольд не шпион, а всего лишь бежавший от этого монстра немец, который самым сумасшедшим образом обгонял события, слишком рано вернувшись на родину.
– Вы принимаете желаемое за действительное, док, – сказал он. – Что было бы, если бы каждый строевой офицер, считающий войну проигранной, вздумал самовольно капитулировать!
Было это его точкой зрения или просто автоматическим рефлексом, выработавшимся, когда его обучали дисциплине? Сейчас он и сам не мог бы сказать. Во всяком случае, будучи еще молодым адвокатом, он уже научился скрывать свои мысли, соглашаясь с клиентами. Клиентам незачем знать, что их адвокат думает о делах, в которые они его посвящают. Только шарлатаны демонстрируют своим клиентам искреннее участие; хорошие же юристы, даже если они сочувствуют клиентам, ведут себя по-деловому, сдержанно, не вселяя надежд.
– Итак, – сказал Кимброу, – почему именно он?
– Я не знаю, – ответил Шефольд раздраженно. И нехотя пояснил: – Может быть, он наконец понял, что Гитлер – преступник и что нельзя сражаться за преступника.
– После того как он годами сражался за него? Это, по-моему, исключается, – сказал Кимброу.
Вдруг он стал разговорчив.
– Видите ли, – сказал он, – есть очень простой психологический закон, мешающий немцам выйти сейчас из игры: они упустили момент, когда еще могли это сделать. Готов побиться об заклад, что не только этот майор Динклаге, – Кимброу постарался правильно выговорить фамилию, – но и почти любой немецкий генерал держит в кармане собственный, сугубо личный план сдачи в плен. Но он не вынимает его из кармана, инстинктивно чувствуя, что уже поздно. И дело тут вовсе не в том, что они боятся потерять свою честь, а в… в… в стиле, да, в хорошем вкусе. Если бы после того, как мы высадились в Европе, а русские отвоевали Украину, немецкие генералы покончили с войной, это был бы хороший стиль, а теперь время упущено, слишком поздно. Это не принесет им авторитета. Это уже дурной стиль.
– Разве спасти жизнь сотен тысяч людей-дурной стиль? – спросил Шефольд.
– Вы не можете заставить себя мыслить по-военному, – возразил Кимброу, слегка поклонившись. В разговорах с людьми, которые были старше его, тяжеловеснее, неподвижнее, он умел находить какой-то особенно дружелюбный тон.
_ Не смотрите на меня с таким отвращением, док,-
продолжал он, – я не военный. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что здесь дело не в политике, а в психологии. И я хочу только разобраться в мотивах, которые движут этим майором. Почему именно он извлекает свой план из кармана? Кто он – человек, лишенный вкуса, или глупец, который надеется спастись в последний момент? Поэтому я и спросил, знаете ли вы его.
Шефольд ответил не сразу. Если подумать, то у него была только одна причина хоть в какой-то мере доверять майору Динклаге: то, что в это дело включился Венцель Хайншток. Как-то Хайншток положительно высказался о военных способностях Динклаге и даже сообщил о нем некоторые скупые сведения, например, пожав плечами, бросил вскользь, что Динклаге, как и он, «связан с нерудной горнодобывающей промышленностью» (это высказывание имело прямое отношение к раздумьям о том, как случай управляет склонностями Кэте Ленк), или иронически процитировал высказанное Динклаге пожелание познакомиться с «образованным» марксистом.
– Нет, я с ним не знаком, – сказал наконец Шефольд. – Судя по тому, что я о нем знаю, он образованный немецкий бюргер, если, конечно, вы представляете себе, что это такое, капитан. – И добавил:-Если хотите, то же можно сказать и обо мне.
Ему показалось, что американский капитан сделал вид, будто не слышит его последнего замечания.
– Тогда должны быть особые причины, объясняющие, почему он вздумал осуществлять свой план именно теперь, – сказал Кимброу. – Личные, я имею в виду. Может быть, кто-то из его близких убит Гитлером?
– Это была бы политическая причина.
– Политически-личная.
Гадать о возможных политически-личных причинах подобного рода было бессмысленно. Во всяком случае, Джон Кимброу, который, несмотря на свою молодость, был уже уважаемым адвокатом по уголовным делам, отреагировал именно так, как реагировал обычно: он стал искать мотивы, которые можно было бы использовать при защите обвиняемого. В этот момент он, правда, еще сам ясно не сознавал, что уже взялся вести дело-дело Динклаге.
Они начали спорить.
– Вы, кажется, не в восторге, – сказал Шефольд.
– Я не могу себе представить, чтобы армия пошла на это.
Значит, Хайншток был прав.
– Как? Не может быть!
Сухо, методично Кимброу начал перечислять тактические причины, препятствующие тому, чтобы армия пошла на предложение Динклаге. Шефольд их не запомнил. Это было для него как урок математики в гимназии, когда он с самого начала, лишь только приступили к алгебре, ничего не понимал, не хотел понимать.
Он перебил Кимброу и сказал:
– Это такое дело, от которого вы не можете отказаться.
Кимброу разозлился, что Шефольд апеллирует именно к нему. Если бы он сказал «they» [30]30
Они (англ.).
[Закрыть]вместо «you» [31]31
Вы (англ.).
[Закрыть], все было бы в порядке. Ведь он из упрямства уже решил было согласиться.
– Чепуха, – сказал он. – Мне незачем браться за безнадежные случаи.
– Странно, – сказал Шефольд. – Вы говорите о майоре Динклаге так, будто он преступник.
– А он и есть преступник. В любой армии мира то, что он намерен сделать, квалифицируется как преступление.
– И вы бы не стали его защищать?
– Возможно, я и стал бы его защищать. Но вы требуете, чтобы я участвовал в его преступлении.
Да, Хайншток всегда был прав. Жаль, подумал Шефольд, что этот молодой американец, который – правда, не из пацифизма, а по причинам, связанным с историей Америки, – настроен против войны, не может, видимо, мыслить иначе, чем интернационал офицеров.
– Я же в нем участвую, – сказал Шефольд.
– Вы человек штатский, – возразил Кимброу, – и немецкий патриот. Вам все позволено.
Утверждение, что он немецкий патриот, потрясло Шефольда до глубины души. Он был убежден, что последние семь лет систематически отучал себя любить Германию.
Кимброу размышлял о праве. Он знал, что по отношению к Шефольду он действовал не в соответствии с нормами права, а лишь в соответствии с правилами игры, принятыми в определенной группе общества. В Emory's Lamar Law School [32]32
Юридический факультет имени Лэймара университета Эмори (англ.).
[Закрыть] ему внушали, что со времен провозглашения республики лучшие американские юристы всегда боролись против притязаний привилегированных групп.
– Ну ладно, – сказал он и встал, – я поеду в Сен-Вит и доложу об этом деле. И удивятся же там.
Только теперь, говоря о третьих лицах, он признал, что дело Динклаге может вызвать удивление. Сам он – если не считать этого задумчиво-сухого «what makes him tick?» – не выказал ни малейших признаков удивления.
– Собственно, мне следовало сначала обратиться к командиру батальона, – сказал он. – Но я пойду к Бобу Уилеру, потом вместе с ним к полковнику. Конечно, получу нагоняй, но не всегда же соблюдать установленный порядок. – И спросил: – Почему вы не пошли с этим сразу к майору Уилеру, док? В конце концов, он ведает такими делами, вы ведь знаете.
– Не всегда же соблюдать установленный порядок, – сказал Шефольд.
Кимброу рассмеялся.
– Нет, – сказал он, – просто вы справедливо опасались, что Боб сразу откажет. Если же дело попадет к строевому офицеру, оно пойдет дальше по инстанциям. Я не только доложу о нем, – добавил он, – я буду его защищать. Я буду настаивать – чего вы не смогли бы сделать, – на том, чтобы Боб сообщил об этом деле полковнику Р. Не потому, что я в это верю, а просто потому, что мне интересно, как отреагируют на него наши предводители (он сказал: «brass-hats» [33]33
Высокие чины (англ.).
[Закрыть]).
«Во всяком случае, игра эта достаточно интересная, чтобы сыграть ее до конца», – подумал Кимброу. Понял ли он, почувствовал ли уже тогда, в тот момент, что от этого дела («это такое дело, от которого вы не можете отказаться») ему, в конце концов, никуда не деться, мы не знаем.
– Не можете ли вы взять меня с собой в Сен-Вит? – спросил Шефольд. – Мне надо нанести один визит.
– Охотно, – сказал Кимброу, – только обратно я вряд ли смогу вас подвезти. Насколько я знаю нашу армию, ей понадобится полночи, а может, и целая ночь, чтобы расхлебать кашу, которую вы предлагаете заварить.
Нельзя недооценивать армию. Если уж она возьмется за дело, то основательно. Полковник Р. обратится в дивизию, но даже командир дивизии не примет решения, не связавшись с начальником штаба армии.
– Не важно, – сказал Шефольд, – я найду водителя, который захватит меня на обратном пути.
Решился ли полковник Р. еще в ночь с субботы на воскресенье поднять с постели командира дивизии, а тот – начальника штаба армии, так и останется в потемках истории. Майор Уилер только насмешливо посмотрел на своего друга Кимброу, поняв, что молодой капитан совершенно серьезно считает, что в связи с делом Динклаге объявят VI степень боевой готовности (и темпы тоже будут соответствующие).
Но даже Уилер не мог предусмотреть, сколько времени понадобится штабам, прежде чем они в конце концов соблаговолят принять решение.
«Если бы я, – подумал Шефольд, – в прошлую субботу примирился с тем, что Кимброу не выказал ни малейшего восторга, услышав мое сообщение, то сейчас мне не пришлось бы идти рядом с этим типичным нацистским солдатом через вражескую деревню. Надо было только внимательно слушать и тогда же отказаться от этого дела. Хайншток нисколько бы не огорчился».
Он лежал и читал! Правда, проверяя посты, он нашел Борека там, где его поставил, на опушке леса. Но Борек не стоял: он лежал на траве и читал книгу. И даже не вскочил, когда перед ним оказался начальник караула, не схватил свою винтовку, не попытался сделать вид, что хочет встать навытяжку, а остался лежать, только вопрошающе поднял глаза, оторвавшись от своей книжонки.
Проступок был настолько серьезен, что орать на Борека не имело никакого смысла.
– А ну, – сказал Райдель скорее тихим голосом и с той знаменитой язвительностью, от которой всех остальных словно льдом сковывало, – поднимай свой мешок костей!
Борек встал. Он распрямил конечности и сразу оказался выше Райделя на целую голову.
– Убери свою книжонку!
Книга была маленькая, тоненькая, умещалась в кармане френча.
– Возьми карабин!
Теперь, когда Борек снова стал похож на часового, Райдель сказал:
– Это тебе дорого обойдется – получишь четырнадцать суток гауптвахты.
На этом все было кончено, всякая дальнейшая болтовня была излишней, и вдруг он слышит, как Борек заявляет:
– Что за бред! Я хоть и читал, но продолжал следить. Никого не было. Ближайшие крестьянские дворы в пяти километрах отсюда. На эту пустошь вообще никто никогда не приходит. Разве что появится иногда подвода с дровами. А уж это я бы увидел и услышал, можешь не сомневаться!
Рота проводила снайперские стрельбы на пустоши под Раннерсом, и Борек, как очень близорукий, не видящий без очков и потому не пригодный для стрельбы, был назначен в караул – охранять местность. Собственно, даже не столько местность, сколько штатских датчан, которые могли получить пулю в лоб, если бы зашли на полигон. Вместо того чтобы стоять на посту, Борек лег себе на травку и стал читать. Тут и толковать было не о чем, все ясно. Но Борек посмел ему возражать, притом так, что было видно: если Райдель пустит в ход свой язвительный тон, этот не наложит в штаны от страха.
Охотнее всего Райдель сейчас прикоснулся бы к нему рукой. Но устав не допускает, чтобы старший по званию дотрагивался до подчиненного. Штатскому можно было врезать как следует, дать хорошего пинка – хотя, наверно, он совершил ошибку, дав пинка этому зазнавшемуся типу, который шагал теперь рядом с ним по Винтерспельту, – но подчиненному – никогда.
– Заткнись! – сказал он. – Со мной этот трюк не пройдет.
– О чем ты? – спросил Борек.
– Брось прикидываться дурачком! – Он передразнил Борека:– «Из-за душевной предрасположенности».
Он почувствовал, как Борек внимательно посмотрел на него.
– Это ты называешь «трюком»?
– Ясное дело, – сказал Райдель. – Хочешь попасть на тепленькое местечко, больше ничего. Ради этого готов даже на четырнадцать суток гауптвахты. Чтобы тебя потом на комиссию и отправили куда-нибудь, где ты не будешь мешать службе. Там уж ты сможешь спокойненько почитывать свои книжонки.
– Другие тоже так обо мне думают?
– А то нет! Все убеждены, что у тебя только это на уме.
Наступило томительное молчание. Они стояли друг против
друга, Райдель чувствовал, что Борек смотрит на него, но сам не решался посмотреть на Борека. Летний день на датской пустоши обжигал кожу.
– Две недели гауптвахты я получу, – сказал Борек, – только если ты обо мне доложишь?
– Доложить я обязан, – сказал Райдель, тон его вдруг стал угрюмым. – Шнапс шнапсом, а служба службой.
– Господи, – сказал Борек, – ну и поговорки у вас!
Каждый раз, вспоминая, что с того дня рядовой Борек стал
изо всех сил стараться, Райдель удивлялся. Не столько из-за «душевной предрасположенности», сколько из-за физической слабости Борек, конечно, так и не стал образцовым солдатом – марши с полной выкладкой, занятия на местности (например, перекатывание после тройного прыжка) или рытье окопов могли довести его до состояния полного изнеможения, но, если не считать этого, он являл собой радостную для начальства картину служебного рвения (не подлизываясь при этом), весьма успешного старания не отставать, дисциплины в сочетании с высшей добродетелью солдата – способностью не привлекать к себе внимания.
Даже фельдфебель заметил это.
– Нет, – сказал он как-то фельдфебелю Вагнеру, – это просто невероятно.
Вагнер рассказал это Р: йделю и добавил:
– Я думаю, он вычеркнул Борека из своего черного списка.
Во избежание путаницы необходимо со всей ясностью указать, что речь здесь идет о хауптфельдфебеле 3-й роты, а не о батальонном фельдфебеле, штабс-фельдфебеле Каммерере.
Все звали ее Мирей – «Мирей, еще две кружки светлого!». Имя это к ней не подходило, потому что она была не девушкой, на которую можно глядеть с восторгбм, словно на маленькое чудо, а опытной женщиной с жестким характером; и если эта ее опытность, жесткость не выступали на передний план, то лишь потому, что у нее было асимметричное, худое лицо, она вообще была такой истощенной – то ли от работы, то ли от болезни, то ли просто от природы, – что только влюбленный мог бы счесть ее стройной или, если он звался Шефольд, внушить себе, что она словно сплетена из прозрачных теней и напоминает то темное место на гравюре, где как бы сконцентрирован, сосредоточен дух художника, хотя на самом деле облик ее скорее всего определялся просто тем, что она носила черное платье (может быть, она была вдовой? Но нет, он ни разу не видел на ее пальцах колец), что ее желтоватая кожа казалась смуглой из-за темных волос (Мемлинг!), а в этом трактире был всегда тусклый свет.
Ради нее Шефольд обрек себя на то, чтобы с половины шестого-то есть с того момента, когда капитан Кимброу высадил его в Сен-Вите, – пить горькое пиво, читать газету за столиком с крышкой из коричневого пластика в этой пивной, настолько низкоразрядной, что для американских солдат она была off limits [34]34
Запрещена (англ.)
[Закрыть], около семи часов съесть ужин, состоявший из стекловидного картофеля, плававшей в воде фасоли и ватной колбасы – его передергивало, когда, он об этом думал, – растянуть свое пребывание здесь до девяти часов, чтобы наконец, в последний раз подозвав к себе официантку, расплатиться и уйти. Против ожидания, он не нашел никого, кто доставил бы его обратно в Маспельт, так что весь путь до Хеммереса ему пришлось проделать пешком. Но ночь была прекрасная. Прекрасная и к тому же поучительная, потому что отсюда, с высоты, где так легко дышалось, с этой дороги, ведущей из Сен-Вита в Люксембург, он видел и слышал войну, – войну, которая там, в глубине, где находился Хеммерес, была скрыта от него. Он смотрел, как взмывали вверх и гасли сигнальные ракеты, на несколько мгновений заливая светло-серым светом поросшие лесом горы, а севернее на небе желтоватыми сполохами обозначалась битва в Хюртгенвальде-даже сюда доносился ее грохот. Великолепное зрелище, великолепное для одинокого путника, который может не опасаться, что осколки гранаты попадут ему в голову или в живот или обломают ели возле его окопа, оставив изуродованные пни, накрыв разлапистыми ветвями того, кто, скорчившись в этом своем окопе, безмолвно заклинает неведомое существо: «Господи, только не прямое попадание, умоляю, умоляю, только не прямое попадание!»
В прошлую субботу Шефольд мгновенно сориентировался и попросил Кимброу захватить его в Сен-Вит. Ведь в ближайшие дни ему предстояло бывать только у Хайнштока и у Кимброу, а потом отправиться к Динклаге. Он знал, что у него не будет времени ни на что другое, – в субботу была последняя возможность еще раз увидеть эту женщину. Лишь сегодня вечером он
сможет наконец доставить себе удовольствие снова повидать ее.
Странно, но в ее присутствии у него всегда появлялось ощущение, что те приемы, с помощью которых он скрывал от женщин свои чувства, на нее не действуют. Хотя он тщательно старался не смотреть на нее, никогда не следил за ней взглядом, тем не менее считал, что она может совершенно неожиданно, именно тогда, когда он к этому будет меньше всего подготовлен (например, молча приняв у него заказ), вдруг спросить: «Чего вы, собственно, от меня хотите?»








