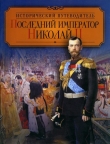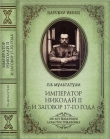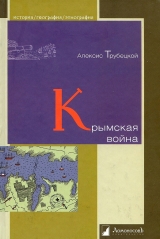
Текст книги "Крымская война"
Автор книги: Алексис Трубецкой
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Тем временем флот адмирала Паркера приближался к Безикской бухте. Для предотвращения нападения со стороны русских было признано целесообразным получить разрешение встать на якорь в непосредственной близости от Константинополя, что противоречило Конвенции о Проливах 1841 года. По этому поводу в последние дни октября состоялся обмен депешами между британским консулом в Дарданеллах и турецким военным губернатором. Документы конвенции были заново изучены, и это исследование привело к их оригинальной интерпретации. Турция и Британия согласились, что конвенция все же позволяет военным судам входить в Дарданеллы, но только до сужения пролива – того места, где в античные времена Леандр входил в воду, чтобы переплыть на другую сторону и встретиться с Геро.
Находясь под впечатлением угрозы, нависшей над Портой, встревоженный султан предоставил английскому флоту полную свободу действий. Преимущества, даваемые флоту безопасной стоянкой и близостью к Константинополю, по мнению Стратфорда, перевесят любые возражения против захода в Дарданеллы. И 2 ноября британский флот вошел в Проливы. По удивительному совпадению в тот же самый день Австрия благополучно завершила переговоры с Турцией по проблеме венгерских беженцев.
Когда известие о возмутительном нарушении Британией Конвенции о Проливах достигла Петербурга, разгневанный император приказал заявить британскому послу решительный протест. Блумфилд был вызван в министерство иностранных дел, и от него потребовали объяснений. Заход английского флота в Дарданеллы, согласно ответу Блумфилда, был связан исключительно с погодными условиями, которые угрожали безопасности судов. В Лондоне Пальмерстон поспешно заверил российского посла, что проникновение флота в Проливы вопреки сделанным ранее обещаниям было «исключительно вынужденной мерой». Премьер-министр Рассел признал при встрече с Брунновым, что Стратфорд – это «человек, способный рассориться с собственным бутербродом». Тем не менее Бруннов заявил, что, если правительство ее величества не отдаст немедленного распоряжения о выводе британского флота из Дарданелл, он пошлет в Санкт-Петербург депешу с рекомендацией отправить эскадру адмирала Лазарева в Босфор. Переговоры Бруннова с Пальмерстоном в роскошном загородном доме последнего продолжались еще два дня. Пальмерстон согласился незамедлительно отозвать флот, но отказался выполнить требование русского посла наказать адмирала Паркера.
Тем временем Стратфорд решил, что оставлять флот на существующей позиции бесполезно и даже опасно. Проблема венгерских беженцев была уже улажена и Россией и Австрией, а потому причина для демонстрации силы исчезла. Каннинг написал Портеру: «В данных обстоятельствах мне представляется важным вывод эскадры… Я сожалею о необходимости этих действий». Тринадцатого ноября британский флот покинул Проливы и вышел в Средиземное море, так и не успев получить приказ из Лондона на этот счет.
Вскоре после возвращения флота Блумфилд вручил российскому министру иностранных дел официальное послание, в котором Пальмерстон приносил свои извинения и осуждал интерпретацию Стратфордом условий Конвенции о Проливах. Россия и Англия подтвердили, что запрет на вхождение в Проливы иностранных военных судов будет впредь строго соблюдаться. Если же какой-либо британский корабль нарушит этот запрет, Россия будет вправе принять соответствующие меры противодействия.
Извинения британской стороны успокоили Николая, и инцидент был исчерпан. Бурные события, порожденные венгерским восстанием, привели Британию и Россию на грань военного столкновения. И все же переговоры и дипломатические усилия привели к мирному разрешению конфликта, и союз, заключенный в 1844 году, сохранился – по крайней мере на какое-то время. Однако основанию этого союза был нанесен непоправимый ущерб.
Конвенция о Проливах была нарушена Британией совершенно безнаказанно и без какой-либо оглядки на турецкие власти. Однако турки смогли одержать важную дипломатическую победу над Россией. Надо также отметить, что в течение всего кризиса Стратфорд открыто демонстрировал свою личную неприязнь к русскому императору и при этом сумел заручиться постоянной поддержкой Лондона. Николай пришел к убеждению, что до тех пор, пока Пальмерстон остается министром иностранных дел, а Стратфорд – британским послом в Константинополе, на помощь Британии в сохранении мира в этом регионе полагаться нельзя. Беспокойство русских усугубляло то обстоятельство, что Стратфорд Каннинг получил право лично распоряжаться средиземноморской британской эскадрой – опасный прецедент такого распоряжения уже был создан.
Войны в эти осенние месяцы 1849 года, хоть и с трудом, удалось избежать. Но последующие четыре года увидят почти полное повторение этого сценария. Пальмерстон по-прежнему останется в кресле министра иностранных дел, а Стратфорд – посла в Константинополе. Другая эскадра британских военных кораблей снова войдет в Проливы – и снова по инициативе и под контролем Стратфорда. На этот раз, правда, этой стороной будет не Британия, а Франция. Франция, управляемая неугомонным Луи-Наполеоном – уже не президентом, а королем.
Глава 6
Наполеон III и Иерусалим

Орлеанская династия пала во Франции 24 февраля 1848 года. Луи-Филипп бежал в Англию, и палата депутатов передала контроль над правительством группе республиканских и социалистических лидеров. В первые дни Второй республики оставалось неясным, какой флаг станет государственным – трехцветный или красный. Лидер республиканцев, поэт и историк Ламартин, произнес страстную речь, убеждая временное правительство принять трехцветный флаг. Однако левое крыло настояло на том, чтобы к древку флага крепилась красная розетка.
В начале марта были сняты ограничения с прессы, и в последующие четыре месяца появилось более двухсот новых периодических изданий. Пятого марта стало известно, что общие выборы состоятся в апреле. Право голоса получали все мужчины старше двадцати одного года, в результате чего количество избирателей возросло с 240 000 до 8 000 000 человек. Двадцать третьего апреля более 80 % избирателей приняли участие в выборах в Учредительное собрание, которое оказалось весьма умеренным по составу. Социалисты, лейбористы и коммунисты получили менее четверти из 840 мест. Потерпевшие поражение радикалы призвали к уличным акциям. В июне ими была предпринята неудачная попытка восстания, закончившаяся арестом более пятнадцати тысяч мятежников, многих из которых бросили в тюрьмы, изгнали из страны или казнили. В результате левое движение было подавлено, но правительство Второй республики в значительной степени утратило доверие народа.
К ноябрю работа над новой конституцией, предусматривающей разделение властей, завершилась. Законодательная власть отходила к палате депутатов, избираемой всеобщим голосованием взрослого мужского населения. Исполнительная власть передавалась президенту, который избирался на 4 года и только на один срок.
Президентские выборы были назначены на 10 декабря. По мере приближения дня голосования становилось ясно, что во Франции нет признанного политического лидера. Социалисты потерпели поражение, а республиканцы после июньского восстания установили военный режим правления. Со времени падения Луи-Филиппа, случившегося десять месяцев тому назад, ни один политик не снискал популярности в глазах французов. Требовалось появление совершенно новой фигуры, которая не была связана с событиями последних месяцев и могла обеспечить спокойную деятельность правительства.
Такого человека Франция обрела в лице принца Луи-Наполеона – племянник великого императора недавно вернулся на родину из Англии. Глава наполеоновского клана принц Луи-Наполеон унаследовал авторитет своего дяди – для крестьян само его имя воплощало идею закона и порядка. Лишенные предводителей рабочие с одобрением встретили его брошюру L'Extinction du paupérisme [55]55
«Ликвидация нищеты» (фр.).
[Закрыть]. Для патриотов и военных Луи воплощал былую славу Франции. В результате Луи-Наполеон одержал полную победу на выборах, получив 75 % голосов, и 20 декабря принес клятву президента Французской республики.
Наполеон обещал своим избирателям процветание и длительный мир. Процветание он действительно дал, чего нельзя сказать о мире: уже через шесть лет началась война с Россией. «Он утверждал, что к войне его принудили, – писал о Луи-Наполеоне его современник, – и мы ему верили. Мы думали, что он стал жертвой честолюбивых планов России или желания Британии разрушить Кронштадт и Севастополь… а сейчас мы видим, что он сам способствовал разжиганию этой войны… что он инициировал все решительные действия для ее начала».
Внешне Луи-Наполеон вряд ли подходил для президентского поста. Короткие ноги и чересчур длинный торс производили впечатление неуклюжести. Несколько выше он казался в седле. Особенно сильное впечатление производили его усы – длинные, черные, нафабренные. Взгляд первого Наполеона пронизывал собеседника, взгляд его племянника был тусклым и вялым. Как писал Кинглейк, он походил на «ткача, согбенного, с погасшим взором, угнетенного долгими часами монотонного труда в душном помещении».
Но в личности Луи-Наполеона было и немало привлекательного. Его отличали дружелюбие и добродушный нрав. Чем лучше его узнавали люди, тем большей симпатией к нему проникались. Он очаровывал своей любезностью и мягкостью, серьезностью и внезапными вспышками остроумия. Легче всего он завоевывал расположение детей, ученых, священников и женщин. В Англии Луи-Наполеон особенно нравился владельцам сельских усадеб, поскольку очень быстро овладел навыками верховой охоты с гончими. (Умение Луи обращаться с лошадьми восхищало его дядю, бывшего артиллерийского офицера, чье искусство верховой езды оставляло желать лучшего.)
Люди считали Луи-Наполеона нудноватым. Он неторопливо излагал свои мысли, и его лицо при этом отнюдь не излучало блеска ума. Однако он упорно трудился, и из-под его пера вышли десятки брошюр, статей и писем по вопросам общественной значимости – о конституции, о швейцарской политике, о производстве сахара. Он издал Manuel d'artillerie, des idées napoléoniennes [56]56
«Руководство по артиллерии. Воззрения Наполеона» (фр.).
[Закрыть], размышлял о строительстве канала через территорию Никарагуа, о вербовке солдат во французскую армию. Луи-Наполеон вел переписку с республиканцами и социалистами. В годы изгнания, проведенные в Англии, его воспринимали не столько серьезным претендентом на французский престол, сколько просто оригинальной личностью.
Луи-Наполеон был сыном младшего брата Бонапарта, голландского короля Луи, и Гортензии Богарне, дочери Жозефины Богарне, первой жены Бонапарта. Юный принц воспитывался матерью в Германии, Италии и Швейцарии. Он посещал гимназию в Аугсбурге, где приобрел свой немецкий акцент. С молодых лет он приобщился к либерализму, который в его понимании был синонимом бонапартизма. В 1830 году Луи-Наполеон примкнул к карбонариям и участвовал в итальянском освободительном движении. Едва избежав ареста австрийскими властями (в значительной степени благодаря связям своей матери), бежал во Францию, где присоединился к республиканцам, за что вскоре был выслан в Англию.
В 1832 году умер сын Наполеона, его законный наследник герцог Рейхштадтский. Отец Луи-Наполеона, который тихо и мирно жил во Флоренции, не выказал ни малейшего намерения претендовать на французскую корону. То же можно сказать о дяде Луи-Наполеона Жозефе, в прошлом неаполитанском и испанском короле. Луи-Наполеон воспользовался сложившимися обстоятельствами и объявил себя истинным законным наследником Бонапарта. С тех пор все его ученые труды и иные усилия были направлены на то, чтобы отвоевать эти права у ненавистных Бурбонов.
Часами напролет он сидел за бумагами и строил планы. Незаурядная сила воображения помогала ему разрабатывать изощренные схемы. Однако этого воображения не хватило для того, чтобы предугадать собственную реакцию на критическую ситуацию. Он опрометчиво ввязался в борьбу, но, встретившись лицом к лицу с опасностью, испугался и отступил.
Однако мысль о французском престоле не покидала Луи. В мечтах он видел себя на высоком посту, взирающим на мир, который в свою очередь смотрел на него снизу вверх. Такое честолюбие сочеталось в нем со страстью к мелодраматическим эффектам. Будь Луи-Наполеон обычным человеком, он не оставил бы следа в истории. Но случайные обстоятельства его рождения сделали его претендентом на французский престол.
Свое первое впечатляющее театральное действо Луи представил миру в возрасте двадцати восьми лет. С помощью горстки романтически настроенных друзей молодой принц подстрекал на мятеж страсбургский гарнизон. Его главным сообщником в этом деле стал полковник Водри, ветеран наполеоновской армии и командир 4-го артиллерийского полка. Утром 30 октября 1836 года Водри объявил своим подчиненным, что в Париже революционеры свергли короля. Он убедил их признать Луи новым королем Наполеоном II и приказал заключить под стражу префекта и командира гарнизона. Вооруженные отряды направились к домам названных людей и без малейшего шума арестовали обоих. Гарнизон оставался в полном неведении относительно происходящего. Затем, облачившись в исторический мундир своего дяди, воспроизведенный с величайшей тщательностью до малейших деталей, Луи-Наполеон явился к арестованному генералу, не сомневаясь в том, что сможет убедить старого воина принять его сторону. Однако генерал Вуараль не выказал ни восхищения, ни готовности к сотрудничеству. Тогда Луи в сопровождении «императорской свиты» отправился в казармы 46-го полка.
Солдаты полка были застигнуты врасплох, услышав, что перед ними – их новый монарх Наполеон II. В обстановке общей растерянности воцарилась почтительная, но неловкая и подозрительная тишина. В этот момент в расположении полка появился его запыхавшийся командир подполковник Таланте, которому уже было известно о предшествовавших событиях. Он немедленно приказал закрыть все выходы и направился прямо к самозваному императору. Обряженный в имитацию мундира великого полководца, Луи, привыкший скорее к перу, чем к шпаге, в растерянности стоял на площади для смотров. Перед ним был вполне реальный, в отличие от наполеоновского костюма, и при этом брызжущий яростью полковой командир, в казармы которого вторгся непрошеный гость. Ситуация была крайне неприятная, хотя и вполне ожидаемая. Подполковник потребовал немедленно прекратить балаган. Луи, поколебавшись, залился краской и уступил. У него отобрали шпагу и украшавшие мундир ордена и вместе с несчастным Водри и прочими членами «императорской свиты» взяли под стражу.
Министры короля настаивали на тюремном заключении для незадачливого претендента на престол. Однако Луи-Филипп не захотел делать из него мученика, пострадавшего за преданность бонапартизму. Принца отправили в Лориент и посадили на корабль, плывущий в Америку. От щедрот короля изгнаннику выдали 600 фунтов. Однако через год, выправив себе швейцарский паспорт, принц Луи вернулся в Европу, вынашивая новые планы восхождения на французский трон.
Таким был человек, который в 1848 году вполне законным образом стал президентом Французской республики.
В то время, когда русский император помогал Австрии подавить венгерское восстание, а Луи-Наполеон восходил на вершины власти, вдали от кабинетов и дворцов Парижа, Лондона и Санкт-Петербурга разворачивались события совсем иного толка. На застывших в оцепенении холмах Палестины, казалось бы, пустяковые раздоры между невежественными монахами вдруг приобрели международное значение. Раздоры, касавшиеся ключей, лестниц, привратников, огородов и различных построек, в конечном счете привели к столкновению самых сильных европейских армий. Это, говоря словами Пальмерстона, «само по себе совершенно незначительное дело» послужило непосредственным поводом для Крымской войны.
С эпохи ранних христиан храбрецы, движимые верой и страстным желанием прикоснуться к земле, по которой ступали святые ноги Спасителя, отправлялись в Иерусалим. В Средние века это стремление было настолько сильным, что оно заставило многие тысячи верующих принять участие в крестовых походах для завоевания этой далекой бесплодной земли. К XIX веку страсть к паломничеству отнюдь не остыла – люди продолжали толпами прибывать на Святую землю, где повсеместно возникали религиозные общины. Греки, грузины, армяне и даже американские конгрегационалисты [57]57
Конгрегационализм – одно из течений кальвинизма, возникшее в Англии во второй половине XVI века.
[Закрыть]открывали там приюты и гостиницы для паломников.
На протяжении веков манящие тайны святых реликвий весьма изобретательно использовались предприимчивыми местными священнослужителями. Это был крупный бизнес, и стремление к наживе порождало постоянное соперничество между церквями. К мусульманским властям обращались с просьбами разбирать споры о принадлежности той или иной святыни, а турецким солдатам нередко приходилось с оружием в руках охранять наиболее важные святые места, чтобы не допустить кровопролития между христианами.
Акты насилия, жестокие стычки, сильнейшая зависть – все это было свойственно христианскому братству Иерусалима. Например в 1842 году греки затратили немало средств на восстановление пришедшей в упадок базилики Рождества Христова в Вифлееме. При этом строители во всех деталях воссоздавали первоначальную архитектуру храма, в том числе реставрировали северный неф и ступени, ведущие к пещере Рождества. Обе эти зоны находились под юрисдикцией армянской церкви, о чьих пожеланиях греки, к сожалению, не осведомились перед началом работ. Армянская община пришла в неописуемый гнев и немедленно получила от турецких властей фирман, то есть разрешение, на ликвидацию всего, что сделали греки. Права армян были восстановлены, и теперь они могли с удовлетворением наблюдать, как стремительно разрушается их святыня.
Соперничество за контроль над святыми местами было особенно острым между православной и католической церквями, иначе говоря, между греческой и римской ветвями христианства. В 636 году халиф Омар подписал фирман, согласно которому христианские святыни отдавались во владение грекам. В последующие одиннадцать столетий римская церковь оспаривала эту привилегию греков и святые места то и дело меняли владельцев в зависимости от того, откуда исходило более сильное давление на мусульманских правителей – из Рима или Константинополя. В 1740 году между Францией и Портой был заключен договор, согласно которому все права на Святую землю отходили к римско-католический церкви. Православная церковь, естественно, не захотела с этим мириться, и имевший давнюю традицию спор не утихал. В 1757 году своим указом султан положил конец особенно яростному столкновению между православными и католиками, приняв сторону первых. Католикам было предписано освободить храм Гроба Господня и церковь Успения Богородицы. Под опеку православной церкви были переданы и другие важные христианские святыни.
В 1808 году пожар уничтожил храм Гроба Господня и православная церковь получила от турецких властей разрешение восстановить сгоревшее здание. По всему миру православные жертвовали деньги на строительство храма, и довольно скоро работы были завершены. В ходе этой благородной акции неожиданно и необъяснимо исчезли католические святыни – могилы Годфрида Бульонского [58]58
Готфрид Бульонский (1060–1100) – герцог Нижней Лотарингии, потомок Карла Великого, один из предводителей крестоносцев, был погребен с великими почестями близ храма Гроба Господня в Иерусалиме.
[Закрыть]и Балдуина [59]59
Болдуин I (1174–1205) – младший брат Готфрида Бульонского, первый король Иерусалимский.
[Закрыть]. Что еще более удивительно, на куполе храма статут четырех евангелистов поменяли католические одеяния на православные. Господствующее положение православия ощущалось во всем.
Тем временем греческая церковь продолжала добиваться все новых привилегий, что вело к углублению раздора. В 1819 году ссора между православными и католическими монахами привела к кровопролитию и заставила правительства России и Франции вмешаться в конфликт. Французский король объявил себя «наследственным защитником католиков на Востоке», а российский император – «правителем большинства последователей православной церкви». В качестве предварительной меры было решено послать на Святую землю по одному представителю от Франции и России, чтобы те на месте собрали точные сведения о происходящем. Граф де Марселлюс [60]60
Марселлюс, Мари-Жан де (1795–1865) – граф, французский ученый-эллинист и дипломат, в 1820 году открыл знаменитую статую Венеры Милосской.
[Закрыть]и посол Дашков трудились в тесном контакте, что обещало скорое и удовлетворительное урегулирование проблемы. Однако революция 1821 года в Греции вынудила стороны прервать переговоры.
Тем временем поток паломников на Святую землю не прекращался. Особенно много людей приезжали из России, где обряд паломничества считался священным. На Рождество 1831 года количество российских паломников составило около четырех тысяч, причем только четверо не были православными. Люди устремлялись на Святую землю со всех концов необъятной империи. Как писал профессор Темперли [61]61
Темперли, Гарольд Уильям (1879–1939) – английский историк.
[Закрыть], «с берегов Байкала и из Архангельска, с Карпат и Кавказа шли оборванные крестьяне, распевая псалмы, каясь в совершенных грехах, провозглашая веру в простые евангельские заповеди… На Рождество и Пасху пятьдесят миллионов русских молились, обратив свои взоры на Иерусалим, где паломники из России стояли на коленях перед гробом Спасителя».
В то же время во Франции в XIX веке религиозный пыл был в значительной мере утрачен под влиянием «просветительских» революционных идей. Паломничество стало редким, интерес к Святой земле угас. Уже упомянутый Кинглейк отмечал: «Ближайшим подобием паломника, которым могла похвастаться католическая церковь, стал обыкновенный французский турист с блокнотом в руках – возможно, подумывающий написать книгу о своем путешествии». Время от времени французское министерство иностранных дел заявляло символические протесты, чтобы напомнить о традиционной позиции Франции как защитника католической церкви, но дальше этого дело не шло. О таком положении свидетельствует и журнальная статья, опубликованная в 1850 году:
…Католики не удовлетворены ролью Франции как защитницы их интересов довольно давно, но в последние годы они испытывают особенное разочарование. Франция позволила православному духовенству мало-помалу захватить большинство святых мест в Иерусалиме и Вифлееме… И такие жалобы со стороны католиков уже не новы.
Именно в этот момент на европейской политической сцене появился Луи-Наполеон. В течение двух лет со дня избрания он добился полного контроля над действиями правительства. Следующим этапом было завоевание популярности во всей стране, и для этого, решил он, необходимо прежде всего завоевать расположение церковных кругов. Духовенство благоволило к нему с самого начала восхождения Луи-Наполеона к власти – можно сказать, что свой пост президента он получил в значительной степени в результате поддержки римско-католической церкви. Близкие отношения с церковью не только обеспечивали ему приязнь граждан-католиков, но и давали могущественного консервативного союзника, поскольку самым прочным барьером, защищающим от революции, оставались «люди в черном».
Наполеона Бонапарта называли «восстановителем алтарей», и племянник императора преисполнился решимости идти по стопам дяди. На церкви и религиозные благотворительные организации посыпались щедрые дары и субсидии. Законодательство, регулировавшее деятельность монашеских братств, значительно упростилось. В средних школах ввели обязательные уроки религии, и церковь получила свободу вмешиваться во все аспекты образования и воспитания. Не удивительно, что духовенство считало правление Луи-Наполеона «благом, ниспосланным небом».
С возрождением прежних притязаний и традиционных старинных привилегий церкви воодушевленное успехом духовенство обратило свои взоры на Восток: ведь Франция имеет священные обязательства перед Святой землей. Возвращение иерусалимских святынь – это вопрос национальной чести и главенства римско-католической церкви. Луи-Наполеон согласился с такой позицией.
И вот 26 мая 1850 года французский посол в Константинополе генерал Опик [62]62
Опик, Жак (1789–1857) – французский генерал и дипломат, отчим Шарля Бодлера.
[Закрыть]получил послание из Парижа. Послу надлежало обратиться к турецким властям с официальным требованием: султан должен признать права Франции в Святой земле, обусловленные договором 1740 года. Выпущенные с тех пор фирманы, передающие фактический контроль над святынями православной церкви, должны быть отменены. Опику следовало заявить, что одностороннее аннулирование двусторонних соглашений не может быть признано Францией независимо от того, как давно оно имело место.
По этому поводу Стратфорд писал из Константинополя Пальмерстону: «Генерал Опик заверил меня, что речь идет лишь о собственности и о четком соблюдении условий договора. Однако трудно отделить эти вопросы от политических соображений. Предстоящие переговоры по проблеме, скорее всего, приведут к усилению борьбы за общее влияние в Порте, особенно если Россия, как и следует ожидать, выступит в защиту православной церкви». Воскрешение таких притязаний Франции по прошествии почти столетия стало весьма опасным дипломатическим ходом. Трудно было ожидать, что русский царь согласится с изгнанием православных монахов из святых мест, которые они с любовью опекали десятки лет. Со всей очевидностью он не потерпит фактического разрушения православной церкви в Иерусалиме, а именно к этому могло привести удовлетворение французских требований. Российский посол Титов выразил решительный протест по поводу притязаний Франции. Иерусалимские святыни, утверждал он, принадлежат православной церкви в силу договора, подписанного халифом Омаром еще в 636 году.
В чем же конкретно заключались требования французской стороны, которые в конце концов привели ко вторжению союзников в Крым? Первый и самый принципиальный вопрос касался ключа к главному входу в базилику Рождества Христова: разве не должны католические монахи иметь такой ключ, чтобы пройти через здание базилики к пещере Рождества? Православная церковь долго упиралась, а потом согласилась предоставить своим христианским собратьям ключ от другой, второстепенной двери в святилище. Подобный компромисс не устроил французов. На ранней стадии дипломатической переписки по этой проблеме канцлер Нессельроде задал вопрос, является ли предмет спора «приспособлением для открывания двери, которое используется исключительно для предотвращения попадания в базилику представителей других ветвей христианства, или… оно служит просто символом». В ответ канцлер получил разъяснение, что требуемый ключ вполне материален и используется для отпирания двери: «Пагубное качество ключа состоит не в том, что он не впускал внутрь православных верующих, а в том, что впускал католиков».
Помимо этого ключа католики требовали ключ к каждой из двух дверей, ведущих к Святым яслям, и претендовали на доступ к ларю и лампаде у гробницы Богородицы. Кроме того, в числе их притязаний были право один раз в году посещать гробницу Богородицы в церкви Успения в Гефсимании и привилегия поместить в базилике Рождества Христова серебряную звезду, украшенную гербом Франции. Что касается Камня помазания и семи арок Богородицы в храме Гроба Господня, то они должны были перейти в исключительную собственность католических монахов.
Испытывая сильнейшее давление послов Франции и России, султан Абдул-Меджид оказался между молотом и наковальней. Русская армия стояла в Дунайских княжествах [63]63
Дунайские княжества – Молдавия и Валахия, в 1859 году они объединились, в результате чего появилась Румыния.
[Закрыть]и могла безнаказанно подойти к Константинополю. С другой стороны, французский средиземноморский флот представлял угрозу для подвластных султану Триполи и Туниса. Следовало также учитывать, что Россия недавно угрожала Турции в связи с проблемой венгерских беженцев, а Франция заявила о своей готовности прийти на помощь султану. Абдул-Меджид назначил специальную комиссию для изучения ситуации со святыми местами. После долгого обдумывания комиссия пришла к заключению, что фирман 636 года, согласно которому греческая церковь получила свои привилегии, должен быть отменен. Договор с католической Францией столетней давности заменил собой соглашение, заключенное двенадцать веков назад.
Однако спор между двумя странами на этом не завершился. Тринадцатого сентября 1851 года Николай написал султану о своей убежденности, что не будет допущено никаких изменений касательно владения христианскими святынями, а если таковые последуют, русский посол немедленно покинет Константинополь. Одновременно с этим Опик был отозван в Париж и его место французского посла в Порте занял де Лавалетт [64]64
Лавалетт, Шарль Жан де (1806–1881) – маркиз, французский дипломат.
[Закрыть]. Новый посол быстро оценил положение дел. «Если бы это зависело от меня, – писал он, – я бы без колебаний использовал мощный флот, которым располагает Франция на Средиземном море, и, заперев Дарданеллы, добился удовлетворительного для нас решения вопроса».
Проблема святынь разрослась до тревожных размеров. Две великие державы оказались в тупике, и возникла реальная угроза, что выйти из него мирным путем не удастся. Эти страны защищали позиции соперничающих церквей. И при этом, как ни странно, ни одна из церквей не выказывала ни малейшей склонности ввязаться в спор. Митрополит Московский Филарет наотрез отказался участвовать в конфликте, не пожелал вмешаться в него и папа Пий IX. На пути в Константинополь посол де Лавалетт остановился в Риме и был принят папой. «К моему великому удивлению, – писал он впоследствии, – Его Святейшество не проявил желания добиваться прав на иерусалимские святыни и вифлеемские ключи».
Пока разворачивались эти события, во Франции разразился конституционный кризис. Дело в том, что согласно конституции Второй республики президент не имел права избираться на второй срок подряд. Все усилия Луи-Наполеона убедить Национальное собрание принять по этому поводу поправку к основному закону не увенчались успехом. Президент рассорился с этим органом, и упрямые законодатели отказались идти ему навстречу. И тогда 2 декабря 1851 года, в годовщину коронации Наполеона Бонапарта и Аустерлицкого сражения, его величайшей победы, Луи-Наполеон совершил государственный переворот. Руководители оппозиции и недружески настроенные к президенту журналисты были арестованы, мятеж в Восточном Париже с центром на улице Фобур-Сент-Антуан – жестоко подавлен, в провинциях введено военное положение. Защитник закона и порядка одержал победу над воображаемым заговором социалистов, и Франция вновь – как заявили власти – стала свободной от фанатиков и радикалов.
В течение трех недель после переворота Луи-Наполеон укрепил свое положение в достаточной степени, чтобы объявить о всеобщих выборах. В голосовании приняли участие около восьми миллионов французов, из которых 7 481 000 выразили свое доверие Луи-Наполеону. Этот результат означал одобрение его действий и давал ему право предложить новую конституцию. Согласно этому документу Луи-Наполеон становился президентом на десять лет и получал поистине диктаторские полномочия.