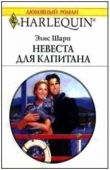Текст книги "Граница. Таежный роман. Солдаты"
Автор книги: Алексей Зернов
Соавторы: Майя Шаповалова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Голощекин плевать хотел на гипотетических правнуков. Он не собирался ждать так долго. И не собирался, как Кощей, трястись над своими сокровищами где-нибудь в подземелье. Он хотел пользоваться всем этим открыто, он жаждал наслаждаться чужой завистью, а не бояться ее.
Ему не нравилась страна, в которой такая власть – ум, честь и совесть эпохи. Ну с умом все понятно, а честь и совесть не накормят. Ум, сила, деньги – вот что такое настоящая власть. И поскольку эпоху сменить он не может, надо менять страну.
Голощекин ударил по тормозам, и «уазик», дернувшись, остановился. Повернув голову, капитан всмотрелся в почти сплошную стену, состоящую из сучковатых еловых стволов. Он сам сперва не понял, почему затормозил, и только спустя мгновение, стиснув челюсти, вспомнил: недавно за этой стеной, в сырой темноте леса, его Марина, задыхаясь в объятиях смазливого лейтенанта, вынесла себе приговор.
Голощекин сплюнул в открытое окно и рванул с места.
Ворота автобазы были распахнуты настежь. Тяжелый грузовик с натужным ревом разворачивался, пытаясь вписаться задом в свободное пространство. Голощекин переждал окончания рискованного маневра, загнал «уазик» на территорию и, выключив мотор, направился к гаражам. Папу он не заметил, хотя тот чаще крутился здесь, чем сидел у себя в конторе.
Увидев знакомого паренька-слесаря, капитан подошел, широко улыбнулся и протянул руку, здороваясь. Паренек смущенно вытер промасленную ладонь о штаны, пожал Голощекину руку.
– Масло вроде подтекает, посмотришь? – спросил капитан.
Паренек кивнул, но как-то неуверенно, и глазами показал на здание конторы. Голощекин насторожился.
Из двухэтажного здания, выкрашенного в дикий грязно-розовый цвет, вышел Папа в сопровождении двух представительного вида мужиков.
Сердце у капитана пропустило один удар.
– Начальство какое-то из области приехало, – пояснил паренек. – Все проверяют чего-то… Петрович злой как черт. А у него дочка замуж выходит, и так забот полон рот.
Голощекин шумно выдохнул.
Представительные мужики забрались в сверкающий «газик», и Папа, как гостеприимный хозяин, проводил выезжающую за ворота машину. Потом вернулся, бросил короткий мрачный взгляд в сторону Голощекина и направился к конторе.
– Дочка, говоришь, замуж выходит? – весело спросил капитан. – Ну пойду поздравлю… Петрович! – крикнул он. – Погоди.
Папа обернулся. Голощекин быстро прошагал по двору, придерживая болтающийся на боку планшет.
– Значит, на свадьбе скоро погуляем? – громко произнес Голощекин, хлопнув Папу по плечу. – Ну поздравляю! С тебя причитается.
Папа ухмыльнулся и так же громко ответил:
– Ну заходи, раз причитается. – Он открыл дверь и придержал, пропуская гостя в темноватый тамбур.
Они миновали узкий коридор с многочисленными дверями, за которыми играло радио, стучала пишущая машинка и бубнил что-то мужской голос, а высокий девичий захлебывался от смеха. Папа открыл обитую дерматином дверь, и Голощекин оказался в небольшой комнатке с забранным решеткой окном, выходящим на стену гаража.
Папа тяжело опустился на стул, налил из графина в стакан мутноватую воду и, выдвинув ящик стола, достал пузырек. Шлепая губами, натряс в стакан тридцать капель и залпом выпил.
– Ну дела-а! – изумленно протянул Голощекин. – Перебрал, что ли, на радостях? Мотор с похмелья отказывает?
– «С похмелья», – ворчливо передразнил его Папа. – Тут и не напьешься толком. – Он хмуро посмотрел на Голощекина. – Пасут меня, кажись.
– Эти? – Голощекин неопределенно мотнул головой на дверь, подразумевая двух представительных мужиков.
– А-а, – махнул рукой Папа, – да нет. Это проверяющие из области.
– Уверен?
– Уверен.
– Тогда с чего ты взял, что пасут?
– Вот тут, – Папа похлопал себя по груди, – неспокойно. Надо лавочку сворачивать, капитан. Всех башлей все равно не загребешь, а на наш век уже хватит.
– На твой, может, и хватит, – жестко произнес Голощекин. – А у меня, как сказал поэт, планов громадье.
– Ну и загремишь ты со своим громадьем, – буркнул Папа и ткнул большим пальцем себе за спину, в зарешеченное окно. – Будешь лет пятнадцать в крестики-нолики играть. В лучшем случае. А то и вовсе лоб зеленкой намажут. – Он убрал пузырек в стол и плеснул в стакан воды. Стекло звякнуло – рука у Папы дрожала. – Принес?
Голощекин вытащил из планшета холщовый мешок и протянул Папе. Тот раскрыл, выудил один пакетик и взвесил его на ладони, прикидывая вес.
– Сколько? – спросил он.
– Тридцать.
Папа прищурился, теперь, очевидно, прикидывая стоимость товара, и удовлетворенно кивнул. Спрятал пакетик обратно в мешок, потом полез к себе за пазуху и достал ключ, висевший на шее на тонком шнурке. Стащил шнурок с шеи и, захватив со стола мешок, нагнулся куда-то под стол. Там он долго возился, гремя ключом о металл, и наконец выпрямился. В руках у него ничего не было, не считая ключа.
– А деньги? – спросил Голощекин.
– Потом.
– Почему? – Голощекин зло прищурился.
– Я сказал – потом! – отрезал Папа. – По полной рассчитаемся. Значит, так. Сделаем перерыв – это раз. Я пока пообсмотрюсь. И нужны люди – это два. Ты мне их обеспечишь.
– Какие еще люди? – спросил Голощекин, несколько растерявшись.
– Твои люди. Тобою найденные и тобою же натасканные.
– Зачем?
– А сам не сечешь?
Голощекин промолчал, маскируя замешательство задумчивостью. Он вытащил папиросу, но курить не стал, а только постукивал мундштуком по расслоившейся фанерной поверхности допотопного канцелярского стола.
Сказать Папе про Братеева или нет? Про то, что сукин сын своими руками щупал пакеты с товаром и даже, по собственному признанию, сунул свой любопытный нос в порошок? Лучше, пожалуй, сказать, хотя количество пакетов не было неизменным, и то, что в предыдущей партии одного не хватало, можно объяснить. Чем? Случайностью, например. Или своей оплошностью – повредил, когда распарывал нить.
Поколебавшись, Голощекин решил смолчать. Папа паникует – это ясно. Вон ручонки дрожат, топтуны мерещатся. А если не мерещатся? Тогда на кой хрен еще людей привлекать – лишние свидетели только.
– На кой тебе мои люди? – заговорил он. – Меньше народу – больше кислороду. Я чист, меня никто не пасет. В фанзу я лишний раз не суюсь.
– А рыбу зачем тогда китайцы туда таскали? Целую рыбу, с потрохами?
Знает все, сволочь. Узкоглазые сдали. Или сам проверял? Вряд ли. Голощекин сжал зубы.
– А затем, – прошипел он, – что я, между прочим, не один по тайге гуляю. И если кто-то из моих молодцов заметит, как возле фанзы китайцы крутятся, он будет знать, что угнетенные желтолицые товарищи хранят здесь безобидный улов. Я показательный поход устроил.
Говоря все это, Голощекин внимательно следил за Папой. Папа был не из тех, на кого можно давить. Но и он, Голощекин, не из тех, кому можно отдавать приказы, не сомневаясь в их бездумном исполнении. На службе – да, в жизни – нет. Зачем Папе нужны еще люди? Чтобы, удлинив, запутать цепь, по которой движется товар? Бред, для этого голощекинские люди не годятся. Чтобы дать возможность самому капитану лишний раз не светиться возле фанзы? А с чего бы вдруг такая забота? Перестал доверять? Так новые люди в этом смысле еще опаснее…
Голощекин наконец закурил и произнес спокойно, разгоняя сизый дым рукой:
– Знаешь что, Петрович, давай-ка все сначала. Перерыв хочешь сделать? Согласен. Попляши на дочкиной свадьбе, передохни, осмотрись. Мне тоже передышка нужна. А что касается людей… Ты ведь абы с кем дела иметь не будешь…
– Само собой, – буркнул Папа.
– Ну, стало быть, надо приглядеться, прощупать.
– А то, можно подумать, ты своих людей не знаешь, – криво усмехнулся Папа.
– Знаю, – улыбнулся Голощекин. – Но ведь и ты со мной не первый день знаком, а не доверя-а-аешь, – протянул он, улыбаясь все шире, однако взгляд его оставался холодным и цепким. – Короче, обмозгую. – Он встал. – Водка есть у тебя?
– Что тебе тут, магазин? – буркнул Папа, но все же поднялся и, открыв шкаф, достал початую бутылку. – Ты ж за рулем.
– А чего я у тебя столько времени проторчал?
– Тоже верно. – Папа хмыкнул. – Конспиратор, мать твою.
Голощекин налил на два пальца, выпил, налил снова и протянул Папе:
– Глотни.
Папа хлебнул и, сморщившись, со стуком поставил стакан на стол.
– За кого дочка-то замуж выходит? – спросил Голощекин.
– Не твое дело. Иди давай. Когда понадобишься – дам знать.
Выйдя из конторы, Голощекин направился к гаражам. Его «уазик» стоял на прежнем месте. Паренька, того, что обещал посмотреть машину, не было. Капитан заглянул в один из гаражей – на смотровой яме стояла старая Папина «Победа». Силен мужик, подумал Голощекин, а мог бы «Волгу» купить. Боится.
Боится он, вот что. А у страха глаза велики. И не пасет его никто, и люди ему не нужны – просто крыша с испугу едет.
– Товарищ капитан! – окликнули его.
Голощекин обернулся – слесарь подходил, вытирая ветошью руки.
– Не течет у вас масло, я проверил. И шланг в порядке.
– Ну, значит, показалось. – Голощекин вытащил из кармана трояк и протянул пареньку.
– Да ладно вам, я ж не сделал ничего, – запротестовал тот.
– Бери-бери. – Капитан сунул деньги в карман его промасленного комбинезона и просил, заговорщически подмигивая: – Слушай, не очень от меня разит? – Он с силой выдохнул пареньку в лицо.
– Есть немного. – Паренек засмеялся. – Ну за такое дело не грех стаканчик пропустить… Петрович, бедный, с этой свадьбой совсем озверел. Продуктов не достать, носится целыми днями, в область гонял…
Они обменялись рукопожатием, и Голощекин, забравшись в машину, выехал за ворота.
Нет, Папа не дурак. И не так уж, судя по всему, напуган. В область гонял, продуктами затоваривался… Может, он нашел способ расширить сеть? Тогда понятно, зачем ему нужны люди.
А хитер, сволочь! «Сворачиваем лавочку», «всех башлей не загребешь»… Всех – нет, а еще – можно. И нужно.
Неожиданно для себя Голощекин понял, что то, к чему он стремился столько лет, та цель, ради которой он шагал по скользкому, гудящему от натяжения канату над громадной пропастью, ежедневно, ежечасно рискуя свалиться и сломать себе шею, – эта цель со временем, становясь ближе, становилась все более абстрактной. Он увлекся этой игрой, в которой соблюдал правила, установленные не им, и придумывал новые, свои, которые соблюдали уже другие. И чем больше он увлекался, тем реже вспоминал о том, что у игры будет конец. И что тогда? Игра закончилась, банк пуст, свет погас, карманы набиты – а дальше? А дальше надо придумывать новую игру, потому что уже невозможно жить, не чувствуя волнующего тока крови, не мобилизуя постоянно мозги и волю, просто идти, не просчитывая, не выверяя каждый шаг и не боясь сверзиться в бездонную пропасть.
В конце концов, еще неизвестно, по каким правилам ему придется жить дальше. Здесь он на своем поле, и сам он здесь свой; время еще есть. Нет, уходить ему рано, исчезнуть он всегда успеет. Как там говорил Владимир Ильич: «Вчера было рано, завтра будет поздно. Сегодня!» Главное, не пропустить это «сегодня»…
Оказавшись на территории части, Голощекин подъехал к штабу и развернулся. В зеркало заднего вида заметил, как из двери медсанчасти вышла Марина. Она остановилась на крыльце и, подняв голову вверх, посмотрела на небо, словно проверяя, не пойдет ли дождь. Потом опустила голову и спрятала лицо в ладонях; светлые пушистые пряди волос качнулись вперед.
Что, Марина Андреевна, тяжело? И мне тяжело. Тебе есть что скрывать, и я не безгрешен, каюсь. Но мне, голуба моя, все-таки тяжелее. Потому как ты только передо мной ваньку валяешь, а я – перед всеми вами. Видишь, сколько общего у нас? Оба ваньку валяем. Во-о-от, а ты говоришь…
Голощекин осклабился.
Марина отняла от лица руки, повернулась и скрылась за дверью. Голощекин выключил мотор и, насвистывая, выбрался из машины.
ГЛАВА 9
У солда-а-ата выходной!
Сапоги по асфальту хлоп-хлоп.
Пу-у-уговицы в ряд!
Хлоп-хлоп.
Ярче со-о-олнечного дня!
Самая популярная теперь строевая песня от Бреста до Владивостока.
Зо-о-олотом горят!
Взвод под командованием сержанта Братеева бодро печатал шаг на плацу. День и впрямь был солнечным, блестели, отражая яркий свет, и пуговицы, и пряжки, и надраенные сапоги.
Марина Голощекина шла по дорожке, с улыбкой поглядывая на взвод. Грохот сапог, утюжащих асфальт, стал для нее таким же привычным, как для других – пение птиц или шум моторов. Она редко думала о том, что когда-нибудь этот звук исчезнет из ее жизни, но ведь такое однажды обязательно случится, и Марина не знала, хорошо это или плохо.
Любые перемены, даже к лучшему, волнительны и не всегда проходят гладко: переезжаешь ли ты в другой город, или передвигаешь мебель в квартире после ремонта, или выходишь на новую работу. Потому что другой город, пусть он больше и краше, какое-то время будет для тебя чужим; и шкаф, двадцать лет простоявший возле окна, после ремонта кажется в комнате лишним; и новая интересная работа хоть и выгодна по сравнению с прежней с финансовой точки зрения, но более ответственна и, значит, отнимает много времени и сил.
Ей придется поговорить с Никитой. Это надо сделать не ради Ивана и даже не ради себя. Это надо сделать ради будущего ребенка, который с самого первого дня должен чувствовать только любовь и тепло. Марина знала, что полюбит ребенка, даже если отец его – Никита, но знала также, что не сможет жить во лжи.
Никита непредсказуем, и это тоже нужно учесть. Он способен на насилие, потому что победа любой ценой – девиз всей его жизни. И потери его не беспокоят. Единственное, чего он не может себе позволить, – потерять контроль над ситуацией, власть над жизнью.
Марина в сотый, наверное, раз пыталась мысленно начать этот трудный разговор.
«Никита, нам надо серьезно поговорить». – «О чем, моя хорошая?» – «О нас с тобой. О нашей будущей жизни».
Нет, не годится. Уболтает. Будущая жизнь, скажет, Маринка, прекрасна. Газеты читаешь? Вот в следующей пятилетке трудящиеся массы… Ну и так далее.
«Никита, я тебе изменила. С Иваном. Отпусти нас». – «Да кто его держит?» – «А со мной как?» – «А ты, птичка моя, останешься. Ну изменила, бывает. Понравилось тебе? Надо у Ваньки спросить, чего он там такое умеет…»
Гадость. Но Никита способен именно так повернуть разговор.
«Никита, я тебя больше не люблю». – «Ничего, моя радость, стерпится – слюбится».
Или сказать ему про ребенка? Честно сказать: не знаю, чей он. Зачем тебе такая семья: разлюбившая жена и чужой ребенок?
Но Никита найдет ответ. А не найдет, так придумает. Господи, что же делать? Может, и правда сбежать? Куда глаза глядят, наобум? Вернет. По закону она останется его женой со всеми своими обязанностями. И какой смысл куда-либо бежать, если там не будет Ивана? А без Ивана нет смысла ни бежать, ни жить.
Нет, надо решаться. Надо сказать Никите, что она его больше не любит. Что ждет ребенка от другого мужчины. Что Никита должен позволить ей уйти, иначе жизнь их превратится в ад. Что она уважает его и понимает свою вину. Что он достоин быть любимым, но сердцу не прикажешь, оно приказам не подчиняется, и с этим ничего нельзя сделать…
Марина почувствовала приступ дурноты и остановилась. Ее стало подташнивать по утрам, и она, закрывшись в ванной, на полную открывала кран, чтобы шум льющейся воды заглушал ее сдавленный кашель.
Сколько она еще сможет скрывать? Смешно надеяться, что Никита с его почти звериной интуицией будет оставаться в неведении, пока живот не начнет предательски расти и округляться. Тем более что, как назло, сама Марина все больше худела.
Или позволить Ивану поговорить с мужем? Тогда надо сказать Столбову про ребенка. Марина вдруг со страхом подумала, что вообще-то Иван вправе задать ей точно такой же вопрос: а чей это ребенок? Может, ты, Марина, в какой-то момент решила, что хватит с тебя вранья и метаний? Пусть будет полноценная здоровая семья; глядишь, Никита и не заметит ничего, одурев от счастливой мысли о предстоящем отцовстве? Я знаю, Марина, что ты свою любовь между двумя мужиками делить не станешь. Любовь – нет, а вот тело… Ведь ты ему жена, и от супружеских обязанностей тебя никто не освобождал. И сам я, своими собственными глазами видел, как ты, закусив губу, бесстыдно отдавалась ему в березняке под покровом ночи, думая, что никого, кроме вас, нет, или не думая вовсе, целиком погруженная в сладкий дурман напористых ласк нелюбимого, как ты утверждаешь, мужчины.
Вот так он ей скажет, и будет тысячу раз прав.
Марина медленно пошла дальше.
Винить в такой ситуации она могла только себя. За безволие и трусость, за готовность идти на компромисс – с Никитой, с Иваном, с самой собой, наконец. Но Иван понимает компромисс как ее нежелание одним ударом разрубить запутанный узел отношений, а Никита… Для Никиты компромисс – проявление слабости, а слабость вызывает желание демонстрировать силу дальше.
Никита хорошо изучил все ее слабости. Она не может уехать домой, к родителям, потому что не будет мириться с диктатом отца и не захочет своим неповиновением осложнить жизнь матери.
Никита не знает только одного: что она – сильная. И что женщинам известна сотня способов удержать возле себя мужчину. Можно восхищаться его умом, слушать, какой вздор он несет, и делать счастливое лицо – счастливое от сознания своей близости к этому мудрому человеку. Можно готовить ему изысканные блюда, говорить нежные слова, соглашаться с любым, самым неудобоваримым предложением, не замечать вредных привычек и закрывать глаза на то, что лично тебе глубоко неприятно. И при всем при этом жить своей собственной жизнью, позволяя себе маленькие радости, вроде легкого флирта или даже чего-то посерьезнее; но счастливое лицо, закрытые глаза к открытый от восторга рот всякий раз заставят мужчину думать, что он – единственный и незаменимый, обожаемый и невероятно необходимый.
Вопрос в том, зачем это нужно. Ну мало ли… Чтобы сохранить семью. Разведенная женщина вызывает ненужное любопытство окружающих. Или чтобы не потерять финансовой стабильности, которую обеспечивает хорошо зарабатывающий муж. Или чтобы иметь запасной аэродром.
Но Марине не нужны были от Никиты ни деньги, ни документальное подтверждение того, что она приличная замужняя женщина, ни клятвенных уверений, что ее всегда будут ждать – независимо от обстоятельств.
Вся ее беда заключалась в том, что она просто не хотела, не могла находиться рядом с этим мужчиной.
Она сильная. И она употребит свою силу не на то, чтобы удержать нелюбимого человека, а на то, чтобы выдержать его гнев, его презрение.
Итак, решено. Сегодня она обо всем скажет мужу. Завтра – Ивану. А потом…
– Взвод! Смирна! Стой, раз-два! – скомандовал Братеев.
В едином порыве взвод повернул головы и, грохнув сапогами, остановился. Полковник Борзов шел через плац. Он поспешно отдал честь и рассеянно сказал:
– Вольно. Продолжайте занятия.
Борзов заметил Марину еще издалека. Она медленно брела по дорожке, погруженная в собственные мысли, и теперь, заслышав приветствие солдат, подняла голову.
– Марина Андреевна! – окликнул ее Борзов. Он пересек плац и направился ей навстречу.
Остановившись, Марина огляделась, словно не понимая, откуда исходит позвавший ее голос. Увидев полковника, улыбнулась, и милое лицо ее сразу посветлело. Она подождала, пока Борзов подойдет, и улыбнулась еще раз, но теперь, вблизи, полковнику показалось, что улыбка у нее вымученная, неестественная, словно бы Марина боялась, что кто-то прочтет ее горькие мысли, и спешила заранее избежать лишних вопросов.
– Здравствуйте, Степан Ильич, – произнесла она приветливо.
Полковник пошел рядом, невольно подстраиваясь под ее неспешный шаг, а не под четкий ритм строевой ходьбы взвода.
Он собирался спросить у Марины две вещи: первое – написала ли она заключение по поводу Васютина, и второе – правда ли, что у них с Ванькой какие-то особенные отношения. И та, и другая темы были скользкими, и Борзов полночи провел без сна, прикидывая, как бы поделикатнее к ним подступиться. Он перебрал различные варианты интонаций – от суровой, «солдафонской», до доверительно-отеческой. По большому счету, он имел право получить ответы на все свои вопросы – и попытка самоубийства Васютина, и аморальное поведение Столбова целиком и полностью лежали на его совести как командира части. А Марина Голощекина имела отношение и к тому, и к другому инциденту. И если к первому – опосредованное, то ко второму – самое непосредственное.
К тому же полковник понимал, что, по сути, потребует от Марины дикости: солгать в первом случае и сказать правду – во втором. От этого зависело очень многое, и Борзов просто не представлял, как справиться с такой нелегкой задачей. Куда как проще рявкнуть: а ну, девка, говори правду – крутишь с Ванькой? Не крутишь? A-а, глаза отводишь! Значит, врешь. А теперь давай так: стрелялся Васютин? Стрелялся, говоришь? А вот тут правда мне не нужна, мне тут хитрая ложь требуется, чтобы начальство отвязалось, не приставало с инспекциями да проверками.
Сейчас, идя рядом с Мариной, полковник совершенно не знал, как начать разговор. Марина шла молча, продолжая улыбаться: то ли понимала затруднение полковника, то ли действительно прятала под этой рассеянной улыбкой свои невеселые думы. Так они и шли, не проронив ни слова, как невольные попутчики, которых соединила единственная дорога.
Молчание затягивалось, становилось просто глупым. Полковник кашлянул – получилось неестественно. Проклиная себя за нерешительность, Борзов наконец заговорил:
– Марина Андреевна, хорошо, что я вас увидел. Вы в санчасть? Ну и мне туда же. – Он уже не думал о том, что шел навстречу, то есть как раз в противоположную сторону. – В смысле – в штаб.
– А, в штаб, – вежливо откликнулась Марина. – А то я подумала, не заболели ли вы.
– Да что мне сделается! – Борзов махнул рукой. – Я, как старый пень, стою себе потихоньку… Спина вот иногда побаливает, так Мария Васильевна меня народными средствами лечит. Она у меня прямо знахарь.
– Вам надо обследование пройти, – серьезно сказала Марина. – Хотя, конечно, у нас тут, к сожалению, нет необходимой аппаратуры… – Она остановилась и внимательно посмотрела на полковника. – Но вы же, Степан Ильич, наверное, не об этом со мной хотели поговорить?
– Не об этом, – кивнул Борзов. – Марин, ты… это… – Он замялся и поправился: – В смысле, Марина Андреевна, вы… Черт! Даже не знаю, с чего начать.
– Тогда давайте начну я, – предложила Марина. – Вы хотели спросить меня, что я написала в заключении о пребывании на больничной койке рядового Васютина. Правильно?
– Правильно.
– Ну так вот. Я дала заключение, что у рядового Васютина бытовая травма.
– Бытовая, – эхом повторил Борзов.
– Да, бытовая. Что вполне соответствует действительности, потому что пуля едва задела плечо. А это значит, что имело место неосторожное обращение с огнестрельным оружием.
Борзов почувствовал, как с души свалился камень – большая серая глыба, столько времени давившая на сердце. Полковник распрямил плечи, и Марина, должно быть, заметила этот жест. Она опять улыбнулась:
– Вы не беспокойтесь, Степан Ильич, я же все понимаю. Расследование, комиссии, проверки… Неприятности никому не нужны. Никита мне все объяснил. Он сказал, что в подобном происшествии трудно найти конкретных виновников, а раз так – пострадает слишком много людей. Пока там разберутся, что к чему…
– Никита, значит, объяснил? – озадаченно переспросил Борзов.
Марина кивнула.
– И еще он сказал, что, скорее всего, всю вину взвалят на лейтенанта Столбова и, следовательно, он пострадает больше других. И что, хотя он не виноват, вы не станете его выгораживать, поскольку он ваш племянник. Извините за прямоту.
– Извиняю, – пробормотал Борзов.
– Никита сказал, – продолжала Марина, – что заключение о бытовом характере травмы необходимо, чтобы была возможность не наказывать лейтенанта Столбова слишком строго. – Марина взглянула полковнику в глаза. – Я могу надеяться, что в рапорте о происшествии фамилия Столбова не будет упомянута?
Борзов молчал. Он не ожидал от Голощекина такой прыти. Смотри-ка, обработал жену почище особиста! Базу подвел. Торговался. Ты нашему полковнику – бумажку липовую, а он мне за это, за то, что я за племянничка его радею, тоже чего-нибудь полезное. Услуга за услугу.
Полковник почувствовал невероятный стыд. И не потому, что его уличили в желании подтасовать факты, а потому, что эта женщина оказалась храбрее его. И еще он понял, что Ванькина убежденность в ответном чувстве молодой докторши, похоже, основана не на пустых фантазиях.
– Так как? – спросила Марина.
Во взгляде ее билась такая отчаянная надежда, что Борзов отвел глаза.
– Понятно, – тихо сказала Марина. – Ну и что ему будет?
– Он уедет из гарнизона, – хрипло выговорил Степан Ильич, – на три месяца. Штрафная командировка на Береговую. – Он развел руками. – Извини. Понимаю, что не курорт, но это вообще самое большее, что я мог для него сделать. Могло быть и хуже.
Марина выдержала. Взгляд ее потух, погас, будто она разом выключила все чувства.
– Ну что ж поделать, – сказала она ровным, лишенным каких-либо эмоций голосом. – Значит, судьба. – Она едва заметно вздохнула. – Я могу идти?
– Погоди. – Борзов удержал ее за руку. – Марина… Марина Андреевна, спасибо вам.
– Не за что. – Она вдруг улыбнулась. – А то, что лейтенант Столбов на какое-то время уедет из гарнизона, даже хорошо, правда?
– Ну не знаю, – ошеломленно произнес Борзов.
– Зато я знаю. Я все знаю, Степан Ильич. В том числе и о тех разговорах, которые про нас с лейтенантом Столбовым ходят.
Полковник пожалел, что не умеет владеть лицом. Сколько раз Маша ему говорила: «Степа, никогда не пытайся хитрить или врать. Все твои мысли написаны у тебя на лбу». Именно так, написаны – крупным, четким почерком.
– Ну так уж и ходят, – смущенно возразил Марине Борзов. – Просто… Мы все тут как одна семья. Как на острове, понимаете, о чем я? А люди-то остаются людьми… Хоть в столицах, хоть в лесу, хоть на острове. Мужчин вот футбол волнует, женщины посплетничать любят…
– Вы меня успокаиваете? – спросила Марина.
– Да нет, – пожал плечами Борзов, – пытаюсь объяснить. Не обращайте внимания на сплетни, Марина Андреевна.
– Даже если это не сплетни? Что же вы, Степан Ильич, не спросите меня: вот скажи, Марина, это правда?
Борзов сдался. В конце концов и об этом он хотел с ней поговорить. И опять она его оказалась сильнее, взяла на себя смелость избавить его от необходимости затрагивать столь деликатную тему.
– Ну скажи, Марина, это правда?
– Правда, Степан Ильич. У меня с лейтенантом Столбовым особые отношения. Не такие, как, скажем, с Алексеем Жгутом, хотя Леша – мой друг. Я понятно объясняю?
– Куда уж понятнее, – мрачно сказал Борзов.
– Иван – мой ровесник. У нас много общего. Нам интересно друг с другом. Это казенные слова, но я говорю правду. А все остальное не имеет значения.
– Ну вот и я о том же! – с облегчением воскликнул полковник. – Мало ли там кому что покажется. Людям только дай волю языками почесать! Иван – парень молодой, напридумывал себе черт-те чего, глаза разгорелись…
– Он ничего не придумывал, Степан Ильич, – возразила Марина. – Мы действительно общаемся… – она запнулась, – …общались достаточно тесно.
Брови у полковника взметнулись вверх.
– Достаточно тесно?..
Марина быстро закивала.
– Да-да, вы все правильно поняли. Но есть одно обстоятельство… Точнее, теперь даже два… Короче говоря, то, что Иван надолго уезжает, пойдет нам обоим на пользу. Да и не только нам.
Неожиданно для самого себя Борзов обнял Марину, и она послушно прижалась к его плечу. Полковник погладил ее пушистые волосы и пробубнил:
– Ничего, ничего. Перемелется – мука будет.
Он опустил руки, Марина выпрямилась, и они пошли дальше, снова молча. Все было сказано, все вопросы заданы, все ответы получены.
Борзов досадливо жевал губу. Дурак старый, забрался в душу к девчонке, натоптал сапожищами. А ведь она по-настоящему страдает, хотя и не показывает виду. Вон как скисла, когда узнала, что Ваньку на три месяца в штрафную командировку отправляют. Ну ничего, сама же сказала: обоим на пользу.
Он покосился на свою спутницу – Марина смотрела прямо перед собой, но взгляд у нее был невидящим, обращенным не вперед, в пространство, а куда-то внутрь.
Грохот солдатских сапог на плацу становился все тише и тише. Марина остановилась – они почти подошли к зданию медсанчасти. Борзов потоптался на месте, решая, что лучше – просто попрощаться и уйти или все-таки приободрить. Марина заговорила первой:
– Да, Степан Ильич, чуть не забыла. Можете меня поздравить. Я жду ребенка.
Борзов ахнул.
– Мы ждем ребенка, – уточнила Марина.
Мысли полковника заметались. Как же это? Да что же это? Кто – мы? Мы с Никитой? Или – мы с Иваном? Господи, радость-то какая! Беда-то какая…
– Мы с Никитой ждем ребенка, – еще раз уточнила Марина.
– В смысле… То есть вы и Никита… Фу! – выдохнул Борзов, отдуваясь, и, сняв фуражку, вытер рукавом вспотевший лоб. Потом надел фуражку и схватил Марину за руку: – Поздравляю! От души поздравляю! – Он тряс ее руку, пока Марина деликатно не высвободила ладонь. – А Никита?..
– Нет, Никита не знает. Это мой маленький секрет. Не проговоритесь, пожалуйста.
– Ну что ты… что вы… Вот хорошо-то как!
– Пусть это будет для него сюрпризом. Я сама ему скажу. Сегодня же вечером. А Ивану лучше совсем ничего не знать. Он… он будет огорчен. – Марина вымученно улыбнулась и шутливо вскинула к виску два пальца. – Разрешите идти, товарищ полковник?
– Разрешаю. – Борзов улыбнулся в ответ. – Удачи вам, Марина Андреевна. Вам и вашей семье.
Марина развернулась и быстро пошла к медсанчасти, ни разу не оглянувшись. Борзов подождал, пока за ней закроется дверь, и зашагал к штабу.
Альбина открыла кабинет своим ключом. Ее удивило, что подруги еще нет – обычно пунктуальная Марина приходила на работу ровно в половине девятого, а сейчас шел уже десятый час. Альбина сняла легкую шерстяную кофточку – по утрам еще бывало прохладно – и, открыв стенной шкаф, надела белый халат.
В ее обязанности заведующей аптекой входила проверка наличия лекарственных препаратов в кабинете и процедурной, а также составление списков, по которым недостающие или требуемые лекарства выписывались из города.
С этой задачей она справилась быстро и теперь бездумно смотрела в окно. Ей было скучно. Но не в том смысле, что нечем заняться. Ей было скучно жить – в этом скучном городишке, со скучным мужем.
И раньше жизнь не баловала ее бесконечными радостями. Родители погибли, а бабуля, заменившая ей и мать и отца, была озабочена в основном тем, как прокормить и приодеть. Она могла научить Альбину правильно держать осанку, пользоваться рыбным ножом и грамотно изъясняться. Она знала бесконечное количество пасьянсов, перечитала горы романов – русских и иностранных, она многое помнила и многое могла рассказать, кроме того, о чем хотела бы забыть. Она была ровесницей века, и вся деятельная часть отпущенных ей лет прошла в стародавние времена. Поэтому в их доме время будто остановилось, как старые напольные часы, которые уже никто не брался чинить.