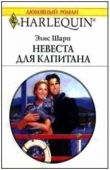Текст книги "Граница. Таежный роман. Солдаты"
Автор книги: Алексей Зернов
Соавторы: Майя Шаповалова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Жгут хлопнул Столбова по плечу. Иван спустился со ступеней, обернулся.
– Леш, – сказал он, – если ты вдруг ее сегодня увидишь… Ну, может, она к Гале зайдет… В общем, скажи ей, что я уже уехал.
– Скажу, – пообещал Жгут. – Ну, ни пуха тебе, старик!
– К черту, – ответил Иван. Он пошел, слегка пошатываясь, бормоча на ходу: – К черту все, к черту…
Жгут вернулся в клуб.
В коридоре красный от возмущения полковник Борзов отчитывал капитана и его компанию:
– Безобразие! Что за вид? Вы что, забыли, где находитесь?! Вам что тут, пивная? Десять суток ареста!
Столь же красный капитан в перепачканном мундире стоял навытяжку, бессмысленно тараща пьяные оловянные глаза. Его приятели, пытаясь держаться по стойке «смирно», тем не менее отворачивались, чтобы дышать в сторону.
Полковник заметил Алексея.
– Старший лейтенант Жгут! – гневно произнес он. – Выношу вам устное порицание за плохую организацию праздничного вечера. Свободны.
Жгут кивнул и протиснулся в зал.
Оркестр играл попурри из самых модных мелодий, и в центре зала топали, вертелись, хлопали в ладоши уже несколько десятков человек. Было невыносимо душно, пахло дикой смесью духов, пота, вина.
Алексей поискал взглядом Галю – она сидела за столиком Борзовых и, отчаянно жестикулируя, разговаривала с Марией Васильевной. Жгут пробрался сквозь пляшущую толпу, исполнив по дороге несколько танцевальных движений на грани приличия, за что был награжден восторженным ревом и свистом.
Увидев мужа, Галя встала и направилась к нему. Алексей подхватил ее, потащил в танцующий круг, но она решительно вырвалась и прокричала:
– Ты Марину не видел?
Жгут замотал головой.
– Я хочу к ней сходить!
Жгут опять замотал головой.
– Почему?
Жгут показал на свои уши и, деликатно растолкав народ, за руку потащил Галю к выходу. Выглянул за дверь – полковника и офицеров уже не было.
Алексей провел Галю по коридору и отпер дверь в кабинет:
– Садись!
Он подвинул жене стул, прикрыл дверь и достал из шкафа начатую бутылку саперави. Поднял стакан, посмотрел его на просвет и, налив вина, протянул Гале:
– С праздником тебя, жена! С великим праздником всех трудящихся! Желаю тебе…
– Перестань паясничать, – перебила его Галя.
– Галчонок! – искательно улыбнулся Жгут. – Сегодня праздник. Давай веселиться! Неужели мы не можем хотя бы один день пожить в свое удовольствие, не решая запутанные личные проблемы твоих подруг?
– Не можем, – сказала Галя. – Так ты видел ее или нет?
– Я Столбова видел. – Жгут глотнул из бутылки. – Я ему все сказал.
– Что – все?
– Ну как ты меня просила. Чтобы он оставил твою подругу в покое и дал ей возможность самой разобраться со своими симпатиями.
– Ну и дурак! – рассердилась Галя. – Она ребенка ждет.
Жгут сделал еще один глоток и поперхнулся.
– Что-о? Ах вон оно что-о-о… – протянул он обескураженно. – И от кого же?
Поколебавшись секунду, Галя ответила убежденно:
– От Ивана, Только ты, Лешка, не говори никому. Особенно Никите.
– Ну щас побежал! Да, дела. А Ванька тоже не знает? Хотя, знал бы, сказал мне. Он, Галчонок, и впрямь с ума сходит. Драку затеял… Гал, а знаешь что! Сегодня не будем об этом, а завтра с утра разберемся на трезвую голову. Давай лучше потанцуем, винца еще попьем…
– Да не могу я плясать, когда ее там, может, Никита убивает! – воскликнула Галя.
– Ну тогда пойдем, – сдался Жгут. – Все равно свидетели потребуются. Только мне потом вернуться надо будет к концу.
Галя поставила стакан на стол и встала.
В дверь тихо постучали.
– Подождите! – дурашливым тонким голосом выкрикнул Жгут. – Я голая!
Галя метнула в него убийственный взгляд и открыла дверь. На пороге стоял смущенный полковник Борзов.
– Заходите, Степан Ильич, – пригласила Галя. – Лешка дурака валяет.
Полковник покосился на бутылку в руке у Жгута, но промолчал.
– Спасибо вам, Галина, – сказал Борзов. – Я всем женщинам хотел сказать спасибо, но там такой грохот стоит, все пляшут… Не до меня, в общем. Ладно, потом скажу. Все замечательно было, вкусно, красиво…
– Вот всегда так! – заметил Жгут. – Я, можно сказать, все организовал, одних шариков воздушных штук сто надул – чуть сам не лопнул. А мне – порицание.
– Да это я так, сгоряча, – сказал Борзов. – Извини. Молодец, Алексей, все здорово получилось.
Жгут гордо выпятил грудь и зычно гаркнул:
– Служу Советскому Союзу!
– Служи, Леша, служи, – усмехнулся Борзов. – Все равно деваться тебе некуда… Ну я пойду. Я, собственно, и заходил, чтобы тебе, Алексей, спасибо сказать.
– Видишь, какой у тебя муж? – спросил Жгут, когда Борзов ушел. – Полковник лично приходит объявить мне благодарность. Так что ты должна мной гордиться!
– Я горжусь, – серьезно ответила Галя.
Степан Ильич вернулся в зал. Народу поубавилось – вечер шел к завершению. Оркестр умолк, и теперь из стоявших на сцене колонок лилась тихая музыка. Свет притушили, и несколько пар медленно кружились, не мешая друг другу. Мария Васильевна сидела за столиком и с улыбкой смотрела на танцующих. Увидев мужа, помахала ему рукой.
Степан Ильич подошел, сел рядом.
– Ну что, по домам? – спросила Мария Васильевна. – Нагулялись, наелись, навеселились… Хочешь салатику? Тут еще осталось.
– Да ты что! – отмахнулся полковник. – Я и так уже по швам трещу.
Прищурившись, он смотрел в зал и вдруг встал, коротко кивнул и протянул жене руку:
– Позвольте пригласить вас на танец!
Мария Васильевна улыбнулась, легко поднялась, и они присоединились к танцующим парам. Степан Ильич сперва старомодно держался на расстоянии, неловко обнимая жену, потом, повертев по сторонам головой, прижал к себе, уткнувшись носом в седую, сладко пахнущую макушку. Мария Васильевна ласково поглаживала мужа по спине.
– У тебя волосы пахнут клубникой, – сказал Степан Ильич.
Мария Васильевна тихо засмеялась:
– Не клубникой, а земляникой. Мылом земляничным.
Они танцевали, пока не смолкла музыка – кончилась пластинка.
Полковник проводил жену к столику, Мария Васильевна взяла свою сумочку, и они вышли из клуба в звездную ночь, полную стрекота цикад.
– Хорошо-то как! – произнесла Мария Васильевна, беря мужа под руку и спускаясь по ступеням. – Спасибо тебе, Степа. А я-то думала, ты меня не пригласишь. Постесняешься.
– Чего мне стесняться? Я ж не с чужой женой танцевал, со своей.
– А с чужой бы не стал?
– Не стал. Да на черта мне чужая?
– А я с Алешей Жгутом танцевала, – призналась Мария Васильевна.
Борзов остановился:
– Когда ж ты успела?
– А пока ты там распекал кого-то, – беззаботно ответила Мария Васильевна. – Знаешь, Степа, у него очень славная жена. Я думаю, если б не она, ты бы со своим Жгутом никогда не справился.
– Ну конечно, – усмехнулся полковник. – Что бы мы, вояки, без вас, женщин, делали?
– А зря смеешься, между прочим. Вы бы, вояки, без нас, женщин, только бы вояками и были. А рядом с нами вы – мужчины, мужья, отцы.
– Тоже верно, – согласился Степан Ильич. – Жаль только, не все женщины это понимают. – Он помолчал. – О чем вы с Мариной Голощекиной секретничали?
Мария Васильевна внимательно посмотрела на мужа и спросила:
– А тебе зачем знать? О своем, о женском. О вас, вояках.
– Про Ваньку небось?
– И про Ваньку тоже. Про то, что вы, товарищ полковник, несправедливо его наказали. И про Никиту говорили. Про то, что он прекрасный муж. А скоро станет и прекрасным отцом.
– Сказала, значит, не выдержала?
– А ты что же, знал? – удивилась Мария Васильевна.
– Знал, – вздохнул полковник. – И очень за нее порадовался. А сегодня смотрел, как Ванька наш чудит, и что-то мне все это не понравилось.
– Ты, Степа, несправедлив к Ивану.
– Маша! – сурово произнес Борзов.
– Да, несправедлив. И не кричи, пожалуйста. Если он твой племянник, это еще не значит, что ты к нему должен относиться строже, чем к другим.
– А ты Антонину помнишь, Таньки нашей учительницу?
– Ну?
– У нее в классе сын учился. И она ему всегда отметки занижала. Ответил на пятерку – получил четверку, на четверку – тройку. Ну и так далее. Я его однажды спросил, не обидно ему? А он мне знаешь что сказал? А чего, говорит, дядя Степа, мне на мамку обижаться? Она же знает, что я на пятерку выучил.
– Так-то оно так, – согласилась Мария Васильевна. – А вот Иван-то знает, что он у тебя в отличниках ходит? Каково ему там, в этой вашей командировке будет?
– На обиженных воду возят, – фыркнул Степан Ильич. Разговор этот начинал его раздражать. Но он сдержал себя, сказал мягко: – Хотя, может, ты и права. Я подумаю.
Ему не хотелось портить Маше праздник, не хотелось, чтобы этот удивительный вечер закончился грустной, а уж тем более воинственной нотой. И он действительно чувствовал смутную вину перед Иваном. И какой-то неприятный осадок от беседы с Вороном, беседы, во время которой и была решена участь лейтенанта Столбова. Степан Ильич никак не мог отделаться от ощущения, что его, полковника Борзова, обвели вокруг пальца, подтасовав факты, втянули в отвратительный водоворот круговой поруки. Особист взъелся на Ивана – ладно, Ворон он и есть Ворон, все добычу выискивает для своих рапортов. Да, Борзов попросил его не перегибать палку, именно попросил – по дружбе, так сказать. А потом побежал к Марине Голощекиной – просить написать бумажку, что дурак Васютин по неосторожности чуть не застрелился. А что сказала тогда Марина? Что Никита ей уже все объяснил. Ну Никита, понятное дело, свою задницу всегда сбережет, ему такая бумажка тоже пригодится…
В общем, все одной веревкой повязаны, а он, Борзов, во главе этой связки идет. Или не он? А кто тогда? Ну неважно. Только вот как интересно: Ивана убрали с глаз долой, и всем сразу стало хорошо: дело васютинское на тормозах спустили, Голощекин сухим из воды выбрался, Марина Андреевна за ум взялась, ребенка ждет…
Полковник тяжело вздохнул. Разберись тут попробуй.
– Устал, Степа? – спросила Мария Васильевна.
– Немного. – Полковник приобнял ее за плечи. – Это я от танцев – с непривычки. Хорошо еще, что музыка спокойная была, а то сейчас модно трясучки эти. Видела сегодня, чего молодежь вытворяла? Как будто им в одно место провод электрический воткнули. Не люблю, когда так дергаются.
Мария Васильевна засмеялась:
– Просто мы с тобой уже старые, Степа. Вот нам и завидно.
Степан Ильич чмокнул ее в висок.
– Мы с тобой не старые, – сказал он, – мы с тобой много прожившие люди. – Он ласково провел ладонью по ее щеке. – Хорошо прожившие.
ГЛАВА 13
Марина уже больше часа сидела во дворе своего дома. У нее не было сил даже на то, чтобы заплакать. И не хватало воли, чтобы встать и пойти домой.
…Выскочив из клуба, она бросилась в слабо освещенную аллею и бежала, задыхаясь, по дорожке, бежала, не зная, зачем и куда.
Перед ней до сих пор мелькали лица, мужские и женские, удивленные взгляды, кривые усмешки. За их с Иваном безумным танцем наблюдал весь гарнизон. Если об этом Никите не расскажут сегодня, то уж завтра – непременно.
Какая дикость! Зачем Иван это сделал? Устроил бесплатный спектакль для уважаемой публики. Зачем прилюдно требовал от нее каких-то признаний? Она ему уже все сказала.
Мимо, по мостовой, промаршировал взвод. Марину проводили любопытными взглядами.
– Во чешет, – с уважением сказал кто-то.
Марина примчалась к своему дому. Трясущейся рукой потянулась за сумочкой и вспомнила, что забыла ее в клубе. Жадно глотая теплый воздух, она подняла голову – в окнах их квартиры горел свет. Марина сделал еще шаг и поняла, что не может пойти домой. Физически не может, мозг просто не давал такой команды ногам.
Марина свернула за угол и побрела по двору. Опустилась на скамейку и, обхватив себя руками, застыла.
И сидела так уже больше часа, собираясь с силами. Но сил не было. И мозг по-прежнему не давал команды ногам.
Паралич. Полный паралич воли.
Ты должна встать и пойти. А не можешь идти, тогда падай и ползи, волоча за собой непослушные ноги. Приползи домой, покайся, признайся, что у тебя будет ребенок, проси пощады, умоляй, рыдай, бейся лбом об пол, тычься лицом в начищенные до зеркального блеска сапоги…
Но Марина знала, что не сделает так. Никиту нельзя разжалобить, чужая беспомощность и беззащитность для него – в радость. Он будет наслаждаться ею, точно хмельным напитком, пьянея от сознания собственной власти.
Он дома. Он никуда еще не ушел или уходил, но успел вернуться. Второе хуже. Тогда им придется остаться наедине надолго, до самого утра. Она скажет ему про ребенка. Расскажет про скандал в клубе. Объяснит, что понимает всю степень своей вины. И попросит у него прощения. Да, только так. Ни слез, ни заламываний рук, ни горьких причитаний не будет.
Марина отклеилась от скамейки и встала. Сделала шаг-другой – ноги были свинцовыми, но шли. Она добрела до подъезда, и тут ее окликнули – молодой, незнакомый голос. Марина вздрогнула и обернулась. Невысокий солдатик выскочил из темноты в круг света.
– Марина Андреевна!.. Уф!.. – Он отдышался. – Еле вас нашел. Вы в клубе забыли, просили вам передать. – Он протягивал ей сумочку, осторожно, двумя пальцами, держа ее за тонкий ремешок.
– Спасибо, – сказала Марина. – Вас как зовут?
– Рядовой Лапкин! – вытянулся солдатик. – Разрешите идти?
Улыбнувшись, Марина кивнула. Солдатик убежал. Смешной парень, и фамилия у него смешная.
Она добралась до своей квартиры и долго копалась в сумочке, пытаясь нащупать ключи и прислушиваясь к звукам за дверью. Это стало уже привычным – приходить к себе домой, как тать в ночи, воровато озираясь и стараясь не греметь отмычками. Как сказал Иван: «Я не хочу вот так, украдкой… Будто я что-то краду».
Марина открыла дверь и вошла в прихожую.
– Никита! Ты дома? – крикнула она.
Ей никто не ответил. И внезапно весь кошмар положения, в котором она оказалась, все напряжение последних недель навалилось на нее, пустило сердце в галоп, окатило обжигающим от холода ужасом. Марина бросила сумку на пол и заметалась по тесной прихожей. Обдирая руки, задвинула на двери тугой засов, лихорадочно огляделась. Спрятаться, раствориться, исчезнуть без следа! Пусть остановится время, пусть мир летит в пропасть, пусть никто о ней не вспомнит, не найдет, не станет искать.
Она обессиленно сползла вдоль стены на пол и, уронив голову на руки, зарыдала. Это был даже не плач, а сухой, сдавленный кашель, разрывающий грудь и саднящий горло. Слезы текли неудержимо, промочив рукава насквозь.
Никита вышел из комнаты – спокойный, ничему не удивляющийся, присел рядом с Мариной на корточки, оторвал ее руки от зареванного лица, повернул к себе:
– Что с тобой? Тебя кто-то обидел?
Продолжая вздрагивать от плача, Марина слепо посмотрела на мужа – в глазах его было участие, но отстраненное, словно он разговаривал с незнакомой женщиной, случайно наткнувшись на нее где-нибудь на улице.
– Нет… ничего… все в порядке… – запинаясь, произнесла она. – Просто я… Просто я шла одна по аллее, а там темно… Я испугалась…
– Ну вот, я так и думал, – сказал Никита. – Нельзя тебе ходить одной. Ночью. По темной аллее. – Голос его звучал назидательно – с такой интонацией взрослый объясняет неразумному дитяте, что нельзя играть со спичками. – Зачем же ты одна пошла? У тебя есть муж. Ты не забыла, что я у тебя есть?
Марина всхлипнула.
– Тебе плохо? – спросил Никита. Теперь в его голосе звучала преувеличенная забота. – Ты совсем бледная. Нет, ты у меня, Марина, все-таки… трепетная. Так это называется, да? – Никита улыбнулся, придвинулся теснее и вдруг задышал тяжело, засопел. – Ты скучала по мне? А я по тебе очень скучал. – Он властно положил руку ей на грудь, сжал пальцы. – Я хочу тебя…
Марина отшатнулась и едва не упала. Опираясь ладонью на пол, неуклюже встала.
– Прости, пожалуйста. Я не могу… Я очень устала и хочу спать. И пить…
Она прошла в комнату, взяла со стола кувшин и принялась жадно пить прямо из горлышка. Вода лилась у нее по подбородку, стекала в вырез платья.
Никита остановился у нее за спиной:
– Смешная ты. На вечере, что ли, не напилась? Или хозяйственники на лимонад не раскошелились? – Он приобнял Марину и положил ей руки на живот. – А он ножками скоро бить начнет?
Марина поперхнулась водой и чуть не уронила кувшин.
– Ножками? – переспросила она потрясенно. – Бить? Не скоро… – Она опустила кувшин на стол и спросила тихо: – Откуда ты знаешь?
– Как – откуда? – изумился Никита. – Моя жена беременная – и я не знаю? Я же твой муж, любимая. Я всегда все знаю. Все. Всегда. Знаю. И в первую очередь – про тебя…
Марина высвободилась из его объятий – он не удерживал. Обойдя стол, она встала напротив и взглянула мужу в лицо:
– Ты рад?
Никита не ответил.
– Я спросила: ты рад, Никита?
Голощекин молчал. Прищурившись, он смотрел на Марину, но она выдержала этот взгляд, сказала твердо:
– Я хочу этого ребенка. Ты слышишь? Очень хочу. Я знаю, что ты сомневаешься. Но, пожалуйста, поверь мне. Я хочу, чтобы у нас была настоящая семья… Если будет девочка, назовем ее Машей. Красивое имя, правда? Мария…
– Правда, – в тон ей ответил Голощекин. – А если мальчик – Иван. Согласна?
Марина замерла.
– Красивое русское имя, – сказал Никита. – Сильное. Здоровое, как корень дуба. Ты все правильно говоришь… Настоящая семья. Ты, я… и Иван. Здорово!
– Я пойду спать, – сказала Марина, но Голощекин, перегнувшись через стол, схватил ее за руку, больно стиснул железными пальцами запястье, то самое, которое сжимал Иван, волоча ее за собой по залу.
– Хорошая у меня жена, – неожиданно произнес Голощекин. – Верная. Когда я там, в тайге, задницу рву, я знаю – у меня надежный тыл. Дома меня ждет моя Марина. Да? Тоскует, думает про меня… Может, даже всплакнет иногда… И когда я думаю об этом, меня начинает мучить совесть: ну как же я оставил ее одну, бедную девочку?
Он отпустил ее запястье, быстро подошел и взял рукой за подбородок, заглянул в глаза:
– Ты знаешь, что такое совесть, Марина?
– Перестань меня мучить. Пожалуйста. Ну что ты от меня хочешь?
Голощекин толкнул ее подбородок и убрал руку.
– Знаешь, в чем твое счастье? – спросил он.
Марина отвернулась.
– В том, что я не могу тебя убить… сейчас. А знаешь, в чем твое несчастье? Я не могу тебя убить… сейчас.
На улице, поторапливая, просигналила машина. Голощекин подошел к рогатой вешалке, сиял фуражку.
– Приятных сновидений, любимая! – сказал он. – Береги ребенка – не ложись на живот. Обещаешь?
– Обещаю, – выдавила из себя Марина.
– Я буду думать о тебе, – пропел Никита и, подойдя, взасос поцеловал в шею. Потом вышел, чуть громче обычного хлопнув дверью.
Марина продолжала стоять. Кожу на шее, в том месте, куда поцеловал Никита, жгло. Марина приложила пальцы и тут же отдернула, посмотрев на них с испугом: ей показалось, что сейчас она увидит кровь.
Я схожу с ума, подумала она. Голова моя похожа на огромную кипящую кастрюлю; мысли варятся, плавятся мозги, крышка подпрыгивает, обжигающие брызги вырываются из-под нее. Но еще немного – и все это выкипит, а потом начнет подгорать, и все внутри покроется твердой черной коркой.
Марина была уверена, что Голощекин сейчас вернется. Вернется под каким-нибудь предлогом, а на самом деле – чтобы насладиться подавленным видом своей жертвы. Но за окном хлопнула дверь машины, и вскоре звук мотора стал тише. Марина опустилась в кресло и закрыла глаза.
Уехал. Не вернулся. Да и зачем ему возвращаться? Ему уже неинтересно смотреть, как она страдает, он пресытился этим зрелищем, его больше не радуют ни ее унижение, ни ее покорность.
Значит, так они и будут жить. Он – презирая, она – принимая это как должное.
Так много лет живет ее мать. Не смея сказать лишнего слова, вынужденная соглашаться с тем, с чем не согласна. Во имя чего? Марина никогда об этом не задумывалась. Отца было за что любить, и сама Марина любила его отчаянно, пока вдруг не поняла, что ему мало одной лишь любви, что ему нужно постоянно чувствовать свое превосходство, свою исключительную необходимость. И любое несогласие или неповиновение воспринималось им как предательство интересов семьи.
Неужели мать так любила его, что готова была целиком раствориться только в его проблемах, стать его тенью, бледной копией? Она была красивой женщиной, веселой и домовитой и немного бесшабашной. Могла на отложенные на черный день деньги накупить дорогих конфет – какой-нибудь грильяж в шоколаде, просто так, чтобы попить вечером чаю. Когда еще он придет, этот черный день! Жить надо сегодня, пока светло… Могла вдруг вытащить из старого сундука хороший отрез, которого с лихвой хватило бы ей на платье, и всю ночь просидеть за швейной машиной, а утром повесить дочке на спинку стула новенькое отутюженное платьице с юбкой солнце, рукавами фонариком и пышным бантом. Могла неожиданно, без всякого повода, затеять сложный многослойный пирог с пятью начинками – и где только доставала продукты для этих начинок? А потом сидела и, улыбаясь, смотрела, как муж и дочь уплетают кусок за куском, посыпая стол крошками и подхватывая на лету вывалившийся комок прокрученного с яйцом вареного мяса.
Но такие неожиданности с годами случались все реже. Мать стала бережливой, если не сказать – скуповатой, она поблекла и располнела, и просторный ситцевый халат долго зиял прорехой под мышкой, прежде чем мать бралась за иголку. Она больше не смеялась без причины. Она по-прежнему много готовила и сытно кормила, но это были дежурные скучные блюда.
И она больше никогда не предлагала собраться за общим столом. Ели порознь, в разное время – она безропотно разогревала, подавала, убирала посуду.
Ожила мать только однажды – когда Марина сказала, что собирается замуж. Не за Никиту, за своего однокурсника Юру, высокого, полноватого, в очках. Отец его не любил, презрительно называл «профессором», но против Марининого замужества возражать не стал. Марина только теперь начинала понимать, что ему попросту было наплевать – он не видел в Юре конкурента, способного разрушить его непререкаемый авторитет.
Что он дал матери? Дом, ощущение надежности – очень важное для женщины. А что потребовал взамен? Ничего особенного – просто отказаться от собственного «я». Нет, он не требовал прямо, стуча кулаком по столу и покрикивая. Но, наткнувшись на непонимание или возражение, не добившись того, чего хотел, он замыкался, мрачнел, подолгу, до ночи, просиживал в своей сараюшке, которую выстроил в глубине двора, утром уходил на работу, возвращаясь, снова шел в сарай – и так день за днем, неделя, две, месяц. В доме как будто все время собиралась гроза – было душно, темно, раскалывалась голова и звенело в ушах.
И мать не выдерживала: начинала лебезить, просительно заглядывать в глаза – и тогда он медленно оттаивал, и тучи рассеивались, и гроза проходила стороной.
А что дал Марине Никита? Дом? У них нет своего дома, у них казенная квартира. Ощущение надежности? Да, конечно. Рядом с ним Марина чувствовала себя владелицей прекрасного замка с высокими стрельчатыми окнами, витражные стекла которых пропускали теплый красочный свет. Можно было выйти на затейливый балкончик, а можно – в сад, благоухающий розами… Как она пропустила момент, когда вокруг замка появился глубокий ров, наполненный стоячей водой? Когда заложили высокие окна, оставив лишь узкие бойницы, укрепили стены и сломали балкон? Когда замок превратился в темницу?
Никита не ограничивал ее свободу, он просто все время напоминал, что она не хозяйка этого замка, она – его часть, и если Никита захочет, он будет перестраивать это здание так, как ему удобно.
Когда-то он дал ей почти самое главное – возможность почувствовать себя женщиной. Теперь отнимал самое главное – возможность чувствовать себя человеком. Человеком, который имеет право на ошибки, на выбор, на сомнения и убеждения.
Марина открыла глаза и огляделась. Здесь, в этой комнате, она проведет еще несколько лет. Потом, быть может, они переедут – в другой дом, в другой городок. Но все останется по-прежнему.
Что ж, она готова. Единственное, что она еще должна успеть сделать, – сказать Ивану правду. Пока не поздно, пока Марина – еще прежняя Марина, а не та, какой он увидит ее через девяносто два дня.
Марина вышла из дома и направилась в сторону казармы. Сперва она шла медленно, потом побежала – почти той же дорогой.
Кто-то негромко произнес ее имя. Вздрогнув испуганно, она остановилась. Голос был незнакомым, глухим. Конечно, воинская часть воинской частью, но мало ли что придет в голову вчерашним курсантам после вечера с вином «Тырново»?
Из темноты, отлепившись от ствола пихты, вышел Жгут. Он был пьян и явно расстроен, причем расстроен больше, чем пьян.
– Марин, подожди… Не ходи туда. – Он потоптался на месте, собираясь с духом. – Иван уехал.
– Как – уехал?! – потрясенно спросила Марина. – Когда?
– Полчаса назад, – соврал Жгут.
Марина повернулась и побрела обратно. Жгут догнал ее, схватил за плечи, и она ткнулась лицом в его плечо, оцарапав лоб о звездочки на погонах.
Лейтенант Столбов затянул вещмешок. Все, собрался. Только бритву завтра туда кинет – и вперед, на Береговую. На три месяца. Да хоть на три года! Ему теперь все равно. Он сожмет сердце в кулак, стиснет зубы и скомандует своим мыслям: «Р-разойтись!»
Ребра уже не так ныли, но разбитая губа продолжала саднить, а под левым глазом разливался, багровея, приличный синяк. Самый подходящий вид для Береговой.
Иван бросил вещмешок на койку и вышел на улицу. Городок еще не спал – где-то слышался смех, но далекий, тихий, играла музыка. Длинный, суматошный праздничный день догорал, будто свеча на именинном пироге. Иван достал папиросы, чиркнул спичкой – она вспыхнула и тут же погасла. Он чиркнул снова и, пряча огонек в ладони, прикурил. Затягиваться было больно. Бросив папиросу, он затоптал ее и сел на траву.
Легко сказать – сожму сердце в кулак, скомандую «смирно». Поди сожми – оно колотится еще сильнее, протестуя.
Иван полез за пазуху и вытащил тонкую ученическую тетрадь. Прошелестел страницами, оторвал заднюю часть обложки, одну сторону которой занимала торжественная клятва пионера, а другую покрывал его собственный угловатый почерк.
Как праздник в детстве, именины,
Встречаю я глаза твои.
О боже, дай мне только силы
Желать и ждать твоей любви.
Лишь мимолетный взмах руки – одно движенье —
Не твой, но ты передо мной.
Всю жизнь я следовал бы тенью,
Как робкий паж, покорно за тобой.
Прости, обидел если вдруг.
Себя заранее корю.
Пожалуйста, пойми меня:
Люблю тебя, люблю, люблю.
Прости, Марина. Столбов сложил вчетверо оторванную обложку и сунул ее в карман. Достал спички и поджег тетрадь – она горела долго, обугливаясь с одного края, и в этом синеватом пламени исчезали, корчась, неровные строчки его признаний.
Тетрадь догорела, посыпались в траву хрупкие серые хлопья. Иван встал и растер их подошвой сапога в прах.
Мария Васильевна Борзова налила в чашку заварки, добавила кипятку и, открыв сахарницу, насыпала две ложечки.
– Третью клади, – сказал Степан Ильич. Он сидел за столом в пижаме и просматривал «Правду», развернув газету на всю ширину.
– Я три и положила.
– Две, – невозмутимо возразил полковник. – Ложка только два раза звякнула.
Мария Васильевна шумно вздохнула и звякнула ложкой о сахарницу.
Степан Ильич сложил газету, снял очки и потер переносицу. Подвинул к себе чашку, подул, сделал глоток.
– Маша! – строго сказал он. – Не хитри!
– Варенья вон лучше возьми, – не смутившись, предложила Мария Васильевна. – Там все-таки витамины.
– Витамины… – проворчал полковник. – Ну ладно, давай варенье. Клубничное осталось?
– Осталось, по-моему. – Мария Васильевна открыла дверцу буфета, но тут раздался звонок в дверь.
– Кого это еще черти принесли в такое время? – сердито произнес Борзов, привстал и сразу подобрался, распрямил плечи.
Поздние звонки обычно не сулили ничего хорошего. А сегодня могло быть что угодно – народ разгулялся, и кое-кто не в силах был остановиться. И вроде водка присутствовала на вечере чисто символически – по наперстку на брата, а пьяных все равно оказалось довольно много. Сухим вином так не упьешься, ну, конечно, если не литрами его употреблять.
Мария Васильевна вышла в коридор и открыла дверь. Степан Ильич услышал ее испуганный возглас и тоже вышел, мучаясь самыми нехорошими предчувствиями.
На пороге истуканом застыл Иван.
– Да зайди же, – уговаривала его Мария Васильевна. – Мы не ложились еще.
Столбов несмело вошел и опять застыл. Мария Васильевна решительно оттеснила его в сторону, закрыла дверь и включила в коридоре свет. Полковник крякнул. Вид у племянника был еще тот: глаз подбит, на лбу и скуле ссадины, на распухшей губе запеклась кровь.
– Ну и с кем ты так хорошо на посошок посидел? – нахмурившись, спросил Степан Ильич.
– Ни с кем не сидел. Упал.
– И аккурат на чей-то кулак напоролся, – ядовито уточнил полковник.
– Дядя Степа… – Иван посмотрел на Борзова, и полковник понял, что тот не пьян.
– «Дядя Степа», – передразнил его Борзов. – Кто не знает дядю Степу? Дядю Степу знают все! Ну проходи, чего встал? Чайку попьем.
Мария Васильевна легонько подтолкнула Ивана в спину. Он прошел в комнату и, не дожидаясь приглашения, сел, положив на стол руки и сцепив пальцы. Правый кулак его был ободран. Мария Васильевна принесла еще одну чашку, поставила на стол банку клубничного варенья и ушла на кухню подогреть чайник.
Степан Ильич молча ждал.
– Дядя Степа, – сказал Иван, – я завтра уеду…
– Да ну? – деланно удивился Борзов. – Далеко?
Иван криво улыбнулся:
– Я, наверное, как набитый дурак выгляжу?
– Как побитый дурак, – поправил его полковник.
– Я уеду. А когда вернусь, можно мне отсюда в другую часть перевестись?
– Вещи собрал? – не ответив, спросил Степан Ильич.
– Ну собрал.
– Молодец. Голову не забудь взять. Значит, так, лейтенант Столбов. Завтра, согласно моему приказу, отправишься на заставу Береговая, в штрафную командировку, на срок девяносто два календарных дня. Вернешься – поговорим.
Мария Васильевна принесла чайник, поставила на стол. Полковник хмуро покосился на нее, и она опять вышла, но на пороге обернулась, показала глазами на Ивана и погладила себя по голове.
– Ничего, Ваня, все нормально, – сказал Степан Ильич. – Думаешь, я из-за женщин не психовал? Психовал. И Машу ревновал, хотя она мне и повода-то никогда не давала. И если б она несвободна была, но рвалась ко мне всей душой, я бы ее отбил не задумываясь. И совесть бы меня не мучила… Ты вот вернешься и совсем по-другому на все посмотришь. Поверь мне, старику. Ну а уж будет совсем невмоготу – найдем выход. Ты только сейчас себя не накручивай, подожди малость, остынь… А то устроил в клубе показательное выступление, Марину свою подвел… кулаками размахивал… – Степан Ильич усмехнулся. – С кем подрался-то?
– С подлецами.
– Ну понятно, что не с хорошими людьми. Давай, Иван, не раскисай, все образуется. Договорились?