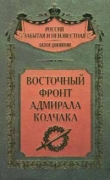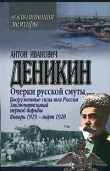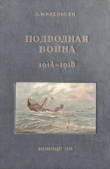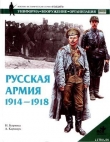Текст книги "Персидский фронт (1909-1918) Незаслуженно забытые победы"
Автор книги: Алексей Шишов
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
– 1 сотня кубанского 1-го Кавказского казачьего полка с 2 пулеметами;
– 1 сотня кубанского 1-го Таманского казачьего полка с 2 пулеметами;
– конно-разведывательная команда;
– 6-орудий 4-й Кубанской казачьей батареи.
Астрабадский отряд состоял из:
– 2 сотен кубанского 1-го Таманского казачьего полка;
– 1 сотни Туркменского конного дивизиона;
– пулеметного взвода.
В Кучанском и Барфрушском отрядах числились:
– 1 батальон 1-го Туркестанского стрелкового полка;
– 1 сотня 1-го Семиреченского казачьего полка;
– 1 сотня кубанского 1-го Таманского полка;
– 1 сотня Туркменского конного дивизиона;
– конно-разведывательная команда и 4 пулеметных расчета.
Хотя командиры отдельных отрядов «секретной Персидской экспедиции» обладали на местах достаточно большой самостоятельностью в действиях и принимаемых в экстренных случаях решениях, они придерживались строгих требований инструкций, которые были им даны. Это были указания начальников штабов Кавказского и Туркестанского военных округов. Требования инструкций сводились к следующему.
Русские войска введены в Персию для защиты подданных России и обеспечения вооруженной рукой ее интересов, которым грозит революционное движение среди населения соседней страны.
Экспедиционные отряды не вмешиваются во внутренние дела страны пребывания, не берут на себя какие-либо управленческие функции, защищая российских подданных, консульства и «другие правительственные учреждения».
Оружие разрешалось применять только при «действительной необходимости подавлять опасные народные волнения». В таких случаях требовалось действовать решительно', твердо, без колебаний, «дабы население прониклось сразу сознанием нашей силы».
Указывалось особо на необходимость установления «правильных» отношений с местным духовенством, уважать религиозные чувства местного населения, «не нарушать покой» мусульманских святынь.
С началом «секретной Персидской экспедиции» встал вопрос об ее обеспечении. Провиант в большей части закупался на местах. Поскольку ввод русских войск в Персию прямо отвечал внутренним интересам шахского государства, то Санкт-Петербург и Лондон предъявили персидскому правительству соответствующие требования о возмещении понесенных расходов, высказанные в ультимативном порядке.
Российские требования официальному Тегерану были опубликованы в газете «Русский инвалид» в ноябре 1911 года. Отдельным пунктом в них шла речь о возмещении персидским правительством расходов, вызванных нынешней экспедицией в Персию. Об этой части российских требований говорилось в таких словах:
«…Размеры причитающейся нам суммы и способы ее уплаты будут установлены дополнительно, после получения ответа персидского правительства».
Естественно, что меджлис на заседании в ноябре 1911 года отверг такие требования не только потому, что шахская казна была пуста и надежд на ее пополнение в ближайшем будущем не видилось. Это дало повод кавказскому наместнику принять решение о вводе на территорию сопредельной страны новых экспедиционных войск. Впрочем, такие требования и отказ от их выполнения большого дипломатического конфликта не вызвали.
Усилений экспедиционных войск был вызван тем, что осенью на территории северной Персии начались (военные) операции против полукочевых шахсевенских племен. Это была нешуточная борьба с целью приведения шахсевен к «повиновению» государству, в котором они жили.
У шахского режима многие годы была одна большая «головная боль». Особенно много хлопот ему, русским войскам на иранской территории и, соответственно, штабу кавказских войск в Тифлисе, доставляли воинственные полукочевые племена шахсевенов (шахсеванов). Они еще с конца прошлого столетия фактически вышли из подчинения официального Тегерана и сделали разбой одним из источников своих доходов.
Это была этнографическая группа тюрков-азербайджанцев (частью – курдов), в своем большинстве проживающая на территории персидского остана Южный Азербайджан (в окрестностях городов Ардебиль и Казвин) и отчасти в Муганьской степи Северного Азербайджана. В своем большинстве мусульмане-шахсевены являются суннитами. Они исторически делятся на ардебильских и мешкискинских шахсевенов.
В переводе с азербайджанского «шахсевены» означает: «любящие шаха», «преданные шаху», «любимцы шаха». Уже сам перевод этого слова говорит об историческом предназначении уникальной этнографической группы тюркской части населения шахской Персии.
В конце XVI века эти кочевые племена были искусственно образованы из самых храбрых и воинственных родов Персии шейхом Сефи как надежнейшая опора воцарившейся династии Сефеидов. В основе этого искусственного тогда объединения «лежали» выходцы из племен тюрков-кызылбашей. Считается, что какая-то часть шахсевенов были курдами. Шахсевены стали в средневековой Персидской державе шахской гвардией.
Подобное искусственное образование воинственных племен и расселение их вблизи персидской столицей случайностью или «иронией судьбы» назвать никак нельзя. Шах Аббас I был сильно озабочен влиянием и всесилием вождей племен кызылбашей. И он нашел способ, как можно было серьезно ослабить реальную силу предводителей племен кочевых тюрков.
С целью их ослабления и была проведена «операция» по созданию племен «любящих шаха». Их воины составили конную гвардию шаха, типичного восточного владыки. Аббас I дал своим любимцам огромные привилегии в сравнении с другими своими верноподданными. В районах городов Ардебиля, Савве и Казвина, в Муганьской степи шахсевенам были выделены крупные земельные владения, прежде всего хорошие пастбища.
Шахсевены (всего до 60 тысяч человек) на начало XX столетия заселяли отдельными «пятнами» северо-восточную часть иранского Азербайджана, занимая земли между горным хребтом Савелан и городом Ардебилем. Они делились примерно на 50 родов, во главе которых стояли беки, обладавшие значительной полнотой власти над соплеменниками.
Мужская часть населения шахсевенских племен была сплошь вооружена и могла выставить для военных действий до 12 тысяч всадников. На то время винтовки самых различных систем и приметные патронташи на несколько десятков патронов стали неотъемлемой частью одежды воинов шахсевенов, состоявшей обычно из коричневых шаровар и синей (или белой) куртки.
Уже в конце XIX века большая часть кочевых племен шахсевенов перешла на оседлость. Свои шатры и палатки тюрки-сунниты стали менять на типичные персидские сельские жилища. Теперь они стали отходить от своего традиционного занятия – кочевого скотоводства, хотя и продолжали обладать огромными стадами овец, табунами лошадей и верблюдов.
Однако еще на рубеже двух веков шахсевены продолжали считаться шахской гвардией, такой же непослушной и мятежной, как янычары султанской Оттоманской Порты. В странах мусульманского Востока такое явление исторически было скорее правилом, чем исключением из него. Поэтому поведение шахсевенских племен в самой Персии не называлось «мятежным», как это видели европейцы.
«Любящие шаха» стали потенциально опасной военной силой внутри страны для правителей Персии, которые к концу XX столетия растеряли немалую часть своей деспотической власти над страной. И в первую очередь над кочевыми и полукочевыми племенами, населявшими окраины страны: шахсевенами, лурами, курдами, бахтиарами, кашкайцами и многими другими.
Шахсевены уже много лет дестабилизировали обстановку в стране. Даже при присутствии на ее территории русских войск они продолжали совершать разбойные нападения на мирные селения возле резиденций самих шахских генерал-губернаторов. Разбой на дорогах – торговых путях стал для них уже привычным и очень прибыльным занятием.
Отряды конных шахсевенов бесчинствовали у самой российской границы, по ту сторону которой, в Муганьской степи, проживали их соплеменники. Так что российской пограничной страже по реке Араке и в Талышских горах приходилось быть всегда начеку. Свидетельством тому могут быть частые стычки с вооруженными контрабандистами и иными лицами, которые шли через южную границу России со стороны Персии.
К тому же шахсевены были той частью мусульманского мира Персии, которую нельзя было назвать «любящей европейцев». Поэтому русский или армянский купец, передвигавшийся по дорогам Персии с грузом товаров, был желанной добычей всякого разбойного люда. Для российской казны каждый такой разбой являлся ощутимой утратой.
Действовали шахсевены почти безнаказанно: шахские власти и сама династия Каджаров просто не имели реальной военной силы для обуздания вооруженной рукой «любящих шаха». Те такое соотношение сил отлично понимали и потому действовали со все большим размахом. Теперь отряды всадников шахсевенских племен стали заходить все чаще и чаще за пределы зоны своего расселения.
Особенно прославил себя перед Первой мировой войной шахсевенский племенной вождь Мамед-кули-хан, называвший себя ни много ни мало Мамед-кули-Шахом. Не просто ханом, а Его Величеством шахом.
Шахские власти долго ничего не могли с ним ничего поделать и смогли схватить, лишь заманив шахсевенского хана с его приближенными в ловушку, после чего их публично повесили. По этому поводу российский комиссар на границе с Персией в марте 1812 года докладывал в Тифлис:
«…Бежавшие из Тегерана главнейшие виновники грабежей и убийств на границе Мамед-кули-хан и 9 шахсеванских вождей сегодня прибыли в Астару (иранский город на границе с Россией. – А.Ш.), арестованы».
Мамед-кули-хан был известен не только тем, что много лет действовал, то есть разбойничал и грабил персидские селения, вполне безнаказанно. Он «прославился» еще и тем, что называл самого себя Мамед-кули-Шахом.
После трех лет безуспешной борьбы с самозваным шахом тегеранским властям удалось заманить этого вождя шахсевенов в ловушку, уготовленную ему и его ближайшим сподвижникам в Астаре. Их арест был произведен российскими военными, беглецов из персидской столицы, как опасных преступников, передали шахским властям. Мамед-кули-хан. самозваный шахсевенский шах, был повешен.
Первым районом, в котором русские экспедиционные войска столкнулись с шахсеванами, стали приграничный с Россией город Ардебиль и его окрестности. Чтобы замирить местные шахсевенские племена, потребовались большие воинские силы. Это и заставило штаб Кавказского военного округа заметно усилить Ардебильский отряд.
Командир отряда генерал-майор Афоко Пациевич Фидаров, сам магометанин, родом из селения Зильги Терской области, жестоко наказывал тех, кто как-то открыто враждебно относился к военным людям из России. Купца, который отказывался им что-либо продавать или угрожал на базаре, немедленно арестовывали, его лавку конфисковывали с запретом заниматься торговлей.
Нападавших на чинов экспедиционного отряда предавали военно-полевому суду. Если таких преступников не находили, то наказывался весь городской квартал, где было совершено вооруженное нападение. Такие кары приводились в исполнение без всяких на то колебаний, что весьма быстро подействовало на «беспокойных» ардебильских жителей.
Пришлось экспедиционным отрядам в Иранском Азербайджане столкнуться и с фидаями-дашнаками, которые терроризировали местное армянское население. Впрочем, русские войска уже одним своим появление в Тавризе заставили ряд предводителей фидаев со своими вооруженными дружинами бежать из главного города северной части Персии. Так, известный азербайджанский революционер Саид-Уль-Леналик поспешил укрыться в Урмии.
После замирения ардебильцев и окрестных шахсевенов главные «экспедиционные события» развернулись в столице остана Восточный Азербайджан – Тавризе. То, что именно в нем произошел наибольший всплеск революционных событий, не случайно. После революции 1904-го и последующих годов в России сюда бежало немалое число революционеров из Закавказья. Они и стали «играть руководящую роль в происходящей смуте» на территории Иранского Азербайджана.
Кавказский наместник граф И.И. Воронцов-Дашков не раз докладывал об этом в Санкт-Петербург. Тавризские события не заставили себя долго ждать. Местные фидаи и революционеры-беглецы с российского Кавказа разгромили тавризский правительственный арсенал и «вооружили захваченным оружием народные массы».
После этого в городе, обширная часть которого оказалась в руках фидаев, сразу начались обстрелы и спонтанные нападения на части русских войск. Вспыхивали уличные бои. Приступом брались здания, в которых укрепились фидаи и просто вооруженные горожане. В городе была прервана телефонная связь. Эти «революционные события» проходили в Тавризе с 4 по 15 декабря 1911 года.
Первый серьезный бой произошел за тавризский караван-сарай, на крышах которого засели фидаи. Когда отряд, состоявший из казаков-лабинцев и мингрельских гренадер, проходил по улице мимо караван-сарая, то был «жестоко» обстрелян. Гренадерам и кубанским казакам во главе с хорунжими Лукой Барановым и Федором Кофановым пришлось «подняться на крыши» и в рукопашных схватках выбивать оттуда фидаев, имевших к тому же подавляющее численное превосходство.
Стрельба по русским военным велась через бойницы, проделанные в стенах домов и каменных заборах. Отрядные дозоры в центре города обстреливались даже из древней тавризской цитадели, с ее стен и башен. В случае преследования нападавшие легко скрывались в лабиринте узких улочек восточного города.
Бывший в то время за начальника Тавризского отряда полковник В.В. Чаплин (командир 1-го Кавказского стрелкового полка) не сразу пошел на применение артиллерии. Только тогда, когда дозоры и караулы стянулись к месту расположения отряда в районе Баги-Шамаль, он приказал обстрелять из пушек тавризскую цитадель, где скопилось большое число вооруженных горожан и местных революционеров.
Собирая воедино отряд, Чаплин приказал гренадерам и казакам-кубанцам оставить взятый приступом караван-сарай. Однако командовавший там подполковник 16-го Мингрельского гренадерского полка А.П. Немирович-Данченко приказ выполнить не смог. «Шайки фидаев» с 9 часов утра блокировали караван-сарай со всех сторон, подвергая его перекрестному обстрелу из соседних зданий и из-за заборов.
Попытка прорыва осажденных через единственные ворота не удалась и «сопровождалась рядом жертв при невозможности не только поражать, но даже видеть замаскированного противника».
Когда в штабе отряда стало известно об этом, на помощь был послан есаул Андрей Сомов с двенадцатью казаками из 1-го Сунженско-Владикавказского полка. Но едва терцы выехали из ворот Баги-Шамаля, как попали под град ружейных пуль, сыпавшихся на них со всех сторон.
Расчищать путь по улице для терских казаков пришлось огнем из двух орудий, двух пулеметов и из винтовок гренадер-мингрельцев. Верховые есаул Сомов со своими казаками пробился в караван-сарай. Их кони превратились во вьючных животных, поскольку из караван-сарая вывозили часть хранившегося там отрядного имущества.
Во время событий в городе Тавризе, столице Иранского Азербайджана, одну из самых жарких схваток пришлось выдержать группе солдат (около 25 человек) из 16-го гренадерского Мингрельского полка во главе с поручиком Н.И. Федоровым. Они засели в одном из городских зданий и в течение дня отбивались от атаковавших их толп фидаев, которые пытались поджечь дом, обложив его сеном, политым керосином.
Гренадеры-мингрельцы выстояли в том уличном бою, хотя в живых их осталось всего пять человек. Последние защитники горящего дома пробились на штыках в расположение своего отряда и вынесли из боя тяжело раненного в ногу с раздроблением кости поручика Н.И. Федорова. Офицер стал одним из героев тех тавризских событий, будучи уже в чине штабс-капитана, награжден (но с опозданием на год) орденом Святого великомученика и победоносца Георгия 4-й степени.
Столь долгое и обидное для представленного к награде офицера рассмотрение дела свидетельствовало прежде всего об одном. В Санкт-Петербурге в Военном ведомстве шли споры о том, возможны ли георгиевские награждения в мирное время, когда нет официальных свидетельств о том, что Россия применяет военную силу в сопредельном государстве, каким была для нее Персия. О единичных награждениях спорить не приходилось, а вот в отношении целых списков представлений разговор шел самый придирчивый.
Отрядные врачи, осматривая раненых, пришли к выводу, что большинство пулевых ран является тяжелыми. В заключении говорилось, что все раны «имели больших размеров, с рваными краями выходные отверстия, ясно свидетельствующие об использовании персами разрывных пуль».
С утра 8 декабря начался обстрел российского консульства. Его защищал консульский конвой из 18 казаков во главе с подъесаулом 1-го Уманского полка Николаем Федоренко, получивший небольшое подкрепление из казаков и гренадер. Часть конвоя, заняв крышу здания консульства, завязало перестрелку с нападавшими фидаями.
Тогда те попытались поджечь конюшню, где находились 40 лошадей. Тогда подъесаул Федоренко, взяв с собой двенадцать человек, зашел в тыл фидаям, разводившим огонь у дверей конюшни, и обратил их в бегство
В тех событиях в Тавризе на стороне русского отряда выступили персидские казаки во главе с инструктором, войсковым старшиной Александром Блазновым из терской станицы Ермоловской. Они изгнали «мятежников» из губернаторского дома и подняли российский флаг над крепостью Арком. Она была занята Блазновым с отрядом в 10 шахских казаков.
Героически обороняли с 9 по 13 декабря в окрестностях Тавриза пост Аджи-чай восемнадцать казаков из 1-го Сунженско-Владикавказского полка во главе с сотником Семеном Алехиным из терской станицы Государственной. Сам Алехин, будучи ранен в руку, продолжал руководить защитой поста у моста через одноименную речку.
Чтобы вырвать гарнизон сторожевого поста из кольца окружения, начальник Тавризского отряда 11 декабря послал на выручку две пехотные роты с тремя автомобилями и пулеметами. Но автомобили на дороге, покрытой гололедом, забуксовали.
Тогда на выручку поста поспешила сотня конных терских казаков, которая подоспела вовремя. Терцы сразу же завязали перестрелку с фидаями, которые атаковали пост. Тем после подхода двух пехотных рот с пулеметами и еще одной казачьей сотни – кубанцев – пришлось отступить подальше, очистив мост через речку Аджи-чай.
Штаб Кавказского военного округа подал срочную помощь Тавризскому отряду. 13 декабря к городу подошла походная колонна 5-го Кавказского стрелкового полка с четырьмя расчетами горных орудий, имея в авангарде сотню казаков-терцев Горско-Моздокского полка. Колонна в условиях наступившей зимы совершила марш-бросок в 100 верст, по глубокому снегу перейдя два горных перевала.
Одновременно от пограничной Джульфы на Тавриз заспешил кубанский 10-й Полтавский казачий полк под командованием полковника Э.А. Нальгиева.
Колонна усиленного артиллерией 5-го Кавказского стрелкового полка, подойдя к городу, приступом взяла глинобитные тавризские стены. Когда перестрелка здесь утихла и фидаи оставили место боя, то здесь насчитали до 60 убитых персов и подобрали 15 скорострельных винтовок самых разных систем.
В это время к колонне прибыл есаул Сомов с пятнадцатью казаками-сунженцами. Они вышли из города под вечер кружным путем. Таким образом, была установлена связь русского отряда с подошедшим укреплением. Его появление под стенами Тавриза подействовало на «мятежников отрезвляюще». Пальба в городской черте у Баги-Шемаля стала заметно ослабевать.
Тавризцам стало ясно, что штурм города русскими с непредсказуемыми последствиями неминуем. 14 декабря в 15 часов на крышах многих домов появились белые флаги, а над древней цитаделью был поднят… российский флаг. Уличных боев не последовало – «взбунтовавшееся население было вынуждено покориться русским и сложить оружие».
Декабрьские бои в Тавризе обернулись для экспедиционных войск немалыми потерями в людях. В донесении штаба Кавказского военного округа в Главное управление Генерального штаба были названы следующие цифры. Убиты: один офицер и 38 нижних чинов, ранены: 5 офицеров и 46 нижних чинов. Всего 90 человек.
О потерях со стороны фидаев в документе не говорится, но в любом случае они были более значительными. Российский консул в Тавризе Миллер определял число вооруженных людей в городе в 8-10 тысяч. Часть фидаев бежала из города, а один из их предводителей – Амманулла-Мирза укрылся в английском консульстве.
После «замирения» Тавриза были взяты под контроль главные дороги в остане, прежде всего из Тавриза в Софиан. Казачьими отрядами занимаются Маранд и Джульфа. В первом случае операция проводилась силами полутора сотен, во втором – полусотней казаков-кубанцев.
.. События в остане Восточный Азербайджан, в Тавризе, проходили одновременно с такими же событиями в городе Урмия, центре остана Западный Азербайджан. Декабрьские события здесь начались с того, что предводители фидаев стали агитировать местных курдов разгромить российское консульство, истребить в Урмии христиан и занять Кушинский перевал, через который шла горная дорога в близкую Турцию. Был «испорчен телеграф», и связь Урмии с хойским отрядом прервалась.
В ответ на это российский вице-консул в Урмии организовал патрулирование города казачьими разъездами и дал понять местному губернатору, что в случае начала враждебных действий он будет взят под арест.
Хойский отряд был усилен несколькими казачьими сотнями. Конные патрули взяли под свой контроль дорогу из Хоя в Урмию. Это настолько подействовало на урмийских фидаев и окрестные курдские племена, что они сочли за благо для себя отказаться от вооруженного выступления. То есть на то время они отказались от любых вооруженных нападений на русские отряды, казачьи разъезды и военные обозы, российские консульства и их персонал.
…Одновременно с событиями в Тавризе и вокруг Урмии произошла вспышка насилия в Реште, столице остана Гилян. В тех декабрьских событиях Гилян оказался «эпицентром революционных выступлений», поскольку эта прикаспийская провинция уже давно не контролировалась шахскими властями.
Когда русские экспедиционные войска вступили в Решт, город был во власти «шайки талышинцев Керим-хана и Сеид-Ашрефа, терроризировавшей население». Причем местный губернатор «мирно уживался с ними». Здесь было совершено несколько убийств купцов-персов, которые отказались бойкотировать товары из России.
Не менее сложной оказалась ситуация в портовом городе Энзели. Здесь был убит начальник местной полиции, ночью совершено покушение на губернатора, получившего четыре смертельных ранения пулями (организатором убийства стал мулла), нападению подвергся патруль от 205-го пехотного Шемахинского полка (ранены два человека, в том числе старший патруля поручик Юсуф Беков).
Напавшие на патруль фидаи укрылись в мечети. С крыши мечети и ее второго этажа, с крыш соседних домов началась пальба. В ответ стрельбу начали солдаты-шемахинцы. В перестрелке приняла участие и казачья команда терцев в составе десяти человек во главе с урядником Демченко.
«Эта команда, оставленная ранее в Энзели от 3-й сотни (1-го) Кизляро-Гребенского полка в распоряжении этапного коменданта, услышав тревогу и переправившись через залив на баркасе, врезалась в толпу напавших на патруль персов-революционеров, нанося им удары шашками, чем и способствовала рассеянию толпы».
После этого столкновения патрули взяли под свой контроль большую часть города, в котором нашли два склада с оружием и боеприпасами. В здании энзелийского энджумена нашлось 300 различных ружей и много патронов к ним, которые были реквизированы.
Поскольку обстановка в городе накалялась, команда канонерской лодки «Красноводск» взяла на себя охрану энзелийского консульства и банка пароходства общества «Кавказ и Меркурий». Из Решта спешно прибыла казачья сотня. Однако беспорядки в городе, забастовка в порту (прибывшие с военными грузами пароходы не разгружались и не грузились товарами в обратный рейс), уличные стычки между патрулями и горожанами продолжались.
Министр торговли и промышленности России в письме военному министру по поводу событий в Энзели констатировал следующий факт: «Полное разорение русской торговли».
Город Решт «вспыхнул мятежом» в день 8 декабря. Военные патрули стали забрасываться камнями, а стрельба по ним из домов и крыш велась до вечера. Местный российский консул Некрасов со всей решительностью взял на себя руководство наведением порядка в гилянской столице. Свидетель тех событий писал:
«…Энзелийские события 8 декабря имели тесную связь с перестрелкой, происшедшей в тот же день и в городе Реште.
В этой перестрелке с нашей стороны принимали участие
6-я Гребенская сотня и 6-я сотня 1-го Кубанского полка, а со стороны персов – шайка талышинцев Сеид-Ашрефа, революционная банда турецкоподцанных армян и команда персидских жандармов и полицейских сарбазов под личным начальством местного полицмейстера».
В ходе обысков в Энзели «подозрительных» домов и нежилых строений нашлось большое количество оружия и боеприпасов. Было изъято: 165 ружей разных систем (в том числе 27 трехлинейных винтовок и 48 берданок), три ящика патронов для трехлинейных винтовок, 42 ящика с новыми берданочными гильзами, присланными из Вены и адресованными в Тегеран. Это было видно по штемпелям на ящиках.
Пришлось арестовать муллу, организатора убийства энзелийского губернатора, «призывавшего народ к вооруженному восстанию и изгнанию русских из Персии». Были взяты под стражу «несколько главарей революционеров», терроризировавших население и руководивших забастовками.
Есаул Дмитрий Репников, сотенный командир 1 – го Кубанского полка, с казаками-кубанцами и терцами выдержал два огневых боя и занял городской арсенал и караван-сарай, где укрывались фидаи, потерявшие десять человек убитыми, до двух десятков ранеными (подобранных казаками) и трех взятых в плен с личным оружием.
В том деле отличились подъесаул Кибиров, хорунжие Глебовский и Григорьев, которые «быстро рассыпали подчиненных в цепь, умело применились к местности и открыли меткий ответный огонь». В ходе той стрельбы казаки потерь в своих рядах не понесли, но лишились шести коней.
Во время уличных боев в городе Реште у площади Зибак-майдан отличились командир сотни 1-го Лабинского казачьего полка Кубанского казачьего войска, распорядительный есаул Петр Абашкин и его подчиненный урядник Нефедов. Подвиг последнего, посланного сотенным командиром с тремя казаками за помощью в расположение полка, состоял в следующем. Пробираясь по городским улицам, лабинцы натолкнулись на отряд вооруженных персов в 10–15 человек, которые при виде их быстро спрятались за двери дома, выставив оттуда стволы своих ружей. Казаки, прижавшись к стенке, стали осторожно приближаться к двери.
«Один из персов выстрелил в урядника, ружье дало осечку, а урядник ответным выстрелом уложил перса наповал. Затем молодецкий урядник Нефедов, ухватившись за дуло другого ружья, сильным движением вытянул перса вместе с ружьем на улицу, где казаки и зарубили его шашками».
В городе был обнаружен и склад бомб. Поскольку специалистов для обращения с ними среди пехотинцев-шемахинцев не нашлось, рештский консул Некрасов обратился за помощью к командиру канонерской лодки «Карс», капитану 2-го ранга Н.Э. Викорсту. Тот отправил в Решт в сопровождении казачьего конвоя двух корабельных минеров и пулемет.
Когда стало ясно, что «выступление» подавлено, рештский полицмейстер бежал из города, а главарь «шайки» талышинцев Сеид-Ашреф и мулла Азис, подстрекавший толпу к нападению, укрылись в спасительном для них турецком консульстве.
Трое из «бежавших главарей шайки» – Юсуф Сартип-хан, Мирза Фотула-хан и Селим-хан – удачно бежали из города. Но по дороге на Казвин на почтовой станции Рудбар их настигла погоня – сотник Карин с двумя казаками. Три (талышинских?) хана были арестованы, доставлены в Решт и «понесли заслуженную кару по приговору полевого суда».
События в городе Реште закончились не только «огневым подавлением», но и изъятием оружия из местного арсенала и изгнанием «мятежников» из караван-сарая, превращенного ими в свою штаб-квартиру. Казакам удалось внезапным налетом обезоружить вооруженную охрану конюшни, в которой талышинцы Сеид-Ашрефа укрыли 41 верховую лошадь.
Затем последовали события, которые коснулись губернской власти, настроенной неблагосклонно и к собственному шаху, и к России. В резиденции губернатора остана нашелся целый арсенал оружия и боеприпасов. Начальник русского Казвинского экспедиционного отряда генерал-майор В.Д. Габаев (Габашвили) докладывал главнокомандующему войсками Кавказского военного округа:
«.. Шемахинцами (205-й пехотный Шемахинский полк. – А.Ш. ) и казаками был обыскан дом губернатора, причем найдено и отобрано 3 горных орудия, 3 полевых, 1 мортира, 2 знамени, более 1000 ружей трехлинейных, Лебеля и разных систем и до 5 тыс. патронов к ним, а также склад бомб и 62 ящика с артиллерийскими снарядами.
Я распорядился охранять оружие особым караулом, а затворы и замки от орудий запаковать в ящики и отправить под охраной в Энзели для препровождения в Баку».
В близком от Решта городе Казвине дело до прямых столкновений не дошло по причине того, что командование расквартированного в нем экспедиционного отряда сразу же взяло ситуацию под свой жесткий контроль.
«В Казвине тоже все чаще и чаще стали попадаться на глаза подозрительные, вооруженные с ног до головы, бахтиары и фидаи, разъезжавшие среди бела дня по базару и вызывающе посматривающие на непрошеных русских гостей.
Ввиду этого по распоряжению начальника отряда город был разделен на полицейские участки, назначен отрядный полицмейстер, штаб-офицер, а в помощь ему от каждой части наряжены по одному офицеру и по одному нижнему чину от каждой роты и сотни. Кроме того, с 8 декабря в Казвин ежедневно по ночам высылались особые патрули…
После некоторого успокоения к концу декабря месяца, в Казвине вновь было замечено враждебно приподнятое настроение к нам населения и обнаружен усиленный провоз персами оружия в город. Пришлось принять новые меры предосторожности, установив особое наблюдение за приезжающими в город лицами.
Для этого на заставах Поляковской, Казвинской и Султан-Абадской (по дороге на Хамадан) и в караван-сарае у Исфаганских ворот были выставлены от (1-го Кизляро-) Гребенского полка наблюдательные посты, по 4 человека каждый, которые и осматривали всех проезжающих, препровождая задержанных с оружием в консульство…»
Царский наместник на Кавказе, генерал-адъютант граф И.И. Воронцов-Дашков, поддержал начальника Казвинского экспедиционного отряда генерал-майора В.Д. Габаева в вопросе о награждении отличившихся в тех боях. Тот рапортовал в штаб Кавказского военного округа, как с полей войны: