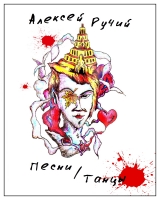
Текст книги "Песни/Танцы"
Автор книги: Алексей Ручий
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Алексей Викторович Ручий
Песни/Танцы
Песни Одинокого Героя, Танцы Заблудших Душ
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
Дизайнер обложки Максим Валерьевич Максименко
© Алексей Викторович Ручий, 2015
© Максим Валерьевич Максименко, дизайн обложки, 2015
Контркультурный роман о герое Поколения Y, пытающемся найти себя в реальности конца нулевых – начала десятых годов 21-го века, чьи жестокие правила и образы подчас оказываются гротескней и страшней правил и образов являющегося ему мира-перевертыша с подвластным кровожадному Минотавру городом-лабиринтом, по которому рыщут беспощадные убийцы – тени и отражения нас самих.
18+
ISBN 978-5-4474-0579-3
Оглавление
Песни/Танцы
Возвращение – Песнь 1. Куплет 1
Танец Погружения
Возвращение – Песнь 1. Куплет 2
Танец Ночных шорохов
Возвращение – Песнь 1. Куплет 3
Танец Одинокого певца
Передышка – Песнь 2. Куплет 1
Чумной танец
Передышка – Песнь 2. Куплет 2
Танец Уходящего все дальше и дальше
Передышка – Песнь 2. Куплет 3
Танец с абсурдными вариациями
Передышка – Песнь 2. Куплет 4
Танец в шумах
Новые горизонты – Песнь 3. Куплет 1
Вопросительный танец
Новые горизонты – Песнь 3. Куплет 2
Танец Случайных встреч
Новые горизонты – Песнь 3. Куплет 3
Танец Теней
Будни – Песнь 4. Куплет 1
Призрачный танец
Будни – Песнь 4. Куплет 2
Танец Света и Тьмы
Будни – Песнь 4. Куплет 3
Танец Мертвых Слов
Будни – Песнь 4. Куплет 4
Танец в Неизвестности
Попытка к бегству – Песнь 5. Куплет 1
Танец Необратимости
Попытка к бегству – Песнь 5. Куплет 2
Танец Предчувствий
Попытка к бегству – Песнь 5. Куплет 3
Затишье перед бурей
Разочарование – Песнь 6. Куплет 1
Танец Восхождения
Разочарование – Песнь 6. Куплет 2
Испытание Пустотой
Разочарование – Песнь 6. Куплет 3
Испытание Одиночеством
Революция – Песнь 7. Куплет 1
Испытание Свободой
Революция – Песнь 7. Куплет 2
Суд Минотавра
Революция – Песнь 7. Куплет 3
Последний обряд
Если бы все мы вдруг стали кем-то еще.
Джеймс Джойс. Улисс
Возвращение – Песнь 1. Куплет 1
В тот день я прощался с черными птицами. Черные птицы кружили над дивизионным плацем. Черными квадратами окон грустили мне вслед серые параллелепипеды казарм. Я уходил. Они оставались.
Немного болела голова после выпитой ночью, после отбоя, водки. Водку поставил прапорщик. Мы были его последним призывом здесь, часть расформировывали.
Майское солнце скальпелями лучей резало зеленые покровы листвы. Яркие блики плясали по гнилой воде в сточных канавах. Что-то кончалось, оставаясь позади пройденной дорогой, что-то неведомое вставало вдали, за домами, темным силуэтом в шляпе, прячущим лицо. Я думал о черных птицах.
На КПП меня ждал Паша – так мы договорились. С Пашей нас связывало многое. Мы были друзьями и до армии. Вместе жили в студенческой общаге, вместе праздновали победы и переживали утраты, вместе влюблялись, сходили с ума – всего не упомнишь. В хаосе тех вероломных лет вместе оказались отчислены из университета и в один прекрасный день решили идти в армию. Призвались с разницей в два дня. Он из Брянска, я из-под Питера. Через полгода встретились в дивизии. Год служили вместе. Демобилизовались в один день. И такое, как видите, бывает.
Паша был весел и скалился во все тридцать два. Еще бы – дембель. Дембель неизбежен, как говорили тут. Но неизбежно и все остальное. Все то, что ждет впереди. Розовая каша рассветов и вскрытые вены закатов.
– Привет, – сказал он и протянул руку.
– Привет, – ответил на рукопожатие я.
Молча мы миновали КПП. Махнули на прощание дневальному. Тот с тоской посмотрел вслед. Остающиеся всегда завидуют уходящим – так устроен мир.
– Свобода, да?! – скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Паша.
– Да уж, – я достал сигарету.
За КПП тянулось пыльное шоссе. Съеденная скукой сердцевина мира. Безлюдная остановка посреди пустоты. Мы направились туда.
Минут через пятнадцать подошел автобус. Мы загрузились в него и поехали в сторону города. Поплыл мимо КПП, нестройный ряд казарм вдалеке, плацы, флаги и вымпелы, строевой шаг, отбои и подъемы, тревоги и мирные будни. Прощайте – я не буду по вам скучать.
Автобус пропылил мимо дачного поселка, проехал покореженные каркасы какого-то полуразвалившегося заводика и въехал в город. Еще минут через десять мы были в центре, там и сошли.
Паше надо было купить гражданку. Я же решил ехать домой по парадной форме одежды, в темно-зеленом солдатском мундире с золотыми пуговицами, – в этом мне виделся некоторый шик. Хотя в остальном мне было все равно. Лишь бы подальше отсюда.
Пятница, но даже в центре города было немноголюдно. Редкие прохожие иногда проскальзывали мимо, но тут же скрывались за домами либо в дверях магазинов. Неторопливые прохожие застывших городов. Застывшие города, наполненные неторопливыми прохожими, живущие согласно неторопливому распорядку неторопливого времени, которое баюкает их своей тягучей колыбельной. «Мир умирает, – вот так думал я, – мир умирает, а мы остаемся. Справлять тризну по нему».
Гражданку Паше купили на рынке, существенно сэкономив и время, и – главное – деньги. Я предложил выпить по пиву – похмелье надо было гнать взашей, не давая ему занять надежные позиции и тем самым уступая преимущество в бою. С ним нужно было бороться незамедлительно. Паша, впрочем, идею поддержал без колебаний.
Мы взяли по бутылке в ларьке и пошли в сторону реки, несущей свои мутные воды по дну заросшего кустами и мелкими деревьями оврага. По городу ходили патрули – и попадаться им в форме и с пивом мне совсем не хотелось. Паше было плевать – он переоделся в гражданку еще в примерочной.
– Ну, давай – за дембель! – я поднес свою бутылку к Пашиной.
– Давай. Дождались-таки.
– Дождались, – бутылки звонко ударились боками.
Река была грязной, в желтоватой воде то и дело проплывал мусор; деревья по берегу росли чахлые, со скривленными стволами, покрытыми растрескавшейся корой. Местные жители устроили в овраге свалку. Но нам было плевать: свобода рождалась именно здесь, среди всех этих нечистот, она рвалась случайной искрой из кромешной тьмы, готовая освещать наш дальнейший путь…
Я поймал себя на том, что мыслю, пожалуй, слишком пафосно. Нет, по сути, никакой свободы. Все, что ждет нас дальше, мало чем отличается от того, что было буквально вчера. Это замкнутый круг, по которому нам придется ходить до скончания времен. Впрочем… Пиво делало свое дело, и нехорошие предчувствия ускользали прочь, как пенная жидкость из бутылки.
– Во сколько у тебя поезд? – спросил я Пашу.
– Не знаю, должен быть вечером.
– Да, мои тоже все в ночь идут.
– Тогда у нас еще целый день.
– Ага.
Мы сделали по большому глотку. Мое самочувствие улучшилось. Улучшилось и настроение. Дембель! Дембель, черт побери!
– В Москву когда поедем? – я вновь обратился к товарищу.
– Пиво допьем и поедем. Мне еще с братом надо встретиться. Познакомишься, кстати, с ним.
– Познакомлюсь, куда же я денусь.
Пиво подошло к концу довольно быстро. Последствия ночных возлияний были ликвидированы. Все потихоньку налаживалось. Можно было дышать полной грудью. Ловить легкими майский воздух, глазами – искрящиеся моменты свободы.
Так бывает – когда после долгого смирения даешь волю чувствам. Жизнь на время окрашивается в радужные цвета. На время – но все же. Потом все, конечно, вернется на круги своя, но сейчас… сейчас надо жить этими минутами. Проживать их. Легко. Беззаботно. Отчаянно.
Мы выкинули пустые бутылки в кусты, перешли сваренный из арматуры и ржавых железных листов мостик и направились к железнодорожной станции. Говорить больше не хотелось. Молчание – удел всего живого. Особенно когда и сказать-то нечего.
После сумрака оврага солнце ударило по глазам с новой силой, мир заискрился и заиграл свежими красками. Мир, огромный мир. Который предстояло заново постигать. Окунаться в него с головой, нырять в омуты, не ведая дна. Такова жизнь. Ты все время бежишь за кем-то или за чем-то, а может, от кого-то или от чего-то, не соображая, не стараясь соображать, не пытаясь понять – зачем все это нужно. Ноги в руки – и вперед.
До станции дошли пешком: погода и настроение располагали. Прошлись напоследок по узким запыленным улочкам затерянного на периферии городка. Окна типовых панельных домов с грустью смотрели нам вслед. Мы прощались с ними, не собираясь возвращаться. По крайней мере, в ближайшее время.
На станции первым делом пошли в кассы. Паша приобрел билет на вечерний поезд до Брянска по воинскому предписанию. Прикинув, что к чему, я решил, что свой билет возьму на вокзале в Москве, поэтому тщательно изучил расписание электричек, пока ждал его. Ближайшая электричка до столицы шла через сорок минут. О чем я и сообщил товарищу, когда тот вернулся.
– Время еще есть, – коротко резюмировал он итоги моего доклада.
– Да, есть. Надо бы чего-нибудь поесть.
– Продолжаешь стихи писать?
– Только начинаю.
Паша засмеялся.
Мы взяли по два беляша и по чашке кофе в киоске на привокзальной площади. Встали у столика с навесом, расположенного тут же, у киоска. Молча прикончили дымящиеся пирожки. Выпили кофе. К нам подошел какой-то старик.
– Что, ребята, на дембель? – спросил он.
– Ага.
– Ну, молодцы! Из дивизии?
– Из нее, родимой, – я полез за сигаретой.
– И далеко теперь?
– Далеко.
– Куда?
Я чиркнул зажигалкой.
– До Питера.
– Ну, это еще не так далеко… Удачи вам тогда!
– Спасибо!
Старик пошел дальше. Паша вслед за мной достал курево. Я протянул ему свою зажигалку. Не торопясь, он прикурил, глубоко затянулся, немного подержал дым в легких и плавно выдохнул. Спешить было некуда. И незачем. Хотя…
Тут вопрос философский. Зачем тогда мы так усердно куда-то спешили весь срок своей службы в армии? Куда неслись? В армии ведь иначе никак – все постоянно куда-то спешат, ломятся, бегут: офицеры торопят солдат, солдаты торопят свой дембель. Поэтому в армии каждый день аврал, так уж она устроена. Когда паровозу и вагонам не по пути, хорошего состава однозначно не выйдет.
Сегодня я прощался не только с черными птицами, сегодня я также прощался и со всей этой зеленой суматохой на грани безумия. Теперь меня ждали другие моря, может, не менее неспокойные, и другие города, может, не менее жуткие, но другие. Другие миры, в которые нас никогда не пускали.
– Пойдем, что ли, на платформу…
– Пойдем.
Платформа медленно заполнялась людьми. Мы поднялись по бетонным ступеням и пошли в ее дальний конец – там было свободней. Вокруг яркими красками расцветала весна; весна надежд, весна любви, весна знакомой, но забытой свободы – как все забытое имеющей горький водочный привкус. Хотелось всего и сразу. Так, наверное, бывает со слепыми, которым внезапно выпадает удача прозреть: тебе не унять свой аппетит, не насытиться этим миром, пока ты не потеряешь все силы. До конца. А тут мы однозначно пойдем до конца.
Электричка пришла минут через пятнадцать. Мы оперативно загрузились в нее и заняли места у окна. Вагон мгновенно заполнился: тут были дачники с разбухшими рюкзаками, задумчивые пенсионеры с газетами, которые с сосредоточенным видом разгадывали кроссворды, шумные дети в сопровождении своих усталых родителей, коротко стриженые ребята, ехавшие в столицу по только им известным делам, несколько офицеров из гарнизона… – смутные тени, солнечные блики, свет и тьма. В общем, бесконечный балаган жизни.
Когда электричка тронулась, этот балаган равнодушно продолжил предаваться своим делам и развлечениям; у нас же остались позади полтора года жизни. Падения и взлеты, достижения и промахи…
Как будто безвоздушное пространство кончилось, и теперь можно было попробовать начать дышать…
Замелькало, закружилось за окном. Понеслась прочь станция, город, типовые дома и промышленные зоны, заброшенные развалюхи и ржавеющие ангары… за ними – лес, поля, деревни. Понеслось время…
Голос из громкоговорителя объявлял станции одну за другой; они мелькали мимо окон полупустыми платформами, разноцветными дачными домиками, зазубренными гарпунными верхушками елей. Я смотрел в эту чехарду сквозь мутное стекло с нацарапанным на нем нецензурным словом и погружался в мягкую податливую дрему. Прочь, прочь отсюда. Навсегда. В никуда…
В армию я уходил с проблемами. Точнее – с целым рядом проблем.
Во-первых, я нигде не работал и не учился. Из университета меня отчислили еще весной, и до осени я просто слонялся туда-сюда, пытаясь отыскать и занять свою скромную нишу в этом мире.
За это время я успел попробовать себя в специальности помощника юриста, курьера, специалиста по подделыванию печатей и штампов, грузчика, строителя и, конечно, мужественного пьяницы.
Алкоголь был второй проблемой. В том обществе, которое меня окружало, выпивали практически все. Компания мечтательных неумех и амбициозных неудачников – алкоголь помогал нам найти компромисс с жестокой и беспринципной реальностью.
Но своего места в мире в ходе этих хаотических поисков я так и не обнаружил. Тот, кто создавал мир, видимо, не предусмотрел того факта, что однажды здесь появлюсь я. И это была третья проблема, основная.
Нахождение среди множества людей, как это ни парадоксально, ведет к непременному одиночеству. Ты просто-напросто начинаешь понимать, что не нужен никому и, в первую очередь, самому себе. Именно себе… Узел завязывается все туже, ты мечешься как раненый зверь, но выхода нет. Надо рвать и рвать конкретно. Напрочь. Навсегда. Но даже это не гарантирует тебе ничего. От себя не уйдешь. Тут заключена четвертая проблема, самая болезненная…
В какой-то момент я устал. Я пытался вырваться из порочного круга, рванув через всю страну за ускользающей любовью, без денег, на электричках. Но любви я предсказуемо не нашел. Любви было не до меня, у нее были свои планы, и улыбаться она любила лишь тем, кто был более удачлив. Так я остался ни с чем. Хотя…
Страна освежила и немного приободрила меня. Впервые в жизни я совершил самостоятельное путешествие. Впервые в жизни увидел пшеничные поля до горизонта. И услышал ветер, раскачивающий наливающиеся зерном колосья. Новые ощущения и незнакомые чувства – пожалуй, это все, что я мог заполучить тогда. Может, еще решительность, которой мне всегда недоставало. Ничего другого у меня не было. В том числе и идей о том, что же делать дальше.
Лихорадочно теребя мысли, я искал способ вырваться из того мрака, что окутывал мое настоящее. Способ приходил на ум один, классический: бежать. Вставал вопрос: куда? В тюрьму меня не брали, хотя периодически грозились (именно вариант заточения, который совсем не радовал мою свободолюбивую натуру, и подтолкнул меня к решительным действиям), оставалась – армия. В армию у нас берут почти всегда и почти всех – и берут, надо сказать, с удовольствием. С руками и ногами. Впрочем, могут взять и без них.
Но в моем случае даже тут все вышло гораздо сложнее, чем я предполагал. Если подробнее: брать меня хотели, очень хотели. Женщины в райвоенкомате, когда узнали, что я сам, добровольно, хочу отправиться отдавать долг Родине, расцвели, словно только что нашли клад. Впрочем, при современном отношении молодежи, да и не только молодежи, к армии – все так и было. Другое дело – психиатр. Психиатр на медкомиссии наотрез отказался пропускать меня. Из-за шрамов на руках.
Шрамы – да мало ли их было на мне, этих шрамов. Каждое значимое (и совсем незначимое) событие, каждый удар судьбы запечатлевался на мне тонким белым рубцом. Я вел войну против себя. Беспощадную, безжалостную. Но психиатру – женщине того возраста, когда климакс откладывает неприятный отпечаток на характере – этого было никогда и ни за что не понять, она нервничала, тихо ненавидя всех, и попросту не хотела брать на себя ответственность за столь сомнительного в психическом плане призывника. Поэтому отправила меня от греха подальше в областную психбольницу на обследование. Пусть уже там разбираются: могу ли я служить в армии или нет.
Порадовал только майор, который руководил призывной кампанией. Пробежав по мне хитрыми въедливыми глазками, он коротко заключил:
– Езжай. Если в армию хочешь, – тут его глаза особо хитро сверкнули, дав понять, что мое желание весьма удобно вписывается в его личный план по получению премии за редкое отсутствие недобора призывников, – они тебя пропустят. Парень-то ты нормальный.
Нормальный парень – с такой исчерпывающей характеристикой в качестве багажа я и поехал в областную психбольницу.
Ехал с пареньком года на три-четыре младше, отправленным тоже по линии военкомата. Звали паренька Рома. Его мне препоручили под покровительство хитрый военкоматский майор и Ромина сердобольная бабушка: она боялась, что по пути тот обязательно где-нибудь потеряется. В анамнезе Рома имел драку на школьной дискотеке, в ходе которой он порезал кого-то «розочкой» из бутылочного горлышка, а также еще ряд неприятных инцидентов, позволивших отправить его на обследование с диагнозом, в котором значилось что-то вроде неумения контролировать агрессию и склонность к социопатии (сильно сомневаюсь, что бабушка знала об этом). Помимо этих недостатков, относившихся скорее к внутренней стороне Роминой натуры, имелся и еще один, внешний – Рома отличался излишней болтливостью: говорил много, но, как и все болтуны, не по делу.
Областная психбольница находилась в живописном месте под Гатчиной, вдали от райцентра и больших автострад – километрах в пяти от ближайшей железнодорожной станции, на опушке леса, промокшего от октябрьских дождей и хмуро смотрящего черными глазами в окна больничных корпусов.
Сначала мы ехали три часа на автобусе, затем полтора часа на электричке, и в завершение вояжа минут десять тряслись по грунтовке на видавшем виды пазике. Все это время Рома терроризировал меня своей докучливой болтовней. Казалось, он мог говорить обо всем на свете, совершенно не терзаясь тем, насколько некомпетентно и абсолютно по-идиотски звучат его слова.
Наконец вылезли на безлюдной остановке среди куч палой листвы и луж, в которых отражалось хмурое осеннее небо. Вдалеке виднелись какие-то полуразвалившиеся избушки. Видимо, там была деревня.
Неподалеку от остановки возвышались кирпичные корпуса психбольницы. Зрелище впечатляющее: окна, забранные металлическими решетками и отдаленно напоминающие неподвижные глаза покойника, сырые потеки по стенам от непрекращающихся дождей, местами оторванный шифер на крыше. Достаточно, чтобы сделать некоторые нелицеприятные выводы.
«Даже если вы совершенно здоровы, длительное пребывание здесь превратит вас в конченого психа», – заключил я.
Мы с Ромой перешли дорогу, обогнули невысокий забор, прошли мимо пустой сторожки со шлагбаумом и оказались перед деревянной дверью с окошком. Постучались. Мне показалось, что к окнам психбольницы тотчас прильнули десятки смутных силуэтов…
Наверное, показалось, потому что, когда я поднял свой взгляд вверх, на меня мрачно посмотрели лишь проржавевшие решетки да квадратики серого стекла.
Стучаться пришлось раза три – только после этого окошко в двери нехотя отворилось, и оттуда выглянула заспанная женщина неопределенного возраста.
– Мы прописываться, – сию же секунду возопил Рома.
Глупый человек.
– По направлению, – уточнил я, – на обследование.
Женщина смерила нас хмурым взглядом.
– Раньше не могли приехать?
– Мы вообще-то из области, с другого конца, это двести с лишним километров…
Вряд ли мои доводы показались ей хоть сколько-нибудь убедительными, потому что приветливости в ее взоре не прибавилось. Но дверь она все же открыла.
Мы прошли через небольшой коридорчик и очутились в приемном отделении. Нас тут же встретила дежурная медсестра. По виду она мало чем отличалась от хмурой женщины: тот же неопределенный возраст, та же пугающая ожесточенность в глазах.
Нас коротко допросили о причинах направления в психбольницу. Отвечать на их вопросы было неприятно, по крайней мере, мне. Словно ты пытался оправдаться, что не являешься психом и лишь по нелепой случайности оказался здесь.
Случайно в психушке не оказываются – это читалось в их глазах. К тому же вряд ли хоть один псих когда-либо признает себя таковым – ведь в противном случае он автоматом покидает категорию психов.
Они что-то записали в своих картах. Точнее, в наших картах. Затем забрали у нас паспорта и телефоны. Иметь их здесь запрещалось.
Такого расклада я не ожидал. Настроение упало ниже ватерлинии, в темный кишащий крысами трюм. Воображение начинало рисовать совершенно мрачные картины. Это тюрьма. Тюрьма, в которую мы с Ромой добровольно заточили себя. Все ведь так и выходило.
Потом мы в сопровождении хмурой женщины поднялись по лестнице на последний этаж. Шагая по ступенькам, а затем по коридору стационара, я вскользь осмотрел свое новое прибежище. Всюду решетки. И двери без ручек. Ручки медперсонал носил с собой. Одной из таких хмурая женщина открыла нам дверь в отделение.
За этой дверью начиналась совершенно другая жизнь. Коридор. Палаты без дверей, просматриваемые. Туалет с огромным круглым отверстием в двери. Погруженные в себя личности на скамейках вдоль стен. Отсутствующие взгляды. Подвыпивший медбрат, который проводил нас в небольшую каморку, где положено было храниться вещам. Там мы переоделись. Взяли с собой лишь сигареты.
Сигареты в психбольнице – это вообще отдельная история, заслуживающая небольшого рассказа. За сигарету психи готовы на все. В прямом смысле этого слова. Все зависит только от вашей извращенной фантазии. За тлеющим в пальцах фильтром выстраивается очередь. Так что скурить целую сигарету в сортире психбольницы – даже и не мечтайте.
Наша палата была возле входа в отделение – там особняком лежали только военкоматские. Психи были в палатах по соседству. Но ощущались. Ощущались достаточно сильно. Особенно Слава. Слава – человек-сирена.
Слава почти не видел. Когда-то он работал сварщиком, на работе потерял зрение, остался без работы. В поселке, где Слава жил, это означало практически верную гибель, поэтому неудивительно, что Славина любимая жена, не сильно охочая до работы, зато питавшая слабость к алкоголю и другим прелестям жизни, от мужа-инвалида открестилась сразу же: принялась гулять напропалую, водить мужиков, нисколько Славы не стесняясь, а потом и вовсе бросила, переехала к одному из своих хахалей.
Так Слава двинулся. Попал в психушку. В больнице психи из активных, пользуясь тем, что Слава слеп, всячески издевались над ним. Пинали, обкрадывали. Вполне вероятно, что кто-то даже периодически совершал с ним акты мужеложества.
Что говорить: если уж сама жизнь так обошлась со Славой, то что было взять с больничных дуриков? В общем, было Славе совсем плохо. И Слава, пытаясь хоть как-то воспротивиться измывающейся над ним реальности, начинал выть.
Выл он часами. Начинал сразу после завтрака – и продолжал почти до обеда, пока транквилизаторы, которыми Славу усиленно накачивали, не погружали его в тихий безвольный анабиоз. Его вой – яростный, злой, полный обреченности – метался по коридорам психбольницы как смерч, в нем была заключена вся боль помутненного сознания, сознания-тюрьмы, в которой бились остатки разума.
Звонить домой можно было только один раз в сутки – для этого выдавали на время наши телефоны. Звонок проходил под присмотром старшей сестры. На вопрос матери «как там кормят?» я отвечал просто: «как в сказке», подразумевая сказку «Каша из топора». Старшая сестра иронии моей не понимала в силу своей природной ограниченности, посему оценивала мое выражение как правильное и улыбалась. Так оно и лучше.
Потому что продукты из столовой воровали. Воровали все: повара, медсестры, врачи. И, как следствие, кормили в больнице очень плохо, скудно и невкусно. Психам ведь все равно, что жрать – они психи. И пожаловаться им некому. Приблизительно так рассуждали местные философы от кулинарии.
Мы, военкоматские, по возможности сторонились местной пищи, питаясь исключительно для поддержания сил и надеясь поскорее вырваться из этого блокадного ада – поэтому к нашим столам всегда выстраивалась очередь: доесть.
Время убивали, играя в карты. Я иногда читал. Аркадия Гайдара. Гайдар тоже когда-то лежал в психбольнице, насколько мне было известно. Поэтому я невольно чувствовал какое-то родство с писателем. К тому же мне нравился его стиль. В его детских на первый взгляд книгах я открывал для себя взрослую правду жизни.
За окном, забранным решеткой, скучал осенний лес. Изредка по козырьку стучал мелкий вкрадчивый октябрьский дождь. Мир был погружен в темную транквилизаторную дрему. Его сумасшедший бог качался из стороны в сторону, твердя мантру на одном из потерянных языков прошлого, выдувая слюнные пузыри растрескавшимися губами. Казалось, что все вокруг – это и есть одна огромная психбольница под названием «Стационар Мир», выписки из которой ждать не приходится.
Дня через два из города приехал психолог. Не знаю почему, но меня позвали к нему, а точнее – к ней, на прием первым. Впрочем, не исключаю, что тут и была своя логика: в нашем военкоматском братстве я был единственным, кто не косил. Не косил от армии и не прикидывался дуриком. Плюс история моя была все-таки более-менее обычной.
Психолог – молодая приятная женщина – мне понравилась. Правда, занимались мы с ней почти полтора часа откровенной ерундой: разгадывали какие-то ребусы, перебирали разноцветные карточки, она что-то спрашивала, я что-то отвечал. Лишь в конце она спросила про мои шрамы. Я ей все рассказал. Все-все… Да, я был влюблен. Да, пару лет назад. Да, не находил себе места. Да, писал стихи кровью и посвящал их Ей. А Ей было плевать. Как-то так.
Возможно, психолог даже позавидовала моей чистой юношеской любви. Хотя, скорее всего, нет. Я был всего лишь новым экземпляром в ее только начинающей формироваться клинической коллекции.
После психолога меня принял и главный психиатр. Мы беседовали где-то с полчаса. Он задавал вопросы, я отвечал. Все как с психологом, только без разноцветных карточек и с меньшим выбором вариантов ответа. По сути дела, все сводилось к однообразным «Да» или «Нет». На теме поэзии, правда, скудная фабула нашего разговора немного обогатилась:
– Стихи пишешь? – спросил главный психиатр.
– Пишу.
– Это хорошо. Только зачем кровью?
Я пожал плечами. Что мне было отвечать? Стихи – это и есть кровь. Пот, слезы, сперма. Стихи – это то, что наполняет все четыре камеры моего сердца, то, что кипит в моих железах, выделяется зловонными секретами из пор моей кожи.
– Публиковаться пробовал?
– Было дело.
– Успешно?
– Относительно. Все относительно.
Тут, пожалуй, главный психиатр со мной согласился. Он посмотрел в окно своего кабинета, тоже разрезанное на части прутьями решетки, на продрогший лес и как будто погрустнел.
– На флоте хочешь служить? – он указал на мою тельняшку.
– Куда отправят. Тельняшка – это так, в ней просто тепло.
Больше вопросов не было. Главный психиатр что-то написал в моей карточке и сказал, чтобы я готовился к выписке.
Выписали меня в тот же день. Первым из всех. Не сказать, чтобы я плясал от счастья, но тем не менее… На душе малость посветлело.
На выходе вернули телефон и документы. Не прощаясь, я покинул это заведение, надеясь не возвращаться сюда никогда. Лес печально посмотрел на меня. Конечно-конечно, – подумал он, – никогда, еще бы… так мы и поверили!..
Я прошел мимо шлагбаума и двинулся по разбитой дороге к остановке.
Электричку на станции пришлось ждать целый час. Я купил себе пива в ларьке. Расположился на скамейке в дальнем конце платформы.
Где-то в тупике за станцией свистел тепловоз. Изредка мимо громыхали составленные из замасленных цистерн и груженных щебнем платформ товарняки. Небо над станцией как-то болезненно ворочалось, склизкое, как студень, в серых потеках туч, время от времени брызгая мелким дождичком.
Когда я заходил в наконец-то подошедшую электричку до города, случайно увидел в противоположном конце платформы психолога. Она тоже ехала в город. Немного грустная. Как, впрочем, и все вокруг. Мы все были в тот момент брошенными детьми бескрайней осенней тоски.
На руках у меня была справка, что психически я совершенно здоров и к службе в армии безоговорочно годен. Так-то лучше. Впереди ждал еще один дурдом, но только впереди. А сейчас… сейчас я не думал ни о чем и знать ни о чем не хотел. Я медленно погружался в патоку тягучего спутанного сна.








