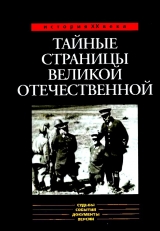
Текст книги "Тайные страницы Великой Отечественной"
Автор книги: Александр Бондаренко
Соавторы: Николай Ефимов
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 20 страниц)
Не менее интересно мнение китайской стороны. В монографии «Вторая мировая война» Хуан Юйчжан отмечал такие черты советского военного искусства, как «принятие всех возможных мер для оперативной внезапности», «создание сильных первых эшелонов для нанесения мощного первоначального удара»,«нанесение одновременных ударов на нескольких операционных направлениях, сходящихся к центру, при централизованном управлении», «высокие темпы наступления» и др.
ГАВРИЛОВ: Красная армия не только взяла в плен свыше 600 тысяч японских солдат и офицеров, но и освободила около двух тысяч союзных военнопленных, которые содержались в концлагерях на территории Китая. Естественно, они содержались в совершенно ужасных условиях... После оказания медицинской и прочей помощи их передали союзному командованию.
– Можно считать, что этим парням очень крупно повезло...
СЕНЯВСКАЯ: Конечно, ведь уже потом, в ходе процесса Международного трибунала по рассмотрению дел японских военных преступников в Токио, выяснились чудовищные подробности расправ, которые устраивались в японской армии над пленными: «Людей обезглавливали, четвертовали, обливали бензином и сжигали живыми; военнопленным вспарывали животы, вырывали печень и съедали ее, что являлось якобы проявлением особого самурайского духа». Секретная директива японского командования от 1 августа 1944 года требовала тотального уничтожения всех пленных, попавших в японские застенки. «Неважно, как будет происходить ликвидация: индивидуально или группами, – говорилось в ней, – неважно, какие методы будут использоваться: взрывчатка, отравляющие газы, яды, усыпляющие препараты, обезглавливание или что-либо еще – в любом случае цель состоит в том, чтобы ни одному не удалось спастись. Уничтожены должны быть все, и не должно остаться никаких следов».
ГАВРИЛОВ: Союзники не ожидали такого стремительного продвижения Красной армии, когда буквально в считанные недели она продвинулась к Порт-Артуру и Даляни. В начале сентября, по донесению командования 1-го Дальневосточного фронта, американская эскадра в составе четырех авианосцев и восьми эсминцев, подошла к Порт-Артуру. При этом в воздухе появилось около 300 самолетов. На вопрос нашего командования к американскому представителю, он ответил, что это – поход солидарности, а самолеты, которые появились в воздухе – это салют доблестной Красной армии.
– Кстати, мы заговорили о пленных союзниках... Но ведь вопрос о японцах, оказавшихся в нашем плену, сейчас является одним из, скажу так, наиболее спекулятивных...
ГАРЕЕВ: Да, нас обвиняют в том, что мы незаконно использовали японцев для работы. Но они работали не только у нас: их заставляли работать везде, где они капитулировали. Кстати, идея расплачиваться трудом военнопленных возникла в императорских кругах Японии.
КОШКИН: Дело в том, что люди, которые представляют этот факт как сталинские преступления, плохо знают историю. А дело состоит в следующем. Еще в сентябре
44-го, когда японское правительство предпринимало попытки заинтересовать Советский Союз возможными уступками в обмен на сохранение СССР нейтралитета,
МИД Японии подготовил документ под названием «Принципы проведения мирных переговоров с правительством СССР». В документе, наряду с другими предложениями, предусматривалась и готовность правительства Японии предложить в качестве репараций использование японских военнослужащих как рабочей силы.
Пройти мимо этого потрясающего по своему цинизму факта не смогли даже американцы. В недавно вышедшей книге «Хирохито» – это японский император – американец Бикс процитировал японский документ, приведя из него такие слова: «Мы демобилизуем дислоцированные за рубежом вооруженные силы и примем меры к их возвращению на родину. Если подобное будет невозможно, мы согласимся оставить личный состав в местах его настоящего пребывания». А в пояснительной записке есть комментарий к данному положению:«Рабочая сила может быть предложена в качестве репарации». И американец Бикс делает вывод: идея интернировать японских военнопленных для использования их труда при восстановлении советской экономики, осуществленная на практике в сибирских лагерях, возникла не в Москве, а среди ближайшего окружения императора. Вот вам и цена публикаций авторов, которые пытаются повесить всех собак на СССР и Сталина. Сами японцы хотели этого!
ГАРЕЕВ: Дело еще и в том, что китайцы и корейцы страшно ненавидели японцев, которые очень жестоко осуществляли оккупационный режим в Китае и Корее... Это предопределило решение многих других вопросов. Вот, говорят, почему же вы этих пленных в Сибирь увели – их можно было в Маньчжурии оставить, китайцам передать. В районе Дуньхуа мы временно один лагерь китайцам передали – так китайцы все продовольствие отобрали, а любой китаец, если мимо лагеря шел, обязательно стрелял в сторону японцев. Японцы само умоляли, чтобы их не оставляли с китайцами...
– Можно сказать, что они сами предопределили свою судьбу: начиная от тех, кто решился продолжать войну после капитуляции Германии, и заканчивая теми, кто зверствовал над беззащитными пленными...
СЕНЯВСКАЯ: 2 сентября 1945 года на американском линкоре «Миссури» состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. Сотни людей на дворцовой площади в Токио рыдали и бились головой о камни. Прокатилась волна самоубийств. Среди тех, кто «исполнил завет Анами», было более тысячи офицеров, не считая сотен военных моряков и гражданских лиц. Покончил с собой и сам военный министр, и несколько других крупных правительственных чиновников...
Однако даже после объявления капитуляции еще долго сохранялись отдельные очаги сопротивления японских фанатиков. Известны случаи, когда японские солдаты на заброшенных островах продолжали сохранять верность присяге своему императору в течение многих послевоенных лет и даже десятилетий, порой просто не зная об окончании войны, а иногда отказываясь признать и принять поражение.
– Ну да, ведь и минувшим летом обнаружили еще двух таких бойцов – из числа последних солдат Второй мировой войны.
СЕНЯВСКАЯ: Но все-таки Вторая мировая война закончилась еще в начале сентября 45-го...
ХАЗАНОВ: Она продолжалась шесть лет и один день. 3 сентября 1945 года в Советском Союзе было объявлено Днем Победы над Японией.
РЖЕШЕВСКИЙ: А почему эта дата исключена из перечня Дней боевой славы нашего народа? И ветераны, и люди молодого поколения не понимают, почему мы сами у себя отнимаем важнейшую победу, за которую сложили головы десятки тысяч наших соотечественников? Думаю, что рано или поздно, но это вопрос будет справедливо решен, истина будет восстановлена! А то ведь так можно все перечеркнуть в нашей истории! Тут надо слово благодарности сказать «Красной звезде», что она выступает по этому вопросу
КОШКИН: Да, а то ведь целый ряд центральных изданий эту дату почему-то замалчивает... Это просто недопустимо – исключение из календаря даты 3 сентября, как Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
– Действительно, к нам в редакцию приходит немало писем с вопросом, когда же этот день будет восстановлен. Люди его помнят.
СЕНЯВСКАЯ: Неудивительно! В своей речи, произнесенной по радио вечером 3 сентября, Иосиф Виссарионович Сталин напомнил об истории непростых взаимоотношений нашей страны с Японией с начала XX века, подчеркнув, что у советских людей имеется к ней «свой особый счет». «...Поражение русских войск в 1904 году в период Русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания, – заявил Верховный главнокомандующий. – Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил». Эта оценка, данная лидером Советского государства в условиях его высшего военнополитического триумфа, в тот момент была полностью созвучна настроениям страны. И в официальной пропаганде, и в массовых настроениях идеи защиты и торжества национально-государственных интересов СССР как преемника тысячелетнего Российского государства были доминирующими.
Заключительная кампания Второй мировой войны, проведенная Советской армией на Дальнем Востоке, не только приблизила завершение войны, обеспечила принципиально иной расклад стратегических сил в послевоенном мире, но и способствовала окончательному изживанию комплекса побежденной страны, который все еще сохранялся в исторической памяти советских людей, будучи унаследованным от царской России и в какой-то мере подкрепленным в период японской оккупации Дальнего Востока в годы Гражданской войны. По этому комплексу был нанесен удар еще в конце 1930-х годов, но сам факт сохранения за Японией отторгнутых еще в начале века российских земель, а также постоянно нависавшая угроза удара в спину, сохраняли в массовом сознании образ этой страны как коварного и сильного потенциального врага. И этот образ был вполне адекватен реальному положению вещей: японские стратеги активно готовились к войне и не решились напасть лишь потому, что риск был слишком велик. Оценка Сталиным значения разгрома милитаристской Японии была политически абсолютно точной и созвучной настроениям общества.
Вместо послесловия
Великая Отечественная война – объединяющий фактор нашей истории
Наш собеседник – Академик Российской академии наук Александр Оганович Чубарьян, директор Института всеобщей истории РАН.
– Александр Оганович, можно сказать, что минувшее столетие было перенасыщено событиями, и многие из них, в общем-то, нами уже позабыты. Однако Великая Отечественная – Вторая мировая война и сейчас вызывает огромный интерес как профессиональных историков, так и любителей истории. Чем вы объясните нынешний интерес к той далекой уже войне?
– Я думаю, нельзя говорить, что этот интерес возник только сейчас. Наблюдения показывают, что тема минувшей войны не уходит со страниц как научной литературы, так и периодической печати. Объяснений несколько. Первое – сугубо научное. За последние годы введено в оборот очень много, я бы сказал, огромное количество, новых материалов, и они продолжают накапливаться. Поэтому, естественно, у исследователей появляется желание побыстрее их осмыслить.
– Вы имеете в виду профессиональный интерес, а ведь тема войны вызывает и громадный общественный резонанс...
– Да, это второй момент – может быть, даже более важный: не угасает общественный интерес к войне. Он связан с полемикой и дискуссиями, которые не только не утихают, но приобретают все более острый характер. Особенно ярко это проявилось в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне, которое отмечалось в 2005 году. Я думаю, что сейчас, по мере приближения к 2010 году, интерес к этой теме будет только усиливаться. Связано это, кроме всего прочего, и с позицией наших коллег в странах Балтии, а сейчас – и на Украине, в ряде стран Восточной Европы.
– До объединения Германии в нашей прессе бытовало клише о желающих «пересмотреть итоги Второй мировой войны». Как с этим сейчас?
– Сейчас, прежде всего, речь идет о предыстории Великой Отечественной войны. Как вы знаете, активно обсуждается период 1939-1941 годов. А в последнее время остро встал вопрос о националистических организациях в годы Второй мировой – Великой Отечественной войны. В частности, о пересмотре оценок Украинской повстанческой армии и тех лиц и объединений в странах Балтии, которые сотрудничали с нацистами. Все это поднимает большую волну общественного резонанса.
– Не получается ли, что нынешний интерес к теме Великой Отечественной войны как бы навязан нам из-за рубежа?
– Нет, так, конечно, говорить нельзя, но определенная взаимосвязь тут есть. Естественны как реакция России на все эти процессы «пересмотров» и «реабилитаций», так и ответные усилия с другой стороны. Получается заколдованный круг, а в результате, действительно, возрастает интерес к событиям Великой Отечественной войны уже на общественном уровне.
– Выходит, что тема той войны, в которой представители всех советских республик вместе сражались за Родину, теперь нас разделяет?
– Мировой опыт показывает, что любые конфронтации неконструктивны. Помните, несколько лет назад мы пытались сформулировать нашу национальную идею, определить нашу национальную идентичность? А сейчас этим заняты все страны на постсоветском пространстве. Здесь очень важно – при всех разногласиях, при всех различиях – найти консенсус в оценке общих, наиболее значимых явлений. С моей точки зрения, таким явлением и могла бы стать Великая Отечественная война как объединяющий фактор нашей общей истории. К сожалению, на практике это не всегда получается, но все-таки такая идея должна быть – особенно в учебниках. Очень многие это понимают, и это также вызывает повышенный интерес к Великой Отечественной войне.
– Этот интерес как-то «материализуется»? Или так и остается – огромное количество разрозненных публикаций и разнообразных книг, в которых каждый, в общем-то, может найти удовлетворяющую его точку зрения?
– Как вы знаете, в этом году был подписан указ относительно подготовки нового десятитомного труда по истории Великой Отечественной войны. Думается, этот труд может подвести итоги научных дискуссий последних десяти-пятнадцати лет, ответит на некоторые животрепещущие вопросы.
– А как вы считаете, всякая ли дискуссия приносит пользу? У нас ведь не столь давно с дискуссиями был явный переизбыток...
– В принципе, дискуссия любого рода не вредна, это фактор развития науки. Какая острая полемика разворачивалась, скажем, вокруг «суворовских» книг! Обратите внимание, интерес к событиям Великой Отечественной войны у нас в стране из-за этого заметно возрос. А что теперь? «Суворовские» дискуссии сошли на нет – интерес к автору «Ледокола» исчерпан. Хотя его книги и вышли огромными тиражами, но все они, в обгцем-то, повторяют друг друга, серьезной доказательной базы у него нет. Вот все и закончилось, тема полностью себя исчерпала.
–Так стоило ли когда-то копья ломать? Действительно, всякая дискуссия может принести пользу.
– Нет, пользу приносит именно научная дискуссия! А что качается многих дискуссий, которые идут сейчас в разных странах даже на самом высоком уровне, то уж очень они политизированы. Фактически выходят за рамки научных споров – это чисто политические дискуссии в контексте сегодняшнего развития событий. Вместо поиска истины события прошлого подгоняются под интересы определенных политических групп, партий и лидеров ряда стран. Эти дискуссии, конечно, мало конструктивны – более того, деструктивны. Поэтому, как мне кажется, очень правильна позиция руководства нашей страны: когда такие дискуссии навязываются, переводить их из сферы политики в сферу науки. И спокойно все рассматривать на историческом материале, сопоставляя аргументы и точки зрения. И если все делать так, то это будет полезно.
– Историческая наука строится на документальной основе. Могут ли в наше время быть найдены по-настоящему новые документы по Второй Мировой войне?
– Думаю, не исключается открытие даже очень важных документов. Во-первых, все-таки у нас недостаточно документов о процессе принятия решений. Всем известно, что решения часто принимались без составления документов. Сейчас у меня выходит книга «Канун трагедии. Сталин и международный кризис 1939-1941 годов». Построена она на архивных материалах, и я могу вам точно сказать, что в те годы многие решения по внешней политике принимались устно, узким кругом лиц – либо вообще согласовывались по телефону Протоколов очень мало. Хотя есть мифология, что такое-то заседание Политбюро якобы состоялось тогда-то, потом – тогда-то, но это все неустановленные факты...
– То есть какие-то документы, записи об этих событиях еще могут быть обнаружены?
– Не исключено, так что процесс принятия решений остается очень существенной темой. Как и где, если говорить о нашей стране, происходили эти совещания, какие решения на них принимались? Это касается и внутренних вопросов. Например, оценивались ли где-то первые итоги войны? По документам я не видел нигде, чтобы было совещание у Сталина или в ГКО или еще где-то по неудачам первого периода войны. Или вот международные вопросы – крайне необходимы документы о том, как оценивались, намечались какие-то меры в области взаимоотношений с союзниками...
– Где же все это может быть, как вы считаете?
– Может быть, что-то отложилось в архиве Президента. В архиве Сталина этого нет, но архив Сталина, который входит в Государственный архив современной политической истории, он все-таки выхолощенный, неполный... Архив Политбюро – очень краткий, там по всем заседаниям только «слушали – постановили», и все! А как слушали, какие были точки зрения, какие мнения? В общем, это один пласт вопросов. Второй связан с документами, касающимися наших союзников, – их архивов, переговоров, которые ими велись.
– Они тоже не очень доступны для исследователей?
– Ну, скажем, есть и доступные материалы заседаний британского Кабинета, но по Соединенным Штатам – гораздо меньше. Вот это – второй пласт. Третий – тот, что начали сейчас все больше раскрывать, – это разведка в годы войны. Недавно в Лондоне состоялась большая конференция, и на ней были представлены новые, неизвестные ранее документы. Разведка – очень интересная тема!
– К сожалению, по многим причинам, полностью ее не раскроют никогда...
– Да, и есть еще просто тайны войны, которые тоже открывать не спешат. Вроде, скажем, визита Рудольфа Гесса в Англию. Основные материалы, конечно, закрыты в Англии – но, может быть, что-то можно поискать? Очень серьезный, интересный вопрос – взаимоотношения нашего руководства с польским правительством в Лондоне, с другими эмигрантскими правительствами. Не до конца прояснен вопрос, связанный с польским восстанием 1944 года... Есть еще очень много вопросов, по которым, я думаю, впереди еще могут быть открытия.
– Но почему же нередко остаются засекреченными документы, особенной тайны не содержащие, вреда никому причинить не могущие?
– Сложность в том, что у нас чрезвычайно медленно производится процесс рассекречивания. Нельзя сказать, что он не идет – он идет, но столь медленно и так затянут, что, мне кажется, превратился в серьезную государственную проблему, которая требует скорейшего решения. Это, кстати, даже подрывает доверие к нашей исследовательской работе – ведь мы не можем раскрыть документы, в которых нет каких-то особых секретов.
– Почему же так получается?
– У нас исторически так сложилось, что засекречен весь пласт документов. Весь, понимаете? Вот, как пример – секретные решения, принятые на каком-то заседании Секретариата ЦК КПСС. Но что на этом заседании обсуждалось? Не только какие-то действительно важные вопросы, но и выделение, допустим, сверхнормативных материалов для какого-то там завода. И на всех этих решениях стоит гриф «Секретно». До сих пор нет такой практики, чтобы из этой серии документов одни отложить и оставить под грифом, а другие – рассекретить.
– С вашей точки зрения, что в этом направлении следует сделать прежде всего?
– Мне кажется – это не с моей точки зрения, а в интересах государства – необходимо выделить какие-то спорные, дискуссионные, важные и актуальные в научном и политическом отношении вопросы и ускорить рассекречивание, связанных с ними документов.
– Например?
– Например – деятельность националистических организаций на Украине. Это очень острый вопрос, это один из камей преткновения в наших отношениях украинскими историками. Они всецело оправдывают деятельность УПА, мы представляем ее исключительно негативной. Но ведь она действительно имела разные этапы, имела разные цели и различные средства их реализации... Поэтому открытие таких архивов было бы очень полезно.
– В общем, перед историками Второй мировой и Великой Отечественной войны открываются большие перспективы. Но рассчитывать найти документы, которые перевернули бы наши представления о войне, не приходится.
– Мне кажется, что нет. Мне не видятся такие принципиальные вопросы, которые бы в корне изменили оценку тех или иных этапов, крупных, эпохальных событий. Более-менее это все уже известно.








