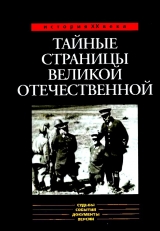
Текст книги "Тайные страницы Великой Отечественной"
Автор книги: Александр Бондаренко
Соавторы: Николай Ефимов
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Заседание десятое: «Ставка – Победа»
Историческая справка:
«Государственный комитет обороны {ГКО) – чрезвычайный высший государственный орган СССР в период Великой Отечественной войны. Образован совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 30 июня 1941 г. в составе: И. В. Сталин (председатель), В. М. Молотов (зам. пред.), К. Е Ворошилов, В. М. Маленков, Л. П. Берия.
В феврале 1942 г. в состав ГКО дополнительно введены
А. И. Микоян, Н. А. Вознесенский, Л. М. Каганович. В ноябре 1944 г. вместо К. Е. Ворошилова включен Н. А. Булганин.
Военно-стратегическое руководство вооруженной борьбой ГКО осуществлял через Ставку Верховного главнокомандования».
Военная энциклопедия, т. 2. М., 1 994.
«Ставка Верховного главнокомандования—высший орган стратегического руководства Вооруженными силами СССР в войне. Образована постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1941 г., первоначально именовалась Ставкой Главного командования. Состав: С. К. Тимошенко (председатель), К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, И. В. Сталин, Г. К. Жуков, С. М. Буденный, Н. Г. Кузнецов.
10 июля 1941 г. преобразована в Ставку Верховного командования, ее возглавил И. В. Сталин, в ее состав введен Б. М. Шапошников. С 8 августа 1941 г. И. В. Сталин назначен Верховным главнокомандующим и с этого времени Ставка стала именоваться Ставкой Верховного главнокомандования.
17 февраля 1945 г. ГКО определил следующий состав Ставки ВГК: И. В. Сталин, Г. К. Жуков, А. М. Василевский, А. И. Антонов, Н. А. Булганин, Н. Г. Кузнецов».
Энциклопедия «Великая Отечественная война», М., 1985.
Вопросы организации и осуществления высшего государственного и военно-стратегического руководства СССР в 1941-1945 годах в той или иной степени обсуждались на каждом из заседаний «круглого стола» «Красной звезды», посвященного событиям Великой Отечественной войны, и каждый раз участники дискуссии говорили о том, что данной теме следует посвятить отдельное заседание. Наконец, на заседании 23 февраля 2005 года его участники – В. А. Кирпиченко, Б. Н. Лабусов, В. Н. Лобов, М. Ю. Мягков, Б. И. Невзоров, Ю. А. Никифоров, С. А. Тюшкевич, Д. Б. Хазанов и А. А. Чурилин – обратились непосредственно к работе Государственного комитета обороны и Ставки Верховного главнокомандования.
ЛОБОВ: На мой взгляд, это самая сложная тема из всех, которые мы обсуждали... Ведь здесь – вся организация жизни страны, ее Вооруженных сил в том необычном режиме, который называется «война». Кстати, само понятие «война» – оно на сегодняшний день крайне неконкретное, совершенно необоснованное.
– Ну, до недавнего времени мы опирались на слова Ленина, несколько переформулировавшего Клаузевица: «Война это продолжение политики средствами вооруженного насилия».
ЛОБОВ: Это искаженная формула Клаузевица! Его ведь сначала перевели на французский язык, а с французского – на русский. Когда сравниваешь тексты, то видишь, что там все перемешано! У Клаузевица сказано, что война – это продолжение государственной политики иными средствами. Подчеркиваю: государственной! На вопрос, кто готовит войну, нападение, Клаузевиц отвечал: «Государство». И отражает нападение тоже государство, с его аппаратом. Ленин, когда прочитал Клаузевица, написал на полях: «А что же такое политика?» И только потом, уже через несколько лет, он дал определение, что это – сконцентрированное выражение экономики. Еще позже он сформулировал, что это – отношения между классами, народами, государствами. Тогда-то и появилась формула, что война – это продолжение политики иными средствами.
ЧУРИЛИН: Действительно, сегодня очень важно определиться, что же это такое – война? Скажем, применительно к Первой мировой войне это понятно. Но вот наша страна прошла через длительный период «холодной войны», когда мы испытывали разного рода нажимы, давления, военные провокации и даже вторжение на нашу территорию. Это тоже была очень рискованная ситуация, которая требовала исключительно эффективной работы всего госаппарата, чтобы не допустить перерастания отдельного инцидента в большую войну... А сейчас появляются качественно новые средства воздействия на огромные массы людей.
ТЮШКЕВИЧ: Война как явление, – в особенности после Французской революции – все больше и больше становится состоянием всего общества. Мы сейчас говорим, что «война это особое, специфическое состояние всего общества»...
ЛОБОВ: Прежде всего, война – явление обоюдное. В ней в обязательном порядке участвуют две стороны, объединенные совместными боевыми действиями, в которых соприкасаются люди, техника, вооружение, идет их взаимное перемалывание. Но в боевых действиях концентрируется только часть жизни, которая продолжается и слева, и справа от линии соприкосновения. Ведь и во время войны рождаются дети, ходят в школу, в институт; во время войны добываются руда и нефть, производятся сталь, чугун и бензин, работает сельское хозяйство, живет наука... То есть война – это жизнь в специфических условиях.
ТЮШКЕВИЧ: В нашей военной теории есть определенные понятия: тип войны и вид войны. Понятие «тип войны» охватывает двусторонний процесс, это война между государствами или коалициями. «Вид войны» – это мы обозначаем одну сторону. Например: «Великая Отечественная война Советского Союза». При этом мы подразумеваем, что другой вид войны – это та война, которую фашистская Германии вела против СССР.
– Можно считать, что с понятием войны мы несколько разобрались. А кто руководит войной как таковой и кто непосредственно руководит боевыми действиями – в глобальном, разумеется, масштабе?
ЛОБОВ: Давайте, опять-таки, сделаем экскурс в историю. 1812 год. Тогда войной – вернее, жизнью страны во время войны, – руководили императоры. С одной стороны – Наполеон, с другой – Александр. Никаких специфических органов управления в масштабе государства не создавалось, всю ответственность нес государь. Для руководства боевыми действиями в России были назначаемы главнокомандующие – не всеми вооруженными силами, а именно теми войсками, которые вели боевые действия.
– Да, Александр I определял стратегическую линию, а его планы претворяли в жизнь главнокомандующие армиями...
ЛОБОВ: Первая мировая война – масштабы уже совсем другие, ресурсы другие, так же как и силы, которые соприкасались во время войны, как и вся жизнь страны... Тогда уже пришли к выводу, что нужен определенный орган, который бы разбирался в боевых действиях, но в то же самое время не упускал из вида и все государственные дела. Поэтому была образована Ставка Верховного главнокомандующего. Верховным сначала был двоюродный брат царя великий князь Николай Николаевич (Младший), потом он сам... Образовался такой орган, такая сила, которая концентрировала всю экономическую, политическую и, естественно, военную мощь государства – а потом применяла ее в боевых соприкосновениях.
– То есть при создании органов верховного управления во время Великой Отечественной войны советское руководство обратилось к опыту руководства Российской империи?
ЧУРИЛИН: Я думаю, что опыт Первой мировой войны в отношении создания единого и масштабного центра, охватывающего все области жизнедеятельности государства, не был в полной мере усвоен. Он и не мог быть усвоен, потому что в 1914 году Россия была государством, качественно отличавшимся от того, каким был СССР в 1941 году. Россия, несмотря на огромные физические возможности, была, видимо, наиболее слабой и наименее управляемой страной из всех государств Антанты, что проявилось в событиях 1916 и, особенно, 1917 годов. Зато Советский Союз обладал развитой промышленностью, огромными Вооруженными силами, очень мощной системой государственного управления...
ЛОБОВ: В Великой Отечественной войне этот опыт был продолжен, но Ставка, которая образовывалась, или Верховное главнокомандование при тех масштабах – ну и определенная политическая специфика была – теперь уже не могли руководить страной. Пришли к выводу, что надо создавать специальный орган, который бы руководил жизнью СССР во время войны. И ГКО руководил не только обороной, но и всей жизнью страны – всеми ее составляющими. А для руководства боевыми действиями была образована Ставка ВГК, которая занималась теми вооруженными силами, которые участвовали в боевых действиях. То есть Ставка в руководство страной никоим образом не вмешивалась.
ТЮШКЕВИЧ: Система руководства войной, включающая в себя две стороны – руководство всеми общественными и государственными организациями и непосредственно военными действиями, – возникла в особых условиях. Внезапностью нападения объясняется тот факт, что не были проработаны теоретические вопросы: вначале была создана Ставка Верховного командования, и Сталин был просто членом Ставки...
ЧУРИЛИН: Не надо забывать, что у нас была огромная бюрократическая машина, работавшая, как часы, – ЦК партии. Вот она-то и была тем рабочим колесом, вокруг которого все крутилось как в 41-м, так и в последующих годах.
ЛОБОВ: Да, у нас были и ЦК, и СНК, и наркоматы. Еще был Главный военный совет, который возглавлял нарком обороны. Структура существовала и работала еще перед войной.
КИРПИЧЕНКО: Если попытаться ответить на главный вопрос, насколько эффективным было руководство государством и военными действиями во время войны, то ответ дает сам факт нашей Победы. И то, что во время войны экономика страны работала активно, – это факт: закончилось перевооружение армии, наша армия получила превосходящие противника по ряду позиций самолеты, танки, артиллерию... Но я хотел бы подчеркнуть, что эта эффективность была достигнута в ходе самой войны, а не за счет того, что мы хорошо к ней подготовились.
ЧУРИЛИН: У меня складывается впечатление, что помимо субъективных моментов, характерных для 1930-х и даже 40-го года, очень существенным моментом действительно был вопрос о слабости нашей теоретической подготовки. В том, что касается теоретической разработки проблем начального периода войны, не только у наших военных теоретиков, но и у специалистов в области административного управления были большие недоработки.
ТЮШКЕВИЧ: Действительно, накануне войны достаточной теоретической разработки вопросов руководства войной и военными действиями сделано не было...
– Сакраментальный русский вопрос: «Кто виноват?».
ЧУРИЛИН: Думаю, что в какой-то мере эта теоретическая недоработка была вызвана тем, что до войны, на протяжении десятилетий, Советский Союз жил в полной политической изоляции. Было неясно, каким будет для нас конфликт. Ну, в общем плане было ясно, что это будет классовый конфликт между странами, принадлежащими к разным социально-политическим структурам. Но... с кем? С Японией, с Китаем, с басмачами, с финнами? И какой будет его масштаб? Если это будет война, скажем, с северного направления – с англичанами или с кем-то еще, кто будет воевать с нами через Финляндию, это одно развитие событий. Если это будет крупномасштабное наступление через Польшу – другое. В этой обстановке неопределенности было трудно выработать четкий алгоритм, который отвечал бы на все возможные варианты событий.
Наверное, о том, какой станет настоящая война, или боялись думать, или не могли представить ни масштаба, ни драматизма событий – у меня такое ощущение. Эта неясность накладывала отпечаток на то, каким образом представлялась структура управления. Я думаю, что появление в начале войны трех командных центров в какой-то степени отражало эту неопределенность.
ТЮШКЕВИЧ: Хотя, конечно, образование трех направлений сыграло определенную роль – могу сказать об этом по своим воспоминаниям, по Ленинграду, поскольку был тогда в народном ополчении. Но с точки зрения эффективности руководства оно себя не оправдало – у них не было ни необходимых органов, ни средств, – и вскоре эта система направлений была упразднена...
МЯГКОВ: На мой взгляд, власти непосредственно перед войной не хватило твердости в принятии определенных политических решений. Необходимо было готовить страну непосредственно к тем или иным действиям. Но было колебание – может быть, войну удастся оттянуть. Может быть, она будет вначале не с нами. Может быть, это будет 42-й год, а может быть – 43-й...
ЧУРИЛИН: Действительно, у многих в Москве была иллюзия, что все, что делается в Германии – это подготовка к крупномасштабным акциям против Англии. Из Германии и из Великобритании приходило много информации в том плане, что пока Гитлер не разделается с Англией, он не будет готов к военным действиям на востоке. И действительно, предвоенные военно-политические события показывали, что у немцев очень велик интерес к борьбе с англичанами – скажем, та же эпопея с уничтожением линкора «Бисмарк», которую сейчас как-то все забыли, а ведь тогда это было огромное событие... Десантная операция на Крите тоже, между прочим, в первую очередь была направлена против Англии.
ТЮШКЕВИЧ: Добавлю, что у нас тогда на стратегическом и других уровнях недостаточно рассматривался вопрос о соотношении между обороной и наступлением. Полевой устав 1939 года гласил: «В том случае, если Советский Союз подвергнется агрессии, то Красная армия будет самой наступающей армией в мире, и она ответит на удар...» Исходя из этого положения, наша пропаганда декларировала, что мы не будем долго отражать удар противника, а вскоре перейдем в наступление... Кстати, когда говорят, что СССР готовил превентивный удар, то берут вторую часть формулы:«...Красная армия будет самой наступающей», отбрасывая первую ее часть: «В том случае, если СССР подвергнется агрессии...».
НЕВЗОРОВ: Большой вопрос был относительно мобилизационной подготовки населения. В предвоенные годы у нас призывной контингент составлял примерно 900 тысяч человек, а призывалось ежегодно около 300 тысяч. Т. е. порядка 600 тысяч каждый год оставались не охваченными военной подготовкой, что за 15 лет составило где-то более 10-11 миллионов человек. За летнюю/осеннюю кампанию 1941 года мы фактически потеряли нашу предвоенную армию, и когда непрерывно шло формирование новых подразделений, частей и соединений, оказывалось, что маршевое пополнение совершенно неподготовлено. Они даже не знали устройства винтовки...
ЧУРИЛИН: Вспомним всем известный случай, когда в ГКО обсуждался вопрос: а где подготовлен командный пункт для Ставки Верховного главнокомандования? Никто раньше даже не подумал, что может потребоваться такой командный пункт – со всеми системами управления, защищенностью, с охраной...
НЕВЗОРОВ: Предусматривалось, что наше командование будет управлять Вооруженными силами с рабочих мест Наркомата обороны, Генштаба. Но получилось, что как только начались налеты на Москву, офицеры оперативного управления брали документы и ехали в метро «Белорусская», где им отвели половину подземного зала; вторая половина заполнялась москвичами – женщинами, детьми... Вопрос оказался непродуманным: не было даже Центрального командного пункта, и это, безусловно, сказывалось на вопросах управления войсками
ЛОБОВ: Позвольте, а как быть с Куйбышевым, где были заранее подготовлены не только командный пункт, но и места для всего правительства? А КП на Чистых прудах, откуда Сталин управлял даже отражениями налетов авиации на Москву? Можно съездить в Измайлово, там есть стадион, а под ним, на глубине 20 метров, – запасный железобетонный КП. Кабинет Сталина, места для работы всех, так сказать, органов управления... Этого нигде не прочитаешь, а реально – есть! Мне там приходилось бывать – и по долгу службы, и ради любопытства.
– Извините, Владимир Николаевич, а мы сейчас не раскрываем конфиденциальную информацию?
ЛОБОВ: Нет, в Измайлове сейчас все открыли – можно прийти и в кабинет Сталина; в одном из крыльев КП сделали музей Железной дивизии, а там, где был зал, – ресторан... А теперь давайте говорить: было подготовлено или нет? Было продуманно или нет?
ЧУРИЛИН: Но почему же в мемуарах Штеменко рассказывается, о том, как спохватились, где же подготовлен КП для Ставки, и выяснили, что нигде не подготовлен?
ЛОБОВ: Может быть, в то время нельзя было об этом писать?
НИКИФОРОВ: Мемуары наших военачальников создавались под воздействием XX съезда и принятых на нем решений, а потому многие вопросы так и остались не изучены. Нужны источниковедческие работы, которые позволили бы посмотреть, какое и на кого лично оказывалось давление по поводу того, что писать и что не писать. Но эта работа еще впереди...
– Помню, на одном из наших заседаний генерал Кирпиченко говорил, что мемуарная литература в разведке за официальные документы не считается – из-за своего субъективизма...
НИКИФОРОВ: Да, к сожалению, в этой литературе часто встречается подход, который можно характеризовать как «ведомственный», когда те или иные решения, принимаемые на самом верху, оцениваются с определенной, заинтересованной точки зрения. Так что если историк прежде всего опирается на военно-мемуарную литературу, то он попадает в зависимость от тех оценок и интерпретаций, которые давали наши полководцы после войны. Это приводит к зауживанию взгляда.
ЧУРИЛИН: Хотя многие вопросы той поры решались в сугубо устном порядке, и, к сожалению, в других источниках этой информации не найти...
– Насколько же освещены интересующие нас вопросы в серьезной исторической литературе?
ЛОБОВ: О ГКО написано вроде бы много, но везде – одно и то же, причем, к великому сожалению, формы и методы его работы фактически нигде не обозначатся. А ведь в состав ГКО входило много структур, чтобы охватить всю жизнь страны. Деятельность Ставки более раскрыта, на нее ссылаются очень много...
НИКИФОРОВ: Действительно, из-за отсутствия литературы многие важнейшие проблемы до сих пор остаются неисследованными.
ХАЗАНОВ: Кстати, а чем отличались наши органы государственного управления во время войны от наших союзников – США и Великобритании. Что нас объединяло и что разделяло?
МЯГКОВ: Безусловно, механически сравнивать нас с Германией, равно как и с Соединенными Штатами Америки и Великобританией, нельзя – совершенно разные страны, разный потенциал. К тому же мы оказались в разных условиях... А если бы война велась на территории США? Как бы там строились органы высшего управления? Вот, сейчас много критики, что очень многое у нас замыкалось на Верховном главнокомандующем, на председателе ГКО, на наркоме обороны – в общем, на Сталине. Но ведь стремление к централизации в такой глобальной войне, каковой была Вторая мировая, в равной мере была присуща всем странам, в ней участвовавшим. Даже в США – самом, что называется, свободном и демократическом государстве Антигитлеровской коалиции, все важнейшие вопросы жизни страны, ведения военных действий так или иначе замыкались на президенте Рузвельте. Хотя был Объединенный комитет начальников штабов США и Великобритании, был Комитет начальников штабов США и орган руководства операциями непосредственно на Европейском ТВД, где был главнокомандующий экспедиционными силами Эйзенхауэр...
ХАЗАНОВ: А вот в Германии ставки как таковой не было до самого конца войны. Ставка была только там, где находился Гитлер – в Восточной Пруссии, на Украине...
– То есть наша система государственного и военного управления была более эффективной, чем у противника?
ЧУРИЛИН: Конечно, и это убедительно доказывает наша Победа. Но учтите, что тот орган, который сразу бы эффективно взял под контроль управление страной в условиях военной ситуации, в нашу систему государственного управления встроен не был. Потребовалось какое-то время, чтобы создать Ставку, ГКО,
КИРПИЧЕНКО: Те уроки, которые мы вынесли из Гражданской войны в Испании и из Финской войны, мы усвоить не успели – у нас было недостаточно времени, чтобы подготовиться к новой войне... Хотя было высокое сознание у народа и у руководителей, была военная дисциплина на всех уровнях... Но я бы хотел сказать о недостатках руководства страной на примере нашего ведомства, потому как аналогичные ошибки в большинстве случаев имели место и в других структурах.
Во-первых, в 1937-1938 годах в разведке было репрессировано или уволено около сорока процентов сотрудников. Она была крайне ослаблена: в наших резидентурах, причем, очень важных, работало по два-три работника, а иногда даже по одному... Но раз в разведке обнаружились «враги народа», то, следовательно, и агентура, которую они привлекли в свое время, считалась ненадежной. Было недоверие и к собственным источникам. И в разведке МГБ, и в военной разведке была чехарда с руководящим составом – у нас, например, были случаи, когда по несколько месяцев некому было подписывать бумаги для доклада в ЦК ВКП(б). То есть репрессии отразились на подготовке страны к войне пагубным образом.
ЧУРИЛИН: Я бы добавил уже на нашем примере: не только из-за отсутствия высококвалифицированных дипломатов, но и из-за специфических нравов, которые были в то время в руководящей среде, политические вопросы решались только на самом высоком или очень высоком уровне. Повседневной политической работе, на мой взгляд, не уделялось должного внимания – то, что должны делать работники посольств на оперативном уровне, делалось на уровне послов, заместителей наркома и даже наркомов. Это, конечно, сужало возможность понимания развития ситуации, делало ее в значительной степени субъективной, завязанной на понимании только тех, кто этим занимался. Поэтому совершенно неверно был истолкован известный разговор Шуленберга с Деканозовым – предупреждение германского посла было воспринято не как личные его действия, а как предупреждение со стороны Германии, попытка шантажировать наше руководство.
КИРПИЧЕНКО: Отмечу, что в предвоенное время и в последние дни перед войной была тенденциозность в докладе информации. Это, опять-таки, относилось как к ГРУ, так и к внешнеполитической разведке. Все исходили из того, что мыслил о войне с Германией и о том, когда она будет, Сталин, – под это некоторые руководители подделывались и не всю информацию посылали.
– А что, разве разведслужбы были обязаны представлять абсолютно всю имеющуюся у них информацию?
КИРПИЧЕНКО: Так ведь ни в разведке, ни вообще в Наркомате госбезопасности не было ни одного информационно-аналитического подразделения. Исходя из этой схемы, мудрые люди были только в Политбюро: им информация направлялась в «живом» виде, и они сами решали, что – правда, что – неправда и что нужно делать. Потока информации, каких-то сводок, которые свидетельствовали бы о подготовке Германии к войне, не было, поскольку некому их было писать – структуры такой не было. Это, конечно, упущение руководства страны, отсутствие опыта государственного управления.
– Но если обратиться к мемуарам – уж извините после всего ранее сказанного! – руководителей гитлеровских спецслужб, то можно узнать, что и у них не было информационно-аналитических подразделений, и фюреру также докладывали всю информацию. Может быть, тогдашние режимы просто не доверяли спецслужбам?
КИРПИЧЕНКО: Мне кажется, что наше руководство недостаточно уделяло внимания разведке. Скажем, центральный аппарат нашей службы составлял по штату немногим более сотни человек. Это смешно – с таким малочисленным аппаратом вести разведку против фашистской Германии! И статус ее был низкий: разведка представляла собой отдел, который входил в другие структуры... К сожалению, те недостатки, о которых мы сейчас говорим, в большой степени были свойственны и другим направлениям жизни и деятельности нашего государства.
ЧУРИЛИН: Абсолютно верно – в МИДе тоже отсутствии аналитические структуры, что давало возможность конкретным лицам как угодно истолковывать попадавшую к ним информацию. И очень часто информация, имевшая исключительное значение, бывала неверно истолкована. Посол мог получить довольно жесткую – иногда, справедливую, а иногда совершенно несправедливую – критику за ту информацию, которую он присылал. Как видите, с подобной проблемой сталкивались и у нас в ведомстве, и чекисты, и в Генеральном штабе.
– Но и в этих условиях настоящие советские патриоты продолжали самоотверженно выполнять свои обязанности на любом порученном им посту...
ЧУРИЛИН: Да, и я думаю, что во внешнеполитическом аспекте подготовки к войне это достаточно хорошо просматривается. Ведь, собственно говоря, до самых первых сражений Великой Отечественной войны наша дипломатия активно пыталась завязать диалог с западниками, продолжался очень сложный разговор с немцами... К сожалению, в тех условиях внешнеполитическая структура оказывалась как бы в подыгрывающих – она не имела самостоятельной роли и не участвовала в формировании внешнеполитической стратегии государства в той степени, как была бы должна.
НИКИФОРОВ: А можно ли достаточно хорошо подготовится к войне заранее? И что это значит – «достаточно хорошо»? Можно ли все предусмотреть? Думаю, что нет. Тем более что Германия, взяв на себя инициативу развязывания военных действий, уже одним этим поставила наше руководство, военное командование, армию в невыгодную позицию – не надо объяснять, почему это так.
Другой вопрос: сумело ли наше руководство – и военное, и политическое, – адекватно реагировать, сумела ли система в целом перестроиться и проявить достаточные гибкость и творчество? Каков был творческий потенциал нашей системы, позволявший совершенствовать руководство военными действиями, а не наступать всю войну на одни и те же грабли?
ХАЗАНОВ: Действительно, говорят, о первой неготовности, а мне кажется, что наоборот. Может быть, за исключением самых первых дней войны...
МЯГКОВ: Может быть, месяцев?
ХАЗАНОВ: Нет, не месяцев, потому что к войне готовились, что она будет – знали. Ну, пытались оттянуть, было действительно у Сталина такое представление, что Гитлер не сможет на нас напасть до того, как он договорится с англичанами о мире. Нам надо было получить союзников – т. е. политические ситуации Сталин проигрывал для себя очень, мне кажется, правильно, и он никогда бы не мог согласиться на какие-то превентивные удары. Наверняка прорабатывались вопросы государственного управления на случай войны. Да, многие наркоматы были не готовы – думали, что, может быть, как-то удастся решить какие-то насущные проблемы, но вот война началась...
ЛОБОВ: Действительно, это очень интересный момент – для того чтобы создать ГКО и Ставку, стране потребовалось всего полтора месяца. Значит, на мой взгляд, эти вопросы были заранее продуманы. Нельзя вот так – взял и сразу сделал ГКО, да еще в условиях войны... Так что давайте подходить к этому вопросу чуть объективнее.
ХАЗАНОВ: Я думаю, что и первое потрясение произошло не от того, что Гитлер напал – буквально через неделю после начала войны стало ясно, как не готова наша армия, и вот именно с этим была связана растерянность и всё, о чем мы сейчас знаем.
НЕВЗОРОВ: Я не согласен, что наши Вооруженные силы были совершенно неподготовлены к войне – в целом, они были способны отразить наступление немецко-фашистских войск. Так и произошло там, где командиры соединений сумели привести войска в боевую готовность. Я имею ввиду, например, 41-ю стрелковую дивизию, в районе Рава-Русской. Перед 22 июня командир собрал всю дивизию в лагерь – под видом того, что ее будет проверять комиссия Генштаба; раздал боеприпасы, НЗ, ночью все легли спать, не снимая обмундирования. Когда началась война, дивизия заняла боевые порядки в Рава-Русском укрепрайоне, отразила первый удар, удерживала свои позиции до 27-го числа, сковав боем более четырех немецких дивизий, и даже перешла государственную границу с Польшей. Если бы все войска были своевременно приведены в боевую готовность, то война пошла бы по другому пути.
ТЮШКЕВИЧ: Я думаю, что эффективного диалектического взаимодействия политики и стратегии в начале войны все-таки не получилось. Сказались все те же просчеты и неподготовленность... Но ведь известно, что наши будущие союзники, США и Англия, руководствовались принципом: «Мы должны посмотреть, кто будет побеждать, и тогда будем определять свое отношение». То, что Красная армия не сделала первых выстрелов, обошлось нам очень дорого – но это было колоссальным выигрышем для СССР с точки зрения установления последующих союзнических отношений. Сначала в Англии, потом в США увидели, что сами оказываются в очень тяжелом положении, и заявили о поддержке. Это, кстати, тоже наложило отпечаток на формирование наших органов руководства обществом и вооруженной борьбой.
НИКИФОРОВ: Кстати, это интересный вопрос – как связан ход вооруженной борьбы на советско-германском фронте с ходом наших переговоров на любом этапе с нашими союзниками? Хотя он и получил отражение в ряде трудов, но достаточно ли того, что мы об этом знаем, чтобы составить объективную картину? Мне кажется, что особенно по 1941-1942 годам есть резерв для изучения взаимосвязи тех или иных решений. Не зная того, исходя лишь с точки зрения военной целесообразности, какие-то решения, может быть, выглядят ошибочными и неадекватными.
ЛОБОВ: Конечно, это вопрос очень сложный – и выбор союзников, и вера в этих союзников, и вера в тех же немцев...
НИКИФОРОВ: По-моему, на 41-й год пора посмотреть с иной точки зрения, и хотелось бы перевернуть ситуацию с головы на ноги. Любая другая страна треснула бы от такого удара, план «Барбаросса» был бы реализован – и все! А получилось наоборот. Поэтому мы должны понять, как справились общество и государство с тем, что произошло, и говорить об эффективности в данном конкретном случае, а не о просчетах и не неудачах...
ХАЗАНОВ: План «Барбаросса» просчитывал первые четыре – шесть недель, его составители предполагали, что дальше органы государственного управления Советского Союза развалятся, в стране наступит коллапс. Этот план они строили по аналогии с планом войны против Франции. Но управление не рушилось, на фронт перебрасывались все новые и новые части... Шведский ученый – Салстрем, кажется, доказывал в своей диссертации, что если бы лидеры Германии знали, каким потенциалом обладал СССР накануне войны, то еще десять раз подумали бы, стоит ли нападать. Жесткая закрытость нашей страны подтолкнула Гитлера к войне – он нас недооценил. Подобная недооценка характерна для немцев и впоследствии: так, уже в 1943 году они считали, что наши ресурсы исчерпаны и конец войне близок...
– Ив первую очередь, очевидно, они недооценили именно систему нашего государственного управления?
ХАЗАНОВ: Конечно! Именно в этих условиях она оказалась очень эффективной. Мне довелось беседовать с директором одного из наших крупных оборонных заводов – он говорил, что сейчас даже трудно себе представить, что такое эвакуация и какими масштабными, глобальными категориями приходилось мыслить. Это же не просто механически переставить куда-то какой-то завод. Нужно было знать, откуда будут поступать электроэнергия, сырье, древесина, каким потоком будут идти на фронт и обратно эшелоны – и все это следовало просчитывать буквально мгновенно. Конечно, какие-то ошибки были, но в целом наша страна показала себя очень хорошо управляемой – именно с точки зрения единого механизма.








