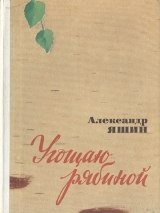
Текст книги "Угощаю рябиной (сборник)"
Автор книги: Александр Яшин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Павлу приснился страшный сон с участием всех главных нечистых сил сразу, от страха он дико закричал и проснулся, когда простыня была уже основательно подмочена. Страх сменился стыдом, поэтому Павел продолжал кричать и визжать даже после того, как проснулся, затем упал с кровати и забился в истерике на полу. Повскакавшие спросонок соседи попытались его поднять с полу, но парень стал драться, и они робко топтались вокруг, не зная, чему верить, чему нет и что они обязаны делать в таких случаях.
Разбуженная воплем няни старушка врач, не зная, к кому ее зовут среди ночи, кто умирает, разволновалась больше, чем ей было положено, с трудом и кое-как оделась и почти бегом кинулась через весь парк в главный корпус. Поднявшись на второй этаж гораздо быстрее, чем ей самой разрешалось по состоянию здоровья, и увидев на полу ругающегося и хрипящего Мамыкина, она сразу заподозрила симуляцию. Гнев отнял последние силы у ее больного сердца, и срочная помощь потребовалась ей самой.
* * *
Голова у Павла действительно побаливала, но не так сильно и не так часто, как он любил об этом говорить. Через месяц, вернувшись домой, он сказал о головной боли бабушке и еще о том, что у него время от времени покалывает в боку, и есть кашель, и опять бывает насморк, и бабушка не отпустила его в город на ученье, а принялась лечить по-своему.
В избу затащили деревянный бук – кадку почти в рост человека, в которой можно и пиво варить, и белье бучить, и поставили между печным челом и кухонной заборкой. Павел сам носил с колодца воду, а бабушка кипятила ее в чугунах и в самоваре и сливала в кадку. Кадку она прикрыла половиками и полушубками в несколько слоев.
– В этом чане, Пашута, – говорила она, – я не раз твоего батьку лечила. И дедушку лечила. Приедет, бывало, дед из лесу, из деляны, в страшный мороз або со сплава, ледяной насквозь, что тебе кашель, что хрипота в грудях, и горлом глотать не может, а я его в баню, в вольный дух. Парю день, парю два – у самой сил уж нет, а немочь из него никак не выпарю. Ну тогда сажаю его в чан, на бук, да и кипячу под ним воду, а потом дам выпить стаканчик-другой перегару або водки – все немочи как рукой сымает. Да что немочи – любая лихоманка от такого пользования не устоит. Каюсь, грешная, матерь твою лечила не тем, надо бы и ее на бук посадить сразу, ни одного пупыша на теле не осталось бы. Опоздала я, окаянная! Все пупыши у нее были от простуды, простуду каменьями выпаривать надо – люди дольше жить будут. Вот сейчас я тебя попользую, ты уж на меня надейся.
В печи, в березовом жару, камни доходили до белого каленья – не один десяток булыжников. Бери их, шипящие, вилами по паре и стряхивай в кипяток на дно кадки, чтобы заклокотало, забурлило, чтобы пар приподнимал над головой болящего половики и овчины.
Бабушка заранее поставила в кадку высокую табуретку и придирчиво осмотрела, высоко ли она стоит над водой, – не дай бог обжечь парня, когда вода закипит.
Павел не раз слыхал, как лечат людей на пару, и относился к бабушкиному колдовству с полным доверием.
– Полезай, Павлуша! – сказала она наконец, заглянув в печь и убедившись, что камни достаточно раскалены. – Раздевайся!
Павел разделся за печкой догола и, стыдливо прикрываясь, пододвинул скамейку к кадке, чтобы забраться в нее.
– Будто газовая камера, бабушка.
– Какая такая?
– Ну, душегубка.
– Ты, соколик, неладно сделал. Подштанники надень на себя и рубаху нижнюю не сымай, брызгать будет. Да ноги под себя на табуретке подожми. И дыши паром, первое дело – дыши паром. Пар, он от всех недугов пользителен.
– Ладно, бабушка!
Когда Павел с головой укрылся в кадке, старуха достала с верхней полки-поднебицы глиняный горшок с мелко нарезанной вяленой травой вроде крапивы и темно-зелеными шишками хмеля, высыпала содержимое на белую тряпицу, посолила для силы, старательно перемешала, что-то шепча, и, оглянувшись, не следит ли за ней внучек-безбожник, перекрестила и стряхнула все это к нему под ноги в кадку. Затем она выгребла из печи клюкой румяный, в искрах, ставший почти прозрачным камень и, накрепко зажав его угольными щипцами, перенесла и опустила в воду под ноги Павлу.
– Держись, Павлуша! Блаослови, осподи!
Павел испуганно сжался, сдвинулся в сторону. Камень словно бы взорвался под ним, вода раздалась, сердито заклокотала, белый пар повалил клубами. Бабушка наглухо закрыла кадку. Второй камень обдал жаром лицо и босые ноги Павла, ему стало страшно – вдруг каленый орешек упадет на колени или просто коснется тела. Не успеешь закричать, а бабка замурует тебя – и все. И ничего не будет слышно в этом клокотании – ни стопа, ни рева.
Вот опять на мгновение появился просвет над головой, мелькнуло в тумане красное лицо старухи, и новое ядро взорвалось под ним. И снова он один в темноте, в жаре, как в кратере вулкана, как на сковороде у сатаны. А бомбардировка продолжается, а жар увеличивается, дышать все труднее.
– Доведу я каменья, – шепчет бабка, – до белого каленья, чтоб от пара, от жара простуда сбежала, чтоб от белого тела вся хворь отлетела...
Павел почувствовал себя маленьким и беззащитным.
– Баушка!
– Сиди, Пашута, не бойся. Вот я еще!..
– Баушка!
– Сиди, сиди, пущай пар до костей достигнет. Жарко тебе?
– Дых... дышать!
А половики и полушубки над головой опять сомкнулись. И Павел, теряя силы, исходил потом не столько от жары, сколько от страха.
– Бабка!
– Сейчас, сейчас, добавлю. Ты о хорошем думай, очищайся!
Павел слышит это, но думать ни о чем не может. В сознании мелькают только обрывки каких-то давних видений – лесные пожары в хвойных зарослях, зайцы и белки, бегущие к реке, красные птицы, косяками мечущиеся в небе, грозовая молния, однажды расколовшая колодезный журавель, изба, загоревшаяся посреди деревни, – в тот летний страшный день пламя смело половину посада и почти все поле спелой сухой ржи, прилегавшее к гумнам со стороны леса.
– Ба-абка!
– Сиди, говорят тебе. О хорошем думай!
Вода клокочет под табуреткой, вот-вот ключи коснутся скрещенных поджатых ног. Вскочить бы, поднять головой крышку, выбить дно и выйти вон! А вдруг качнешься неосторожно и табуретка подвернется, упадет набок. Или приподымешь голову, а бабка в этот миг сунется с камнем, – она торопится, – и сослепу да впопыхах ткнет тебе огнем прямо в лицо либо уронит красное ядро на плечо, на колени. Уф! "О хорошем думай!" О чем о хорошем? В сосновом бору, в доме отдыха дышалось легко и свободно. Главное в жизни – дышать. Дохнуть бы! Скоро ли она?
– Скоро ли, баушка?
– Сейчас подбавлю. Потерпи! Все как рукой сымет.
Павел не потерял сознания, но если бы бабушка не оказалась такой проворной, не вылезть бы ему из кадки, не забраться бы на печь, не укрыться. Нижнее белье, мокрое до нитки, облегло его тело, приклеилось; но будь он сейчас совсем голый, окажись в избе все деревенские девушки, он все равно не испытал бы уже никакого стыда – не до стыда было.
– Блаослови, осподи! – шептала бабушка, укладывая его на печи. – Уйди, хворь-хвороба, из костей хлебороба, из суставов, из жил, чтобы не ныла утроба, не скудался б до гроба, не хирел, не тужил. Руки, ноги покинь, не держись цепко. Слово мое крепко. Аминь!
Пар валил из кадки сквозь половики, в избе стояла духота, окна запотели, Павлу все еще трудно было дышать. Полегчало только, когда бабка влила ему в рот стакан самогона, крепкого, вонючего, живительного.
Через час-полтора прибежала Нюрка. Лицо ее было бледно, глаза расширены. Откуда она узнала и что – никто бы не сказал. Ни бабка Анисья, ни сам Павел никому ни слова не говорили о предстоявшем лечении. А Нюрка что-то узнала. И хоть губы ее дрожали, она постаралась вымолвить первые свои слова от порога как можно спокойнее:
– Здравствуйте! Я просто так. Шла и зашла. Никакого дела нет.
Говорила она это, а глаза ее так и бегали и, казалось, кричали от страха, пока Нюрка не увидела на печи живого Павла.
– Ой, что это у вас? – спросила она, указывая на бук, из которого валил пар.
Все окна были еще в испарине, и на потолке висели светлые капельки воды, словно после большой стирки.
Бабка Анисья вытирала тряпкой пол около печи, где была рассыпана зола и валялись мелкие угольки.
– Да вот Павлушу пользовала, – сказала она. – Лечили его там, на городах, лечили, а толку, гляжу, все мало. Дай, думаю, сама возьмусь, поставлю его на ноги, або всю жизнь будет скудаться здоровьем. Да ты проходи, садись, в ногах правды нет.
Нюрка сглотнула, словно во рту у нее была какая-то горечь, и, не сводя глаз с печки, спросила:
– Ой, что это с ним?
– Да ничего с ним. Садись, говорю, проходи! Я тебе толкую, что лечила, а ты спрашиваешь, что с ним. – Анисья повернулась к Павлу. – Жив ты там, Павлуша?
Павел застонал.
– Ой! – отозвалась на его стон Нюрка Молчунья. Ей, видимо, хотелось спросить о многом и сказать многое, но не решалась – боялась выдать себя, и она спросила только: – А Шуры дома нет?
– Нет Шуры дома, – ответила Анисья. – Нужен он тебе?
– Да нет, так я. Ну, я пойду!
Нюрка убежала. А через несколько минут после нее появился Нюркин дедушка, Михайло Лексеич. В бороде его желтели крошки вощины.
Надо полагать, Молчунья наговорила ему всяких страхов, потому что, едва переступив порог, он начал совестить Анисью:
– Ты что, ополоумела, старая? Что натворила? Погубить, конечно, парня хочешь аль что? Беги к председателю! Посылай за доктором!
Анисья, стоя на табуретке, выгребала угольным совком камни из бука и складывала их в ведро. Она только выше засучила рукава кофты и закричала в ответ так же неприветливо:
– А ты, старый умник, с цепи сорвался або что? Положи крест на лоб – в дом вошел.
– Что с парнем сделала, спрашиваю тебя? – настаивал старик.
– А ты кем ему доводишься? Может, ты ему дед аль тесть потайной? Або ты сам председатель колхоза, что входишь в чужие дома, не перекрестясь, будто в свой дом?
Михайло Лексеич сплюнул на пол и, поднявшись на печной приступок, заглянул в лицо Павлу.
Павел спал и потел. Струйка пота со лба по переносью и мимо носа стекала, как по желобку, в приоткрытый рот.
– Смотри у меня, дурная! – шепотом пригрозил Михайло Лексеич Анисье и, не попрощавшись, пошел из избы. Но в дверях столкнулся с председателем колхоза и вернулся.
– Что тут у вас, кто кого уморить хочет? Я ничего понять не мог! – во всю силу голоса закричал Прокофий Кузьмич, словно пришел не в избу, а на гумно.
Михайло Лексеич опять сплюнул и погрозился, на этот раз уже не в сторону Анисьи, а в адрес своей внучки.
– Вот полоумная, успела, конечно, взбулгачить всю деревню! Сейчас и доктора на себе, конечно, привезет, лошадь запрягать не надо.
Председатель колхоза разбудил Павла, чтобы спросить, как он себя чувствует. Павлуша поднял голову, лицо у него было жалкое, красное и все в поту. Казалось, он плачет.
– Мне хуже! – сказал он.
Тогда председатель набросился на Анисью:
– Ты, пережиток капитализма, что делаешь? Варварство в колхозе разводишь? Невежество? Государство не жалеет средств, учит людей, а ты подрываешь? Смену мою загубить хочешь? Шурку своего лечи...
Перепуганная Анисья перестала возражать, отмалчи валась, и только.
* * *
После этого Павел еще не раз получал курортные путевки. Бесплатное направление на курорт, как многие другие блага, получают далеко не все. Не все умеют писать заявления. Трудно бывает получить первую путевку, трудно распознать, как это делается, – научиться просить, войти в нужный список, в доверие. Павел прошел эту школу с успехом.
Женщина-врач, молодая, добрая, следившая за состоянием здоровья учеников ремесленного училища, однажды по-матерински посоветовала ему:
– Пожил бы ты подольше у своих родных в деревне. Походил бы там по лесам, полям, подышал бы родным воздухом, попил бы молока да поел бы не в столовой, а своей деревенской здоровой пищи – и перестал бы болеть.
Павел ответил ей с полным доверием:
– Сирота я круглый, Вера Дмитриевна, куда я поеду, кому я нужен? Дома только бабушка да брательник, совсем еще мальчишка. И одни-то они едва концы с концами сводят на своем участке. Что я свалюсь им на голову, больной, им и без меня тошно. Плохо у них. А меня воспитала советская власть. Я же не дома травму получил, не в колхозе. Бабушка меня лечила на буку паром, чуть до смерти не залечила. Варварство у нас там, невежество. Больные зубы лошадиным пометом лечат – кладут на зуб вместо лекарства. А кто с пупа сорвет – горшок на пуп ставят вместо банок, весь живот в горшок стягивается. Да разве бы я болел, если бы не сиротская жизнь!..
Всякие сомнения у Веры Дмитриевны исчезли, и она заполнила очередную курортную карту на имя Павла Мамыкина.
По этой причине он редко стал бывать дома, даже каникулы у него были заняты. Бабушка и Шурка недоумевали и обижались на него.
Чем дороже обходился Павел Мамыкин государству, тем значительнее казался он самому себе. Он становился своего рода "номенклатурным больным".
Заявления приходилось писать все чаще, и не только о выдаче бесплатных путевок. Однажды Шурка сообщил Павлу, что в колхозе не смогли достать нескольких мелких деталей для конного привода к молотилке. Павел поговорил с ребятами, с преподавателем слесарного дела, побывал вместе с ними в РТС, и было решено изготовить эти детали собственными силами и отправить в колхоз в качестве шефского подарка. Для оформления операции потребовалось заявление. Павел написал его по всем правилам от имени правления колхоза. Училище гордилось проделанной работой, и Павла очень хвалили за инициативу. Правда, когда подарок был отправлен, Павел написал своей бабушке, чтобы она знала, что это он, а не кто иной, удружил своему колхозу, и бабушка извлекла из его сообщения немалую пользу: в пору самой тяжелой бескормицы ей было отпущено для коровы несколько вязанок колхозного сена.
Павел продолжал писать заявления и по окончании учебы: о трудоустройстве – не по разнарядке, а где самому хотелось; о подыскании комнаты – не всю же сознательную молодую жизнь скитаться ему по общежитиям! – и, наконец, опять о курортном лечении.
Форма заявлений постепенно сложилась и отработалась – устойчивая, постоянная: вначале он рассказывал о своей тяжелой личной судьбе – отец погиб на войне, мать – на колхозном фронте двое маленьких детей остались круглыми сиротами; затем – что если бы не советская власть да не колхоз, погибли бы они голодной смертью. Но советская власть не бросила сирот, не позволила им пойти по миру. И вот они, два брата, теперь работают: один – в сельском хозяйстве, другой – на производстве. Далее он излагал, в чем нуждается и почему не может сейчас обойтись без поддержки, без помощи. При этом обещал, что придет время и он за все отплатит своему щедрому отечеству. Наконец: "Прошу не отказать мне в моей просьбе".
Редко, очень редко подобные заявления не действовали на сердобольных начальников: любой из них когда-нибудь сам побывал в беде, и государство у нас богатое...
* * *
Шурка так уставал на колхозной работе, что с вечера забирался на сеновал спать, когда его сверстники, умывшись и поужинав, шли на угор, в темноту, к девчатам, к песням. Деревня затихала не сразу: возвращались люди с сенокоса, возвращались коровы с выгона, лаяли собаки, гоняясь за скотом, скрипели колодезные журавли, молоковоз кричал на всю улицу, таская тяжелые бидоны в телегу и торопя оформление очередной накладной. Ветер замирал, и хвойные и травяные запахи, залетавшие в деревню из окрестных лесов и лугов, сменялись теплыми застойными запахами дворов и поветей. В небе проступали звезды, извечные, как слова любви, как звуки гармошки – простые и волнующие.
Молодежь зимой собиралась на беседки, а летом – на угор, обычно около пожарного сарая, где хорошая площадка для возни и для плясок.
С повети Шурке хорошо слышны и сонное бормотание кур на насестах, и всполошенные петушиные крики, и хлюпающая, влажная топотня дождя на драночной крыше, и грустные коровьи вздохи во дворе у пустых яслей, и, конечно, каждый живой звук на сельских улицах.
– Марья Митрошина, опять твоей пегой сатаны с рогами нет, весь день ходила вместе со стадом, а как вечер – она в лес. Гляди, медведь задерет, не ровен час.
– Вот окаянная, не любит домой ходить.
– Невзлюбишь, коли в стойле жижи по брюхо. В лесу грязи меньше.
– А может, она с колхозными на мэтэфэ ушла? Спроси доярок!
– Нет на мэтэфэ. Ищи на Мокрушах!
– Куда я в лес пойду на ночь глядя. Все равно молока со стакан дает.
Медные колокольцы гремят все реже и реже – коровы расходятся по дворам. Шурка не может заснуть, ожесточенно ворочается на сене, словно набилось оно под рубашку, и колет, и царапает, и щекочет его. А спать хочется. Если не заснуть сейчас, то завтра опять придется клевать весь день, того и гляди, под колеса попадешь, а то и под лемеха.
– Груня, пошли полуношничать! – слышит он знакомый зов девушки-соседки.
– Спать охота!
– Плюнь, на том свете выспишься. "Оно, пожалуй, и верно, – думает Шурка. – Все равно не заснуть".
– Эй, карапуз, позови батьку к окошку! – раздается другой голос где-то поблизости.
– Я здесь, кто это? – отзывается глухой бас.
– Пойдем хватим с устатку. Гарман в район ездил.
"Где-то сейчас Пашка? – начинает думать Шурка о старшем брате, и накопившиеся за эти годы боль и обида на Павла опять поднимаются в его душе. – В районе он или где? Неужто дальше куда уехал! Ученье, должно, уже закончил, а домой даже не заглянул. Бабушка слаба стала, спит мало, все переживает. А Пашка и на письмо не ответил. И летом дома не стал жить, все устраивает свои дела где-то. Все они такие, ученые, только выйдут в люди, хлебнут городской жизни – и ищи-свищи, назад в деревню калачом не заманишь, батогом не загонишь..."
А как жил сам Шурка все это время, чем он занимался? А тем и занимался, что колхозу требовалось. Увлекся льном, потому что от льна колхозу шла самая большая прибыль. В льноводческом звене вся инициатива постепенно перешла к нему, и Клавдия стала упрашивать его взять звено в свои руки. Женщины ее поддержали, и Шурка согласился. Со всеми наравне он возил навоз на участок, и теребил лен, и расстилал, и собирал, сам следил за его сортировкой. А когда выяснилось, что приемщики на льнозаводе занижают сортность тресты в своих интересах и спорить с ними невозможно – они специалисты, Шурка поехал в район к агроному, набрал книжек, чтобы досконально изучить, по каким признакам определяются номера тресты, и сам стал ездить сдавать лен заводу. Колхоз выиграл на этом несколько десятков тысяч рублей.
Но, взявшись за книжки, Шурка почувствовал, как много он потерял в жизни, как трудно ему будет без ученья. И об этом думал он сейчас:
"Уцепился за бабушкин подол, брату помогал, смотрел в его раскрытый рот, а о себе забыл! Теперь и брат забыл обо мне. А может, еще не забыл? Вот приедет начальник начальником и скажет: "Ну, родные мои, все, собирайтесь, всех с собой беру!" Куда беру?.."
– Какое вам кино в горячую пору? – вдруг закричал на улице бригадир – Шурка узнал его по голосу. – Планы сорвать охота?
– План, план... А люди для тебя что?
"Кино тоже по плану можно бы показывать, – думает Шурка. – А то кампания за кампанией по плану, всякие заготовки и сдачи по плану, а все, что для души, – от случая к случаю. Почему это?"
На повети такая темнота и так душно, что Шурке иногда кажется, будто он закрыт наглухо тяжелым покрывалом. А стоит курице или петуху переступить на насесте да квокнуть чуть слышно – и сразу становятся словно бы видимыми и крыша над ним, и стропила, а над крышей ночное небо и звезды.
"Все-таки не зря сказал тогда директор школы, – вспоминает Шурка, – я бы тоже учиться мог. Эх, мне бы поучиться! У меня и здоровья хватило бы. Для ученья хорошее здоровье нужно. Родись в деревне, закались на свежем воздухе, на колхозном хлебе – и тогда уж никакая наука не будет страшна..."
Шурка не верил, что в городах не хватает умных людей, таких, скажем, как Павел. В деревнях, да, не хватает! Значит, учиться надо не для города, а для своей же деревни, для своей земли. Людей кормить надо, а если земля совсем осиротеет, тогда что будем делать, куда покатимся?
"Где же все-таки Пашка, сукин сын? Хоть бы на время вернулся, пожил бы хоть один год с бабушкой, а я бы той порой... Эх, уж и впрягся бы я, сразу бы трехлемешным, четырехлемешным поднимать целину начал! За год – семилетку, за два года еще чего-нибудь кончил бы. Всех бы нагнал. Да разве опоздал я? Опоздаешь, если бабушка только и дело, что о женитьбе сказки рассказывает. Ей помощницу нужно. А бригадиром хотели избрать, так председатель сказал, что еще молод, рано и доверия, говорит, не заслуживает, шумит много. Шумит – это значит критикует..."
Все дневные голоса и звуки на улице наконец смолкли. Тогда на угоре заиграла гармошка-хромка. Ее щемящие душу переборы возникли где-то далеко-далеко, наверно, еще в поле, и оттуда, из-за перелесков и пустошей, усиливаясь и раздаваясь вширь, неотвратимо надвигались на Шуркино неокрепшее сердце, как наводнение, как бедствие, и – какой уж тут сон! – Шурка не выдержал, встал, на ощупь оделся и почти бегом бросился с повети на призывный зов гармони и девичьих прибауток.
Бабка услышала, что внучек ушел на угор, и тайно порадовалась этому: "Растет, растет парень, еще немного – и невестку приведет в дом. Дай-то бог!" И лишь после его ухода она заснула спокойным, надежным сном.
А не спалось ей все потому же, что и Шурке: она много думала о своем старшем внуке, о Павле. Что-то не совсем понятное, не осознанное еще происходило в ее душе. Где же все-таки Пашута, чем он живет, почему не подает голоса и как ей ко всему этому относиться?
Бесконечно много надежд, больших и маленьких, связывала она с Павлом. "Вот вырастет, вот выучится, вот выйдет в люди!" – постоянно повторяла она и про себя и вслух, и это звучало как извечная старушечья молитва: "Помоги, господи! Спаси, Христос! На тебя вся надежда!"
Крыша над избой давно прохудилась, течет и весной и осенью, кое-где дранка совсем сгнила, сколько уж лет не смолили ее – какая ныне смола! Ладно, теперь недолго осталось ждать: Павлик вернется, либо сам перекроет, либо денег привезет, а на деньги и дранку и смолу достать можно.
С коровой тоже надо было что-то порешить – стара шибко, брюхо большое, а вымя как мочалка выжатая. Сдать бы Пеструху на мясо, хватит, послужила, а взять другую, первотелочку, либо своего телка выкормить. Да ведь без мужика нелегко решиться на это, на одну животину сена не наскребешь, а тут двоих надо кормить. И опять: вот ужо Пашута возьмется за все сам, парень он прилежный, не глупый, не шалопай какой-нибудь.
И с коровником тоже – ломать, перестраивать надо. Ставился двор не на одну скотину, а на целое стадо. И стояло в нем раньше, худо-бедно, четыре, пять коров, да бык, да телята, какой ни мороз – тепла хватало. А ныне в этом же дворе стоит-дрожит одна Пеструха, пережевывает свои коровьи думы, вздыхает, зимой вся закуржавеет, и на морде иней и в пахах, даже вымя в инее. А корму маловато – какое уж тут молоко! Развалить надо этот двор, отобрать бревна, которые поцелее, укоротить их, добавить свеженьких и собрать новый коровничек, чтобы в нем уместить всю свою живность – корову, пару овец, поросенка. А куры по-прежнему на повети... Эх, силы нужны, деньги нужны, хозяин нужен! Обсудить надо поначалу все как следует. С Шуриком не обсудишь – молод еще, не все понимает, старается не для дома, встает рано, приходит поздно, все на колхозной работе, все там, трудодни зарабатывает, ему не до своего хозяйства. А трудодни тебе двор не перестроят, крышу не закроют. Опять же своими руками надо делать. Вот выучится старшой: и глаз хозяйский, и деньги – все будет сразу.
Да мало ли всяких забот у бабки, мало ли о чем думает старуха, когда ей не спится! И все ее добрые помыслы, все заботы ее сходятся в одной точке: Пашута! Вот кто избавит ее от горьких дум, от мирских обид и несправедливостей, вот кто успокоит ее старость.
На чем держится любовь бабушки к своим внукам, в чем она и какова мера этой любви, – кто знает? Родительская любовь понятна. Детеныша своего защищают и звери и птицы. Чем неудачливее отпрыск, тем больше отдает ему мать сил и чувства, жалость к уродцу умножает ее самоотверженность. А почему бабушка с дедушкой любят своих внуков и внучек порой не меньше, чем матери своих детей? Что известно об этом, кроме того, что бабушка рассказывает сказки, а дедушка обещает: "Будет вам и белка, будет и свисток"?
У бабушки Анисьи никого в жизни не осталось, кроме Павлика и Александра. Они внуки ее, они и сыновья. Они наследники ее жизни, будущие хозяева, большаки. Если бы их не было, трудная ее судьба стала бы казаться совсем невыносимой, а испытания, выпавшие на ее долю, бессмысленными. Как можно допустить, будто не окупится все то, что она вложила в своих внуков, особенно в старшего! Об этом даже подумать страшно. Отдача будет, обязательно отдача будет! Вот только приедет Пашута...
И Павел приехал.
* * *
Но сначала от него пришло письмо.
Странное это было письмо. Шурка, устроившись на табуретке, читал его вслух, как обычно, но на этот раз часто останавливался, словно обдумывал прочитанное, а бабушка и ахала, и охала, и все торопила:
– Да читай же, читай скорей, только не прибавляй от себя ничего, выдумщик ты!
Она то садилась рядом с Шуркой и с недоверием поглядывала на листок бумаги, то поднималась и шла на кухню либо к порогу и обратно, а руки ее хватались за фартук; казалось, старушка вот-вот расплачется, и фартук был наготове, чтобы слезы вытереть и высморкаться.
Павел писал, что хотя здоровье его не поправляется, но на работу он устроился выгодную" и сейчас хочет начинать жить как следует. Только на первых порах надо, чтобы ему помогли, потому что положение его трудное: он женился!
Дочитав до этого места, Шурка вдруг недобро расхохотался, а бабушка дотянула-таки фартук до лица, и ситчик быстро потемнел от мокрых пятен, будто на нем рядом с серенькими полинявшими цветочками появились какие-то новые причудливые узоры.
– Спаси Христос! – говорила она. – Ни о чем не спросил, не показал девку, какая такая, не пособирался, путного слова не молвил и... женился. Обманул ведь, а? Да как же это он?
"Дорогая бабушка, родимый мой братик Александр, – отхохотав, продолжал читать Шурка, – жена у меня городская, Валерия – ничего, хорошая. Кроме нее, у отца с матерью никого нет, и все хозяйство остается после их смерти за нею; значит, все будет наше. Есть корова, поросенок, огород, две яблони и все такое. И вот мы решили с тестем, с Петром Фомичом, сразу же, не оттягивая дела, перестроить дом, перебрать все стены и покрыть крышу, мало ли что может случиться. Здоровье у него неважнецкое, и всяких врагов много. На него опять насчитали по ларьку не одну тысячу, и надо все выплатить, а то уволят, и, говорит, денег теперь у него своих нет. А сами знаете, чтоб дом перестроить – лес нужен, и гвозди, и рабочая сила. Вы уж пожалейте меня ("Слыхала?" – резко крикнул Шурка, оторвавшись от письма и взглянув на бабушку), – помогите мне подняться на ноги, соберите, сколько сможете, и напишите, я живо приеду в деревню сам. По трудодням, наверно, как и прежде, одни разговоры, но, может, у вас боров хороший, можно заколоть да на базар увезти. Петр Фомич говорит, что он тоже мог бы способствовать пропустить мясо через ларек, только я думаю, что на базар лучше. Встану на свои ноги и больше никогда ничего не потребую, помогите лишь, не откажите в моей просьбе, никого у меня, кроме вас, нет.
К сему Павел Мамыкин".
- Слыхала?! – сказал опять Шурка, бросая письмо на стол и с укоризной обращаясь к бабушке, словно она в чем-то была виновата, при этом самое неподдельное удивление и недоумение звучали в его голосе. – Слыхала сироту? – Казалось, он мог ожидать от Павла чего угодно, только не сообщения о женитьбе.
Бабушка с еще большим усердием начала сморкаться и протирать глаза свои ситцевым, уже наполовину мокрым фартуком.
– Слыхала, как не слыхать! Женился-таки... О, господи! И не отписал ничего, не посоветовался, будто ему советы мои больше и не нужны. – Бабушку, видно, больше всего обидело, что Павел не сообщил ей заранее о своей женитьбе. – Как же мы теперь с тобой будем, Шурик? Как же он-то без нас будет жить? Не рано ли женился-то? Парнишка ведь еще, есть ли у него самостоятельность-то, есть ли опытность-то? Как бы чужие люди над ним верх не взяли, как бы молодая жена каблуком на горло не наступила. А молодая ли жена-то? Может, вдова какая, раз хозяйство свое имеет? Отпиши-ка ты ему, Шурик, сейчас же и спроси: мол, была ли свадьба-то; может, бабушку-то на свадьбу позвать бы надо, коли еще не повенчанные?
С удивлением и недоумением смотрел теперь Шурка и на бабушку свою. Он словно впервые увидел ее такой, какова она есть, и растерялся.
– Он же не об этом пишет, бабушка, он помочь просит, ему дом перестроить надо, им с тестем деньги нужны! – закричал он ей в самые уши, будто глухой.
Растерялась и бабушка. Но представление о Павле, как о маленьком мальчишке, все еще нуждающемся в ее опеке, и жалость к нему постепенно брали верх над всеми прочими ее чувствами.
– А что же делать-то, Шурик? Брат ведь он родной тебе! Только как мы ему поможем, чем? Может, в правление сходить надо, посоветоваться або что, там тебя нынче уважать стали, никто о тебе худого слова не скажет. Так и так, мол, старший брат женился, подмогнуть бы ему на ноги встать, а уж он добра не забудет, не такой он человек.
Шурка рассердился.
– Никуда я не пойду и никого просить не буду. Не мое это дело. Я не нищий и не маленький, чтобы просить. Так я и буду на него всю жизнь работать? – Шурка впервые говорил о своем брате со злобой. – Не буду я на него работать! Женился, папочкой, наверно, уже зовут, а все в сиротах ходит да на подмогу надеется. Батраки ему нужны!
Бабушку испугали эти необычные слова его: какие батраки? Кому нужны? На кого он не будет работать?
– Ты это про кого? – тихо спросила она.
– Про него, про сиротинушку твоего, про Пашутеньку! – кричал Шурка. – Он всех обманул! Он и председателя колхоза обманул: тот на него надеялся – вот вырастет, вот выучится, руки ему развяжет, на пенсию отпустит. Он и нас с тобой обманул.
– Обманул, внученька, это уж верно, что обманул. А может, еще и не обманул?
Бабушка опустила фартук, разгладила его на коленях, и руки ее повисли, словно и они, и сама она не знали, что делать дальше.
– Ты от своего брата отказываешься? От родного брата отказываешься, Шура? – спросила она тихо. – Кто у нас еще есть, кроме него? А у него кто есть, кроме тебя? Никого нет. Всю свою молодость провел он на чужих людях, учился, а ты от него отказываешься?








