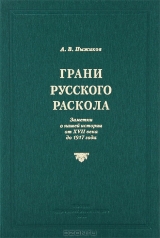
Текст книги "Грани русского раскола"
Автор книги: Александр Пыжиков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
Как мы видели, торгово-промышленные верхи раскола быстро и с большой пользой для себя осваивались в новой экономической обстановке, формировавшейся под контролем власти. Но вот о народных низах этого сказать нельзя: преобразования выявили полную их неприспособленность к реальной рыночной среде. Разрушение привычных общинных отношений оказалось крайне болезненным, и прежде всего это касалось психологии. Лучшие умы правящего класса пореформенной России почувствовали, что значительная часть населения страны деморализована. Поэтому они подняли вопрос об адаптации народа к новым условиям. Пути выхода виделись, прежде всего, в формировании рыночной среды, куда втягивалось бы население. Речь шла об организации ссудно-сберегательных обществ как действенном инструменте доведения денежных средств до самых широких слоев. На рубеже 60-70-х годов XIX века такие идеи выдвигались петербургским кружком князя А.И. Васильчикова[647]647
Подробно о кружке А.И. Васильчикова См.: Подколзин Б.И. Петербургский кружок кн. А.И. Васильчикова и зарождение кооперативного кредита в России (60-70-е годы). Автореферат на соискание ученой степени канд. истор. наук. М., 1994.
[Закрыть]. Опираясь на западноевропейский экономический опыт, эти представители российского чиновничества и науки заговорили о распространении в хозяйственной практике кредитных и производительных кооперативов. Они были убеждены, что общинные традиции, издавна присущие русскому народу, облегчат внедрение новых форм хозяйствования. А.И. Васильчиков говорил:
«...Русская артель, как и русская община, представляются мне учреждениями, глубоко исходящими из недр русской земли, Я считаю, что артель, точно так же как и ссудно-сберегательные товарищества, круговая порука, взаимное страхование, прямо исходит из того начала, которое образовало общину в России»[648]648
См.: Стенографический отчет политико-экономического комитета Императорского Вольного экономического общества. 5 января 1872 года //Труды ВЭО. 1872. Т. 2 Вып. 2. С. 210.
[Закрыть].
По его мнению, эти преимущества нужно использовать для того, чтобы «провести кредит из банков в низшие слои народа»: только реальная общедоступность народного кредита на деле способна поднять благосостояние людей, а отказывать им в кредите равносильно отказу в отправлении правосудия[649]649
См.: Стенографический отчет политико-экономического комитета Императорского Вольного экономического общества. 14 марта 1872 года // Там же. С. 436, 465.
[Закрыть].
Члены кружка считали, что кредитно-денежные отношения, сами по себе несвойственные общине, никоим образом не затрагивают механизм ее функционирования. Цель создания общины – самозащита «не столько от людей или не только от людей, но и от природы». Отсюда потребность в объединении усилий, так как кроме своего труда простолюдинам положиться не на что: денежными средствами, которые выполняли бы защитную функцию, они не обладают[650]650
См.: Выступление кн. А.И. Васильчикова // Там же. С. 210-211.
[Закрыть]. Собственно, этим и объясняется укорененность общинных традиций. Теперь же, по уверениям петербургских мыслителей, настало время обеспечить народ местным, мелким, а главное – личным кредитом, что и позволит преобразить экономику страны. Как известно, эти благие начинания закончились неудачей. Внедрение кредита встретило большие затруднения – прежде всего, со стороны тех, кому он непосредственно предназначался. Широкие массы в подавляющем большинстве не проявляли к нему того интереса, которого ожидали авторы инициативы. Так что им оставалось лишь рассуждать о неготовности русского народа к новому и нужному ему же самому делу. Кроме того, в верхах, т.е. в правительственных ведомствах и банках, также без большого энтузиазма восприняли подобные предложения: финансовое обеспечение средств, выделяемых, по сути, под честное слово, сильно смущало бюрократию.
В результате в пореформенную эпоху воззрения кружка А.И. Васильчикова оказались невостребованными, подготовив, правда, почву для будущих изменений[651]651
Правительство обратило серьезное внимание на вопросы организации различных кооперативов лишь в середине 90-х годов XIX века, только теперь устройство мелкого кредита было признано государственным делом. Во второй половине 90-х начинает создаваться правовая база кооперативного движения, принимается и целый ряд законов по этому направлению.
[Закрыть]. О деятельности кружка неплохо известно в современной литературе[652]652
См.: Фигуровская Н.К., Подколзин Б.И. Петербургский кружок кн. А.И. Васильчикова и зарождение кооперативного кредита в России //В Кн.: Кооперация. Страницы истории. Т. 1. Кн. 2. Ч. 1. М., 2001. С. 5-33.
[Закрыть]. Но здесь мы хотели бы обратить внимание на один аспект, выпадающий из поля зрения исследователей. Инициативы столичных интеллектуалов преподносились тогда исключительно в качестве новации, крайне необходимой российской экономике. Отечественные пропагандисты народного кредита были искренне убеждены в том, что делают абсолютно новый шаг в приобщении масс к прогрессивным формам хозяйствования. Так, участник кружка профессор Петербургского университета Э. Р. Верден прямо заявлял о передовом почине в данном деле Вольного экономического общества и отдельных лиц. Практика кредитных операций, уверял ученый, прежде была чужда и незнакома низам, поскольку никак не отражена в обычаях и быту русского народа[653]653
См.: Стенографический отчет политико-экономического комитета Императорского Вольного экономического общества. 5 января 1872 года // Труды ВЭО. 1872. Т. 2. Вып. 2. С. 217.
[Закрыть]. Такая точка зрения удивляет. Деятели передового для того времени круга, рассуждая о возможностях организации в России народного кредита, не усматривали никаких признаков его существования в народе. Хотя те, кто вышел из низов, а не из университетских аудиторий говорили о народном кредите, как об обыденном деле. Например, воспоминания купца-старовера Н. Чукмалдинова повествуют о распространении мелких займов в крестьянской среде, которые никогда не оформлялись расписками, векселями. Все операции полагались на совесть или в крайнем случае требовалось уверение, что «вот вам Бог порядка» или «святой угодник Никола». При этом автор утверждал, что не сталкивался ни с одним случаем каких-либо недоразумений между должником и кредитором: всякие расчеты завершались на оговоренных условиях, добросовестно и верно[654]654
См.: Чукмалдин Н. Мои воспоминания. Ч. 1. СПб., 1899. С. 59.
[Закрыть].
Но такая повсеместная народная практика, по-видимому, не признавалась столичными мыслителями всерьез: она слабо вписывалась в цивилизованные гражданско-правовые отношения. Если профессора отказывали в наличии мелкого личного кредита, то тем более они не могли всерьез допустить существование – общинного. Этот вид финансово-денежных отношений имел уже более крупное назначение, связанное со становлением торгово-мануфактурного сектора России. Напомним: в дореформенную эпоху его формирование не было плодом усилий правящего дворянского сословия, сторонившегося подобных дел. Промышленная динамика набирала силу благодаря крестьянству – главной движущей силе внутреннего рынка страны. Вопрос о том, откуда эти выходцы из народа черпали средства для своих торгово-производственных начинаний, находился за рамками дискуссий петербургских интеллектуалов. В противном случае они могли бы обнаружить, что подъем торгово-мануфактурного сектора происходил, как правило, снизу и без поддержки властей и казны (на которые народные предприниматели не очень-то и рассчитывали). А вот на что они серьезно полагались и от чего напрямую зависели, так это как раз общинные средства, т.е. народный, а не банковский, кредит, которому отказывали в существовании петербургские мыслители. Если бы этих денежных отношений в народных слоях не существовало, то крестьянские торговцы и ремесленники не смогли бы довести свои начинания до сколько-нибудь серьезного уровня. Между тем именно этот финансовый источник начиная со второй половины XVIII столетия давал жизнь значительной части российской промышленности.
Аккумулирование и использование народных средств и стало ключевой задачей раскола, выступившего здесь в качестве организующей силы. Вне всякого сомнения, перед нами реализация той защитной функции, о которой говорил Васильчиков. Но только ни он, ни его соратники не могли представить себе те организационно-экономические возможности (помимо упомянутой борьбы с природой), которые продемонстрировал простой народ, поддерживая свое существование и веру. Надо заметить, они отдавали себе в этом отчет: ссылки на слабое знакомство с реалиями хозяйственной жизни народа постоянно встречаются в их речах. Тот же А.И. Васильчиков откровенно признавался:
«...Нужно, чтобы мы сознались, что русское образованное общество ничего не знает о той артели, о которой некоторые говорят... Я должен сознаться, по крайней мере для меня лично артель представляется такою темною чертою народного быта, что я сам по себе не могу дать о ней никакого ясного понятия»[655]655
См.: Труды ВЭО. 1872. Т. 2. Вып. 2. С. 209.
[Закрыть].
Но об одном можно говорить с уверенностью: этот кружок передовых людей своего времени искренне желал помочь русскому народу, облегчить ему переход к рыночной экономике. Тем сильнее было разочарование, когда выяснялась непродуктивность всех попыток привить населению кредитные навыки на основе цивилизованного гражданского права и финансовых ресурсов банковской сферы.
Хотя с точки зрения нашего исследования здесь нет ничего удивительного. Нужно просто осознать, какова была степень деморализации рядовых общинников, все больше убеждавшихся в том, что созданные на их средства предприятия перешли в безраздельную собственность тех, кому было поручено управлять ими исключительно для общей пользы. А дети этих управленцев рассматривали себя уже в качестве законных владельцев, имеющих полное право присваивать себе всю прибыль, сбрасывая тем, кто трудится, подачки в виде благотворительных мероприятий. Сменить этих собственников, как происходило ранее, уже не представлялось возможным: на страже их интересов стояли закон и власть, а религиозные центры, делегировавшие права на управление тогда еще общинными активами, были разгромлены. Общий итог такой трансформации очевиден: люди вряд ли стали бы участвовать в подобных инициативах, тем более исходящих не из их среды, а от представителей чуждого мира – от дворян. К тому же экономические предложения правящего сословия были нацелены прежде всего на укрепление частной собственности, на развитие частного предпринимательства. А тот общинный кредит, на котором поднимался крестьянско-купеческий капитализм в дореформенный период, имел (и мог иметь) исключительно патерналистскую направленность; он был призван обеспечивать хозяйственные и социальные нужды коллективов единоверцев, а не интересы отдельных людей, выстраивавших свою жизнь вокруг института частной собственности.
С другой стороны, правительство настороженно относилось к предложениям по кредитованию народа. Вышедший в 1867 году императорский указ предписывал губернаторам поставить под тщательное наблюдение все кооперативы, товарищества и артели, вредные «для государственного благоустройства или общественной нравственности»[656]656
См.: Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «О противозаконных обществах». 27 марта 1867 // ПСЗ-2. №44402. Т. XLII. Отд. 1. СПб., 1871. С. 330.
[Закрыть]. С 1865 по 1890 год по всей России было зарегистрировано всего лишь 288 уставов кооперативных обществ, т.е. в среднем по одиннадцать ежегодно[657]657
См.: Дихтяр Б.В. Внутренняя торговля в дореволюционной России М., 1960. С. 150.
[Закрыть]. Это определенно свидетельствует о том, что у государства имелись совсем другие планы на кооперативное движение. Они были связаны не с утверждением частной собственности и ее кредитным обслуживанием, а с сохранением института общины; все имперское законодательство ориентировалось на ее консервацию. Обширное правовое нормотворчество Сената в пореформенный период – наглядное тому подтверждение. Так, по сенатскому постановлению от марта 1887 года, член общины мог отдавать свой участок в аренду постороннему лицу не иначе как с согласия мира[658]658
См.: Горемыкин И.Л. Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по крестьянским делам. Т. 1. СПб., 1893. С. 305.
[Закрыть]. Другим постановлением определялось, что сельское общество вправе воспретить своему члену такое отчуждение принадлежащего ему имущества, «которое не вызывается разумной потребностью и может ввести общество в убытки по платежу повинностей» и т.д.[659]659
См.: Там же. С. 76.
[Закрыть] Даже такое финансовое учреждение, как Крестьянский банк, с момента своего создания в 1883 году особое расположение проявляло к общинникам, отдельным же хозяевам ссуда предоставляло с большой неохотой[660]660
См.: Головин К.Ф. Мои воспоминания. Т. 2. СПб 1910. С. 136.
[Закрыть]. Очевидно, что такая политика, проводившаяся в этот период сверху, мягко говоря, не способствовала претворению в жизнь идей кружка Васильчикова. Заботы властей концентрировались на поддержании нужной налоговой платежеспособности населения и диктовались опасениями ее нарушить.
Самой излюбленной темой советской историографии было рабочее движение в России. Огромные научные силы затрачивались на выявление стачек и уточнение их общего числа, на определение самих понятий «стачка», «забастовка», «бунт» и т.д. Рабочее движение как таковое разворачивается с отмены крепостного права. Если, по подсчетам советских ученых, в 60-х годах XIX века состоялось свыше 50 стачек, то уже в 70-х – около 250-ти[661]661
См.: Рабочее движение в России в XIX веке / Под ред. А. М. Панкратовой. Т. 2. Ч. 1. М., 1950. С. 35-45.
[Закрыть]. По существу, они представляли собой волнения, как правило – локального характера, и происходили повсеместно, вспыхивая то здесь, то там. Советские историки изображали их как нарастающий процесс, тем самым иллюстрируя поступательное пробуждение будущего могильщика царизма, постепенно выходившего из рабского повиновения. Действительно же крупными волнениями можно назвать лишь немногие из них: стачку на Невской бумагопрядильной фабрике (1870 г.), на Кренгольмской мануфактуре (1872 г.), на Нижне-Тагильских заводах Демидова (1874 г.)[662]662
См.: Там же. С. 46, 50-51, 488-500.
Для нашего исследования эти стачки представляют интерес. Даже в таком советском академическом издании содержатся любопытные сведения о забастовках. Так, по поводу волнений на Нижне-Тагильском заводе Демидова говорится, что началом стачки летом 1874 года послужило введение на предприятии рабочих книжек. В связи с чем распространились слухи, что их раздача происходит с целью снова закрепостить людей. Как установила прибывшая из Петербурга комиссия, к противоправным действиям подстрекали раскольники-староверы, объявившие гербовую печать на рабочих книжках «печатью антихриста». Роль раскольников в организации беспорядков на заводе не вызывает удивления, более того она выглядит вполне закономерной, если вспомнить, кто в основной массе работал на уральских заводах.
[Закрыть] и др. Но и они не особенно беспокоили власти, поскольку не представляли сколько-нибудь серьезной угрозы. Неслучайно в тот период официально не признавалось даже наличие рабочего вопроса: он мог существовать в Европе, в Соединенных Штатах, но только не в России. Ситуация меняется к середине 1880-х годов: рабочее движение постепенно набирает силу, забастовки и стачки охватывают обширную территорию. В этой связи интересно мнение вхожего в придворные круги генерала Е. Богдановича. В 1880 году он прогнозировал, что дерзкие революционные выпады, потрясавшие Петербург, в ближайшем будущем сойдут на нет. Главный же центр движения переместится в фабричные местности, Урал, Поволжье[663]663
См.: Записка генерал-майора Е. Богдановича о причинах возникновения и мерах борьбы с революционным движением в России. 9 марта 1880 года // РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 646. Л. 27об.
[Закрыть]. Как показало развитие событий, это предположение оказалось не так уж далеко от истины. Центральный регион Российской империи в 1885 году потрясли мощные массовые беспорядки. Говоря об этих событиях, столь любимых советской историографией, хотелось бы напомнить: они происходили в районе, который являлся не просто крупнейшим промышленным центром страны, а обширным старообрядческим анклавом. Советская наука упоминала об этом нечасто.
К 80-м годам XIX столетия под воздействием капиталистического развития, которое стимулировалось государством, прежняя староверческая общность претерпела полное разложение. Как происходил распад некогда солидарных единоверческих связей, можно проиллюстрировать на примере Никольской мануфактуры Т.С. Морозова в Иваново-Вознесенске – своего рода «визитной карточки» рабочего движения России. В августе 1863 года там произошло первое волнение: из 1700 ткачей прекратили работу 300. Но, как следует из документов, гнев забастовщиков был направлен не на владельца, а на директора предприятия. С 1860 года оно находилось под управлением англичанина Дж. Ригга, наделенного огромными полномочиями. Стиль его руководства вызвал возмущение у части коллектива, угрожавшего ему физической расправой. Ткачи выдвинули ряд требований к администрации по расценкам и условиям труда. В случае игнорирования справедливых, по их убеждению, претензий они собирались ехать с жалобой в Москву к самому Т.С. Морозову[664]664
См.: Предшественница морозовской стачки (публикация А.М. Панкратовой, В.М. Соколова) // Исторический архив. Т. 7. М., 1951. С. 140.
[Закрыть]. Иначе говоря, рабочие апеллировали к хозяину, именно в нем видя защиту от произвола дирекции. И как только владелец прибыл на фабрику, к нему направилась целая делегация. Велико же было удивление делегатов, когда Морозов – их единоверец, известный ревнитель благочестия и старины – указал им на дверь. Один из рабочих поделился впечатлениями:
Разочарование в своих хозяевах как в людях, предавших идеалы, ранее скреплявшие религиозную общность, в середине 1860-х годов только еще набирало силу. К следующей отмеченной документами забастовке на Никольской мануфактуре, в 1876 году, ситуация кардинально изменилась. Волнения на предприятии начались все по тем же причинам: непомерные штрафы, вычеты из заработка на освещение помещений и какие-то пожертвования, собираемые с рабочих на непонятные для них цели. Но главное другое: теперь уже никто не питал иллюзий относительно Т.С. Морозова, никто не обращался к нему как к покровителю и заступнику[666]666
См.: РГИА. Ф. 1286. Оп. 37. Д. 855. Л. 2-4.
[Закрыть].
Именно такое отношение к хозяину и привело в начале 1885 года к знаменитой Морозовской стачке – действительно крупному конфликту, силовому противостоянию. Конечно, эта забастовка подробнейшим образом разобрана советскими историками, поэтому наша задача остановиться на некоторых любопытных деталях. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что атмосферу общего недовольства усилило увольнение с фабрики группы старых ткачей, проработавших на ней более тридцати лет, т.е. единоверцев хозяина, помнивших совсем другие порядки. Непосредственным же поводом к стачке послужило объявление рабочим днем 7 января 1885 года – церковного праздника (дня Иоанна Крестителя)[667]667
См.: Лаверычев В.Я., Соловьева А.М. Боевой почин российского пролетариата. К столетию морозовской стачки. М., 1985. С. 81, 101.
[Закрыть]. Рабочие требовали не только сокращения штрафов и повышения расценок, но и свободного выбора старост в рабочих артелях, что было для них явно не пустой формальностью во взаимоотношениях с администрацией. Интересно и то, как рабочие ответили на отказ Т.С. Морозова повысить расценки ткачам и прядильщикам:
«А если ты нам не прибавишь расценок, то дай нам всем расчет и разочти нас по Пасху. А то если не разочтешь нас по Пасху, то мы будем бунтоваться до самой Пасхи. Ну, будь согласен на эту табель, а ежели не согласишься, то и фабрику Вам не водить»[668]668
См.: ГАРФ. Ф. 102. Д-3. Д. 2. Ч. 3. Л. 49; Рабочее движение в России в XIX веке. Т. 3. Ч. I. М., 1952. С. 126-127.
[Закрыть].
Последние слова выглядят необычно: получается, что рабочие в случае неудовлетворения их требований укажут законному владельцу па дверь. Даже советские историки были вынуждены давать здесь комментарии:
«В этом объявлении проявилась непоколебимая решительность стачечников, не желавших идти ни на какие компромиссы с фабрикантом и требовавших выполнения своих условий. Большинство рабочих понимало, что они представляют собой мощную силу, без которой Морозовым, как твердо заявили они, “фабрику не водить”»[669]669
См.: Лаверычев В.Я., Соловьева А.М. Указ соч. С. 117.
[Закрыть].
Это совершенно верное замечание, вот только осознание своей силы возникало у рабочих, прежде всего, благодаря тому духу общности, корни которого издавна питали староверческую среду, а не посторонним людям, агитировавшим на предприятии и поднявшим там красный флаг.
На примере Никольской фабрики хорошо видно, как происходила трансформация промышленной староверческой среды и к каким конфликтам это приводило. Открытое противостояние рабочих и хозяев, звеном которого была и Морозовская стачка, к середине 1880-х годов охватило весь центральный регион. Как следует из документов, власти понимали, что движущие силы находятся внутри рабочих коллективов, а не где-либо еще. Так, доклад прокурорского чиновника о событиях на бумагопрядильной мануфактуре И.В. Залогина около г. Твери свидетельствовал, что забастовка, хотя и была результатом недовольства массы, «организована и руководилась опытной рукой, создавшей план и энергично приведшей его в исполнение». Вместе с тем – и это особенно важно – в докладе подчеркивалось:
«...Лиц, организовавших забастовку и подстрекавших к ней рабочих ни дознанием, ни следствием не обнаружено, причем в местном жандармском управлении не имеется никаких указаний на то, чтобы в среде рабочих были лица, имеющие связь с преступными политическими сообществами»[670]670
См.: Рабочее движение в России в XIX веке. Т. 3. Ч. I. С. 345.
[Закрыть].
И подобные выводы постоянно встречаются в материалах полиции на протяжении целого ряда лет. Например, в 1878 году произошли беспорядки на бумагопрядильной фабрике Третьяковых, в ходе которых было разгромлено здание администрации. Следствие установило организованный характер стачки, однако не усмотрело какого-либо стороннего подстрекательства[671]671
См.: ГАРФ. Ф. 109. 1878, 3 эксд. Д. 40. Л. 37-38.
[Закрыть]. Это крайне неудобные выводы для концепций советской эпохи.
Хотя взгляд на рабочее движение со стороны непосредственно революционных сил тоже весьма характерен. К примеру, ветеран революции М. Лядов так вспоминал о забастовках на фабриках г. Егорьевска (ныне Московская область) и о своей роли в их организации:
«Мы поздно узнали об этом бунте и проявить свое руководство не могли. Но решили широко осветить эту забастовку в листовках, а главное – указать и объяснить, как следует бороться».
М. Лядов рассказывает также о посещениях фабрик братьев Лыжиных и Гучковых, о своих знакомствах и разговорах со староверами, под влиянием которых он начал изучать историю раскола[672]672
См.: Лядов М. Как зародилась московская рабочая организация // На заре рабочего движения в Москве. Воспоминания участников московского рабочего союза (1893-95 г.г.). М., 1932. С. 75,52.
[Закрыть]. При внимательном просмотре литературы можно выявить немалое количество подобных свидетельств. Общий смысл просматривается здесь определенно: не революционно-демократические силы всевозможных оттенков явились двигателем рабочего движения 80—90-х годах XIX века, а мощный протест, исходящий из глубин народных масс. И протест этот проявился, прежде всего, в старообрядческих регионах, где люди сильнее прочувствовали всю прелесть отношений, к которым так стремились их братья по вере, прекрасно вжившиеся в роль реальных владельцев. Трансформация социально ориентированного хозяйства в чисто капиталистическую экономику проходила здесь намного болезненнее, чем в среде православных никониан. Поэтому именно в промышленном центре России, этом крупнейшем анклаве раскола, власти впервые столкнулись не с отдельными проявлениями недовольства, а с новым системным вызовом – массовым рабочим движением.
Характерно, что эта волна стачек была направлена против владельцев предприятий, которые в глазах работников выглядели подлинными кровопийцами. Обуздание хозяев рабочие связывали с апелляцией к верховной власти, что явилось отличительной чертой рабочего движения в целом по России. Наглядным примером служит крупная стачка 1896 года в Петербурге. В мае состоялась коронация Николая II, и хозяева столичных предприятий объявили трехдневный выходной, но затем решили не оплачивать эти дни рабочим, что и послужило источником возмущения. В столице забастовало около 30 тысяч человек. Советская историография с гордостью сообщает, что стачку возглавил «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» («ленинское детище»). Его руководящая роль выразилась в распространении воззваний и листовок, сборе средств на помощь русскому рабочему классу в Европе (собрать ничего не удалось). В этом состоит анекдотичность ситуации: на оплате праздничных «коронационных» дней особенно настаивал петербургский пролетариат, считая любой другой исход оскорблением, прежде всего, по отношению... к императорской особе. Выходило, что В.И. Ленин с товарищами ратовали за выполнение требований пролетариата, возглавив борьбу за уважение к царю! Забастовки в Петербурге, вызванные конкретной причиной, ставили вопрос как об оплате вообще праздничных дней, так и о сокращении рабочего времени; завоеванные столичным пролетариатом уступки послужили примером для всего центрального региона. Петербургские события со всей наглядностью подтверждают следующий вывод об усилиях социал-демократов:
«Самое главное, чего добивались социал-демократы – овладеть рабочей массой, начать руководить ею, – не давалось партии. Рабочие и без руководительства энергично боролись с предпринимателями путем стачек; которые были подсказаны их собственным инстинктом, а потому социал-демократы продолжали играть лишь роль агитаторов, подхватывавших движение, старавшихся обострить его»[673]673
См.: Спиридович Л.И. Большевизм: от зарождения до прихода к власти. М., 2005. С. 98.
[Закрыть].
Выступления рабочих середины 80-х годов XIX века со всей остротой обозначили нужду в фабричном законодательстве. Его разработка диктовалась темпами развития российской промышленности. Правовые механизмы давали возможность хоть как-то цивилизовать трудовые отношения между хозяевами и рабочими. Собственно, уже с первой половины 1860-х годов в российской империи начали изучать различные их аспекты. Речь шла о сокращении продолжительности рабочего времени, ограничении труда малолетних, создании института фабричной инспекции и т.д. Разумеется, промышленные круги не испытывали энтузиазма от подобных начинаний, но потребность в них не могли не признать. И все-таки эти вполне обоснованные меры, инициируемые правительством, поддержали далеко не все. Перипетии и этапы становления фабричного законодательства в России хорошо известны[674]674
См.: Володин А.Ю. История фабричной инспекции в России. 1882-1914 годы. М., 2009
[Закрыть]. Однако контекст данной работы позволяет взглянуть на него несколько иначе, а именно как на сопротивление староверческой буржуазии центрального промышленного региона всем подобным нововведениям. Региональный аспект при утверждении фабричного законодательства просматривается явно. Так, будущий руководитель МВД В.К. Плеве, в середине 80-х годов XIX столетия занимавшийся рабочим вопросом, говорил о конструктивном подходе промышленников Петербурга, Лодзи, Юга, которые принимали все проекты правительства (об 10-11-часовом рабочем дне, о запрещении ночного труда, добровольности сверхурочной работы и т.д. ). И его, естественно, возмущала позиция московской буржуазии, откровенно заботившейся лишь о собственных выгодах и в штыки воспринимавшей любые инициативы в этой сфере[675]675
См.: Выступление Министра внутренних дел В.К. Плеве на заседании Государственного совета по делу об учреждении старост в промышленных заведениях. 7 мая 1903 года // РГИА. Ф. 1153. Оп. 1.Д. 153. Л.92об.
[Закрыть].
Фабрикантов Центрального региона раздражала обязанность заключать договоры найма с рабочими на основе расчетной книжки, где прописывались права и ответственность рабочего, определялся его заработок, обозначались взыскания и вычеты[676]676
См.: Туган-Барановский М. Русская фабрика. М., 1934. С. 323.
[Закрыть]. К примеру, на Богородско-Глуховской мануфактуре правилами внутреннего распорядка предусматривалось до 60 различных поводов к взысканиям[677]677
См.: Шелымагин И.И. Фабрично-трудовое законодательство в России. Вторая половина XIX века. М., 1947. С. 106.
[Закрыть]. Председатель Московского биржевого комитета Н.А. Найденов (глашатай местной буржуазии) оправдывал широкое применение всевозможных штрафов, рассматривая их в качестве инструмента по поддержанию производственной дисциплины, а также возмещения хозяевам ущерба от труда нерадивых работников[678]678
См.: Янжул И.И. О пережитом и виденном. 1864-1909 г. г. М., 2006. С. 223-224.
[Закрыть]. Обструкции подвергся также институт фабричных инспекторов; деятельность этих надзирающих органов сразу стала объектом постоянных жалоб и обвинений, а их создатель Министр финансов Н.X. Бунге (с легкой руки капиталистов из Первопрестольной) был даже объявлен социалистом, разорителем русской промышленности[679]679
См.: Мартов Л. Развитие крупной промышленности и рабочего движения. Пг. 1923. С. 27.
[Закрыть]. Московские консервативные газеты, отражавшие недовольство предпринимателей Центрального региона, постоянно держали под критическим прицелом инициативы финансового ведомства по рабочему вопросу. Они рассуждали о либеральной кабале, в которой оказалась русская индустрия, отданная на обуздание десятку профессоров и адвокатов, наделенных чуть ли не диктаторскими полномочиями. В этом духе высказывался М.Н. Катков в «Московских ведомостях», С.Ф. Шарапов в «Русском деле», Н.П. Гиляров-Платонов в «Современных известиях», Н.П. Лапин в «Русском курьере». Личным нападкам со стороны этих изданий подвергся московский фабричный инспектор И.И. Янжул[680]680
См.: Степанов В.Л. Н.X. Бунге. Судьба реформатора. М., 1998. С. 221.
[Закрыть].
Нововведения в рабочей сфере с трудом, но все же входили в жизнь: правительство ограничивало произвол, царивший на предприятиях. Новое поколение капиталистов-старообрядцев более терпимо относилось к введению фабричного законодательства. Это демонстрирует позиция представителя крупной московской буржуазии Н.А. Алексеева; с 1885 по 1892 год он избирался главой Московской городской думы, где являлся лидером молодого крыла купеческой фракции, контролировавшей этот орган. Во многом благодаря его усилиям удалось сломить сопротивление
Найденова и пойти на компромисс с правительством в ходе разработки закона 1886 года[681]681
См.: Янжул И.И. Указ. соч. С. 224.
[Закрыть]. Чтобы лучше понять суть происходившей борьбы, необходимо учитывать специфику экономики российских регионов, о которых идет речь. Владельцы петербургских, польских, южных предприятий развивали производства на сугубо классических предпринимательских принципах, в число которых входило и законодательное упорядочивание отношений с работниками. Классический капитал, и прежде всего иностранный, всегда откликался на правительственные усилия по регулированию наемного труда. Четкие правила, закрепленные в правовых актах, рассматривались как инструмент, без которого трудно улаживать производственные конфликты. Такие уступки были возможны, поскольку капиталисты из правящего класса располагали также целым набором эффективных инструментов развития: административный ресурс, доступ к бюджетным средствам, привлечение иностранного капитала позволяли им компенсировать потери от введения рабочего законодательства. К тому же, петербургские и лодзинские предприятия были гораздо лучше оснащены с технической стороны, что требовало соответствующего уровня квалификации работников. А потому здесь были не особенно заинтересованы в малоквалифицированной рабочей силе, неспособной обслуживать производство, и с готовностью шли на законодательные ограничения того же детского труда. Совсем другого взгляда на фабричное законодательство придерживались хозяева Центрального промышленного района. Они не видели в нем никакой необходимости, продолжая играть традиционную роль благодетелей рабочих (по большей части единоверцев), а фабрики считали своим семейным делом. Проблемы внутри собственных предприятий они намеревались решать самостоятельно, в русле традиций старообрядческих связей, а какой-либо сторонний надзор расценивали как вмешательство в их отношения с рабочими. Это и понятно: не обладая в полной мере конкурентными возможностями капитала, опирающегося на власть, промышленные верхи староверия делали ставку на выжимание соков из своих рабочих, и этим – основным – ресурсом повышения прибыльности они желали беспрепятственно пользоваться. Отсюда такая болезненная реакция на любые инициативы по введению контроля и регулирования в трудовой сфере.
* * *
В завершение данного раздела хотелось бы сделать одно замечание. В научной литературе, в том числе и зарубежной, прочно укоренилось мнение, будто в пореформенное время старообрядческое предпринимательство постепенно затухает, присутствие староверов в российском деловом мире становится менее заметным и к концу XIX века практически сходит на нет. Однако это сугубо внешняя сторона дела: действительно, число предпринимателей, открыто объявлявших себя приверженцами староверия, в этот период заметно уменьшается – потрясения 1850-х годов не прошли даром. Но исходить только из количественных данных, на наш взгляд, нельзя. (Это очень напоминает расхожее мнение о том, что купечеству не принадлежала главенствующая роль в городских думах. Численность купцов среди гласных, как известно, заметно уступала представителям интеллигенции, из чего некоторые специалисты и делали, казалось бы, логичные выводы. Но статистические выкладки не отражают того реального влияния, которым обладали купеческие тузы. Влияние в органах общественного самоуправления определялся финансовыми возможностями последних, а не просто численным перевесом гласных того или иного сословия). Читая о старообрядческом капитализме, растерявшем свои позиции, мы сталкиваемся с аналогичной ситуацией: в пореформенном капиталистическом ландшафте раскольничье купечество стало гораздо менее заметным, и соответствующих обобщений не избежать. Однако такой подход не только не проясняет положения дел, но и еще более отдаляет нас от понимания реальности.
К началу 60-х годов XIX столетия на российской экономической сцене появляется мощная сила, состоящая из фабрикантов Центрального региона и сформировавшаяся на ресурсах старообрядческой общности. Адаптация к новым капиталистическим реалиям неизбежно вела к угасанию ярко выраженного староверческого имиджа. Конечно, здесь уместна мысль о том, что утрата старообрядческой принадлежности была мнимой, вынужденной, а в действительности выходцы из раскола и не думали изменять вере. Может быть, во многих случаях именно так дело и обстояло, но все-таки намного важнее другие акценты. По нашему убеждению, отдаление части торгово-промышленной группы от раскольничьих корней (пусть даже и реальное) немногое решало. Вышедшие из крестьян капиталисты всегда вызывали пренебрежительное, в лучшем случае снисходительное, отношение со стороны дворянской аристократии, а для правительственной бюрократии их коммерческие интересы оставались на втором плане. Это отчуждение носило настолько устойчивый характер, что даже преображение раскольничьих предпринимателей в правоверных православных буржуа практически ничего не меняло. Обретение нового конфессионального статуса отнюдь не служило гарантией полноценного вхождения в правящую российскую элиту. В этом смысле можно говорить лишь об отдельных исключениях (как, например, староверы Демидовы, купившие титул Сан-Донато в Италии).








