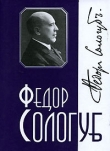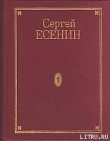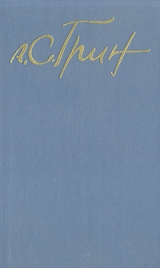
Текст книги "Том 3. Рассказы 1917-1930. Стихотворения"
Автор книги: Александр Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 48 страниц)
Брак Августа Эсборна
Посвящаю Нине Н. Грин
I
В 1903-м году, в Лондоне, женился Август Эсборн, человек двадцати девяти лет, красивый и состоятельный (он был пайщик судостроительной верфи), на молодой девушке, Алисе Безант, сироте, бывшей моложе его на девять лет. Эсборн недолго ухаживал за Алисой: ее зависимое положение в качестве гувернантки и способность Эсборна нравиться скоро определили желанный ответ.
Когда молодые приехали из церкви и вошли в квартиру Эсборна, всем было ясно, что гости и родственники Эсборна присутствуют при начале одного из самых счастливых совместных путей, начинаемых мужчиной и женщиной. Богатая квартира Эсборна утопала в цветах и огнях, стол сверкал пышной сервировкой, и музыканты встретили мужа и жену оглушительным тушем. Повеяло той наивной и эгоистической сердечностью, какая присуща счастливцам. Выражение лица Алисы Эсборн и ее мужа определило настроение всех – это были две пары блаженных глаз с неудержимой улыбкой своего внутреннего мира.
Все между тем обратили внимание на то, что после первого тоста, сказанного полковником Рипсом, Эсборн, склонив лицо к руке, которой вертел цветок, о чем-то задумался. Когда он поднял голову, в его глазах мелькнула упорная рассеянность, но это скоро прошло, и он стал шутить по-прежнему.
Когда ужин кончился и гости разъехались, Эсборн подошел к жене, посмотрел ей в глаза и, поцеловав руку, сказал, что выйдет из дома минут на десять для того, чтобы свежий воздух прогнал легкую головную боль. Закруженная всем этим днем, полным волнения и усталости счастья, Алиса неумело поцеловала Эсборна в склоненную голову и пошла к себе ожидать возвращения своего мужа.
Задумавшись, она сидела перед зеркалом, перебирая распущенные волосы и смотря в глубину стекла, где отражались ее широко раскрытые глаза. Здесь с ней произошла та ясная игра представлений, какая при воспоминании о ней подобна самой действительности. Алисе казалось, что ее жених-муж стоит сзади за стулом, но не отражается почему-то в зеркале. Такое чувство обеспокоило наконец молодую женщину; она встряхнула блестящими черными волосами и обернулась, хотя знала, что никого не увидит; и в тот момент часы на камине пробили полночь. Это значило, что прошел час, как вышел Эсборн, – час, исчезнувший в смуте и быстроте сменяющих одним другое напряженных чувств перемены судьбы.
Не зная, что думать, обеспокоенная женщина позвала слугу, попросила его обойти квартал и ближайший сквер, и когда слуга вернулся ни с чем, прошло еще полчаса. Между тем Алиса не могла найти места от тревоги. У нее было чувство, как если бы зимой открыли настежь все двери и окна в уютной квартире, впустив холод и тлен. Она позвонила в полицию уже около пяти часов утра, когда еле держалась на ногах. В полиции записали приметы исчезнувшего Эсборна и в быстром деловом темпе обещали принять «все меры».
В эту ужасную ночь Алиса похоронила свои мечты, мужа и свежесть ожидания счастливой душевной теплоты. Ее мозг получил сильное сотрясение. Еще два дня она ждала Эсборна, но утром третьего дня в ней как бы оборвался с страшной высоты последний камень, держась за который и изнемогая висела она над внезапной пустотой всего и во всем.
Она заболела, и ее, согласно ее желанию, перевезли в ее прежнюю комнату, в тот дом, где она служила гувернанткой. Хозяева приняли в ее судьбе исключительное участие. Когда она выздоровела, от брачной ночи у ослабевшей девушки остался испуг – боязнь звонка и стука в дверь. Ей казалось, что войдет он, уже немыслимый и отвергнутый… Что бы с ним ни случилось, Алиса не могла бы теперь простить Эсборну, что он покинул ее среди ее первых доверчивых минут, пусть это было предположено им даже на одну минуту.
Прошел год, другой. С ней встретился человек, которого тронула ее история, полюбил ее и стал ее мужем.
II
Когда Август Эсборн вышел на улицу, то он вышел по подмигивающему веселому приказанию беса невинной мистификации. Он был охвачен счастьем и жадно дышал воздухом счастья. Его голова на самом деле не болела, и он вышел лишь оттого, что во время речи полковника, пожелавшего новобрачным «провести всю жизнь рука об руку, не расставаясь никогда», представил со свойственной ему остротой воображения сильную радость встречи после разлуки. Он не был ни жестоким, ни грубым человеком, но случалось, что им овладевала сила, которой он не мог противиться, отчего объяснял ее как причуду. Это была несознанная жажда страдания и раскаяния. Эсборн вспомнил, как, еще мальчиком, любил прятаться в темный шкап и выскакивал оттуда, лишь когда тревога в доме достигала крайних пределов, когда слуги сбивались с ног, разыскивая его. Сам радуясь и терзаясь, с плачем кидался он к матери весь в слезах, как бы в предчувствии горя, какое было ему суждено пережить гораздо позднее.
Отойдя к скверу, Эсборн подумал, как обрадуется после короткого испуга Алиса, когда он вернется. Он намеревался побродить час, но, думая быстро обо всем этом, а потому и быстро идя, он с удивлением услышал, что пробило уже час ночи и на улицах становится все меньше народа. Он повернул и тотчас хотел вернуться, когда встретил это невидимое и неясное противодействие. Оно было в его душе. Это было то самое, на что, делая сами себе явный вред, женщины, не уступая доводам рассудка говорят с тоской: «Ах, я ничего, ничего не знаю!» – а мужчины испытывают приближение рока, заключенного в их противоречивых поступках. Он был испуган, расстроен своим состоянием, и ему пришло на мысль, что лучше явиться домой утром, чтобы избежать расстройства и тяготы всей остальной ночи, тем более, что утром он надеялся представить жене все как нелепую, случайно затянувшуюся выходку. Вначале принять такое решение было дико и нестерпимо, но выхода не было. Эсборн завернул в гостиницу, взял номер и, сказав вымышленную фамилию, вошел, как был, – во фраке, белом галстуке, с цветком, – в холодный мрачный номер.
Слуги подумали, что это гость из ресторана. Разрываемый мыслями о доме и своем положении, Эсборн оглушил себя бутылкой чистого виски и уснул среди кошмаров. Все время было при нем, с ним это тоскливое, мучительное противодействие – непокорная черная игла, направленная к его рвущемуся домой сердцу. Он забылся наконец сном и проснулся в одиннадцать. Тогда перед ним встал вопрос: «Что теперь делать?»
III
Он видел, что все погибло, погибает, и что если принять меры, то надо сделать это немедленно. Вчерашнее решение прийти сейчас, утром, оказывалось едва ли возможным. Девушка, проведшая ночь в слезах, страхе и стыде, если бы и поняла его крайним, самоотверженным усилием, то все же не совместила бы такого поступка с любовью и уважением к ней. Сбитый в мыслях, он возмутился против себя и против нее, все время повинуясь этой достигшей теперь болезненной остроты тайной центробежной силе, отдалявшей какое-либо нормальное решение. Он захотел написать письмо, но слова не повиновались так, как он хотел, и великое утомление напало на него при первом серьезном усилии. Эсборн был теперь, как перегоревший шлак, – так много он пережил за эти часы.
Эсборн провел рукой по глазам. Внезапно вспомнив, что должны думать о нем, он послал за газетой и, развернув ее, отыскал с злым изумлением заметку о загадочном исчезновении А. Эсборна при обстоятельствах, которые знал сам, но, читая, готов был усомниться, что Эсборн – это и есть он, читающий о себе.
Зло было сделано, непоправимое зло, и его любящей рукой был нанесен тяжкий удар невесте-жене. Он не мог бы теперь вернуться уже потому, что в Алисе навсегда остался бы страх перед его душой, о которой и сам он знал очень немного. И он не чувствовал себя способным солгать так, чтобы ложь имела плоть и кровь живой жизни.
Но, как это ни странно, мысли о невозможности возвращения несколько облегчили его. Он страдал больше, чем это можно представить, но имел мужество взглянуть б лицо новой своей судьбе. Постепенно его мысли пришли в порядок, в равновесие избитого тела, полубесчувственно распростертого среди темной ночной дороги.
Он переменил имя, открыл, что произошло, своему другу, взяв с него клятву молчать, и получил свои деньги из банка по векселям, выданным этому другу на его имя задним числом. Затем переехал в отдаленную часть города и занялся другим делом, пошедшим успешно. Эсборн стал «пропавшим без вести». Джон Тернер, заменивший его, вошел в жизнь и жил, как все. На память о происшествии ему остались рано поседевшие волосы и одна неизменная, причудливая мысль, связанная с Алисой – теперь Алисой Ренгольд.
IV
Он не мог думать о ней, как о чужой, и время от времени наводил справки о ее жизни, узнавая через частный сыск все главное. Он узнал о ее болезни, о потрясении, о выходе замуж. Причудливой мыслью Эсборна-Тернера являлось неотгоняемое представление, что он всегда с ней, в лице этого Ренгольда, служащего торговой конторы. Он был, про себя, ее настоящим мужем на расстоянии, невидимый и даже несуществующий для нее. По грубой канве сведений, доставляемых сыском, Эсборн создал картину ежедневного семейного быта Алисы, ее забот, чаяний. Он узнавал о рождении ее детей, волновался и радовался, когда жизнь текла спокойно в доме Ренгольдов, огорчался и беспокоился, если болели дети или наступали материальные затруднения. Это были не то мечты о доме, что могло и должно было совершиться в собственной его жизни, – не то беспрерывное мысленное присутствие. Иногда он воображал, что получится, если он придет и скажет: «Вот я», но сделать это, казалось, было так же невозможно, как стать действительно Джоном Тернером.
Так шло и прошло одиннадцать лет. На двенадцатом году безвестия Эсборн узнал, что Ренгольд уехал на шесть месяцев в Индию, и у него противу всех душевных запретов стало нарастать желание увидеть Алису. И в один день, в жаркий, изнемогающий от жары и неподвижности воздуха день, он поехал, как на казнь, к дому, где жила Алиса Ренгольд.
По мере того, как автомобиль мчал несчастного человека к невозможному, останавливающему мысли свиданию, ему казалось, что он мчится в глубь прошедших годов и что время – не более, как мучение. Жизнь перевертывалась обратным концом. Его душа трепетала в возвращающейся новизне прошлого. Тяжелый автоматизм чувств мешал думать. Весь вдруг ослабев, он поднялся по ступеням к двери и нажал кнопку звонка.
Он переходил от сна к сну, весь содрогаясь и горя, мучаясь и не сознавая, как, кто проводит его к раскрытой двери гостиной. И он перешагнул на ковер, в свет комнаты, где увидал подходившую к нему постаревшую, красивую женщину в серо-голубом платье. Сначала он не узнал ее, затем узнал так, как будто видел вчера.
Она побледнела и вскрикнула таким криком, в котором сказано все. Шатаясь, Эсборн упал на колени и, протянув руки, схватил похолодевшую руку женщины.
– Прости! – сказал он, сам ужасаясь этому слову.
– Я рада, что вы живы, Эсборн, – сказала, наконец, Алиса Ренгольд издалека, голосом, который был мучительно знаком Эсборну. – Благодарю вас, что вы пришли. Все эти годы… – упав в кресло, она быстро, навзрыд заплакала и договорила: – все годы я думала о самом ужасном. Но не сейчас. Уйдите и напишите, – о! мне так тяжело, Август!
– Я уйду, – сказал Эсборн. – Там, в моем дневнике… Я писал каждый день… Может быть, вы поймете…
Его сердце не выдержало этой страшной минуты. Он с воплем охватил ноги невесты-жены и умер, потому что умер уже давно.
Нянька Гленау
Рулевой Спринг заканчивал свою береговую отлучку в Коломахе, куда приехал из Покета по железной дороге. Там стояла его «Морская карета» – парусное судно в семьсот тонн, пришедшее с Филиппинских островов.
Спринг был родом из Коломахи. Здесь он провел свои молодые годы. Теперь ему было пятьдесят лет. Как большинство моряков, он остался холостяком.
Спринг пропил или проиграл жалование за два месяца, посетил некоторых и теперь, накануне отъезда в Покет, размышлял: «зачем ему понадобилась Коломаха?»
Кабаки Коломахи ничем не уступали таким же заведениям Покета, а знакомств в Покете у него было даже больше, чем здесь.
Обратясь к честной стороне памяти, он неохотно признал, что ему хотелось повидаться с конопатчиком Дезлем Гленау, от которого он года два назад получил письмо, извещающее о рождении у Гленау девочки.
«Надо было зайти, поздравить», – думал Спринг каждый день, но за множеством приглашений и угощений откладывал это дело на завтра, а «завтра» тоже было некогда.
Однажды выдалась свободная половина дня, то есть Спринг оказался трезвым случайно; но, сообразив положение, пошел и хватил бутылку.
«Нехорошо явиться нетрезвым, – думал он, – а завтра я воздержусь и непременно пойду».
Наконец он набрался решимости и отправился к конопатчику.
Это был дом в две комнаты с кухней; все помещения вытянулись по прямой линии, так что пройти в последнюю комнату надо было через кухню и первую комнату.
Спринг зашел в кухню. Ставни были закрыты по случаю палящего зноя. Двигаясь в полутьме, едва рассеиваемой тонким лучом в щель ставни, Спринг кашлянул и сказал:
– Встречайте Спринга. Кто дома? Я хочу видеть Гленау или его жену. Вы что, спите, что ли?
Постояв и передохнув, он прошел в первую комнату, где повторил свои возгласы с тем же успехом, как первый раз.
Ему стало неловко и скучно. Однако желая убедиться окончательно, Спринг прошел в последнюю комнату.
Здесь была такая же дневная тьма, как в остальных помещениях. Среди душной тишины тикал невидимый будильник, гудели потревоженные мухи.
Спринг подошел к смутно белевшему возвышению и с достоинством вгляделся в него, но не рассмотрел подробностей. Однако перед ним был действительно кисейный полог детской кровати; он свешивался с потолка и охватывал, как палатка, маленькое ложе с бортами, подвешенное между двух стоек. Кровать нервно качнулась.
«Отец и мать ушли, – подумал Спринг, – они ненадолго вышли, потому что здесь ребенок».
Он подвинул табурет и сел ждать.
За пологом не было ничего видно, но Спрингу казалось, что он различает рыжие волосы на маленькой голове.
– Ты спи, а я посижу, – сказал Спринг, опасливо косясь на таинственное сооружение. – Ссориться не будем, нет; драться тоже.
Внезапно кровать качнулась сильнее и заходила, как под раздраженной материнской рукой. Раздался ноющий звук, от которого у рулевого выступил пот.
– Спи, спи, – поспешно сказал гость, – акула далеко, в море, она не придет. Она ест тюленя. Ам, ам! вот и слопала. Так что не надо кричать.
Кровать перестала было качаться, но при последних словах Спринга понеслась быстрыми размахами взад и вперед, и плаксивый, безутешный писк послышался из-за полога. Струсив, что младенец разбушуется и тем поставит его в замысловатое положение, так как у него не было опыта в деле образумления разгоряченных детей, Спринг протянул руку под полог и начал тихо качать девочку, говоря:
– Ты не будешь есть тюленей. Нет. А только один шоколад. Го-го! Мы уж поедим шоколаду! Вот идет большой пароход, – двадцать тысяч тонн шоколаду. И все – тебе!
Так как он не мог представить ничего ослепительнее флотилии с шоколадом, то начал развивать эту тему, прислушиваясь к слезливым звукам, грозящим перейти в рев.
– И еще идет маленький пароход с шоколадом, – говорил Спринг, – а за ним большая шхуна. Вот там самый лучший шоколад. Мы все съедим. Давай нам еще! Все съели, больше нет. Везите нам из Бразилии, из Мексики. Шоколаду, черти такие-сякие! Да побольше! Этот нехорош – давай другого. Вот этот хорош. А акуле не дадим, пошла прочь!
Кровать сильно закачалась, и из-под нее вылез Дезль Гленау, заливаясь хохотом, от которого Спринг почувствовал себя так, как будто упал с табурета.
– Ну, здорово же ты меня кормил своим шоколадом! – вскричал Гленау, открывая ставни и хлопая затем Спринга по широким плечам. – Здорово! Слышал, что ты в Коломахе. А я лег, видишь, поспать, залез под полог, чтоб мухи не ели. Мать ушла с Полли к соседям. Я лежу там, пищу нарочно, а ты стараешься! У меня даже бока смокли, так я удерживался от смеха. Отчего ты не женился? Хорошая вышла бы из тебя нянька!
– Я однажды чуть не женился, – сказал Спринг, – и женился бы, только я знаю, что это дело сложное.
– Врешь! – сказал Гленау.
Это был рыжий человек с веселым лицом, худощавый и гибкий.
Разговор шел уже за столом в кухне перед бутылкой. Приятели сидели и выпивали.
– Лучше бы я соврал, – сказал Спринг, задумчиво смотря на Гленау, – …только я говорю правду. Здесь, в Коломахе, жила девушка; очень нуждалась. Лет пять назад. Я посватался. Она согласилась, и я пошел в море – скопить на хозяйство. На Борнео вышел скандал с малайцами, и один задел мне крисом [9]9
Малайский изогнутый нож.
[Закрыть]по глазу, и он вытек. Пропал глаз. Я вернулся и говорю ей: «Хочешь меня такого, как я есть?» – Она была деликатна. Я спорил. Тогда она призналась, что ей по душе один человек. Я, конечно, мешать не стал, так как это дело на всю жизнь, ну и… я, правду говоря, для нее стар.
– Экий ты дурак, Спринг, – заметил Гленау.
– Я и говорю, что дурак, – ответил рулевой очень серьезно. – Мне уж многие это же говорили.
Вошла жена Гленау, ведя девочку. Молодая женщина сделала большие глаза, потом весело улыбнулась и подала гостю руку.
– Вот дядя Спринг, Полли, – сказал Гленау дочери, которая уставилась на нового человека голубыми глазами отца, – он шоколадный король. У него целый склад шоколада!
В глазах Полли явно наметилось ожидание.
– Даже и купить забыл, – смущенно сказал Спринг, вспотев от досады на свою рассеянность. – Ты не подумай, Гленау…
– Ну что там! – сказал муж.
– Разве это так важно? – подхватила жена.
– Важно, – настаивал Спринг. – Потом я пришлю, не забуду.
Он погладил девочку по голове и стал прощаться. Гленау долго пытался удержать приятеля, но Спринг не остался, сославшись на то, что может опоздать к поезду. Жена Гленау, утомленная жарой, молчала, сдерживая зевоту.
– Хорошо, что зашел, не забыл, – сказал Гленау. – Увидимся еще в другой раз.
Он уже рассказал жене, как Спринг укачивал пустую кровать, и это вызвало общий смех, после которого наступило молчание.
– Прощайте, – сказал Спринг.
– Женись, непременно женись! – говорил Гленау, провожая товарища. – Он мне рассказал, Бетси, как…
Тут жена Гленау вспомнила, что со двора могут украсть пеленки, и вышла взглянуть на них, поэтому Гленау обратился к Спрингу.
– Кто же она? Я ведь знаю здесь всех. Или – секрет?
У Спринга чуть не сорвалось с языка: «Она пошла за пеленками», – но, смолчав об этом, он сказал:
– Ее теперь нет в Коломахе, – она куда-то уехала.
Потом он еще раз попрощался с хозяевами, поцеловал девочку и ушел.
«Зачем же я заходил? – подумал Спринг. – А ведь как тянуло пойти!»
Все же он был доволен, что зашел трезвый.
Личный прием
I
Старик умирал. Он был почти слеп; к своему положению он относился с несколько смешной гордостью человека, долго и досыта дышавшего жарким огнем жизни. Поэтому Маурей уважал его.
Дом, где они жили, стоял на границе двух пустынь – степи и леса. До ближайшего поселения вниз по реке было два дня пути. В этом поселении находился второй, еще более важный, чем свой – для Маурея, – дом с белыми занавесками. Там жила особа в заплатанных платьях, но, по мнению Маурея, достойная носить костюм из звездных лучей, – Катерина Логар.
Маурей кормился ружьем. Но этого было недостаточно, чтобы с рук его невесты сошли грубые, болезненные трещины и чтобы напряженное, заботливое выражение ее глаз стало спокойным. Поэтому он сделал вдвое больше ловушек для куниц и бобров, чем в прошлом году. Шкуры, добытые им, висели в кладовой, устроенной на высоком дереве. Месяц назад неизвестный вор, проходя этими местами в отсутствие Маурея, залез на дерево, взял шкуры и исчез, а Маурей после того просидел целый день, опустив в руки лицо.
Кто был старик, умиравший в его хижине, – охотник не знал. Его свезли на берег плотовщики; он выпросился плыть с ними, но заболел по дороге, введя тем веселых парней в мрачное настроение. Рассудив, что дела старика все равно плохи, они попросили его сесть в лодку и дождаться смерти на твердой земле.
– Я плыл в Аламбо, к родственникам, – сказал он Маурею утром, – у всякого человека должны быть родственники. Кое-кого я надеялся разыскать там.
Вечером он сказал:
– Подойдите и слушайте.
Маурей набил две трубки, но умирающий отказался курить.
– Сегодня я стану неподвижен, – продолжал старик, – не огорчайтесь этим, так как в свое время вы тоже станете неподвижным. Вы давали мне пить и есть в тяжелую для себя минуту. Я хочу вас поблагодарить.
– Напрасно, – возразил Маурей.
– Исполнение последней воли обязательно, поэтому спорить вам не приходится. В Аламбо живет известный миллионер Гордон.
– Я слышал о нем.
– Да. Когда он был беден, я дал ему взаймы, без векселя, тысячу золотых.
– Это хорошо.
– Затем он разбогател.
– На ваши деньги?
– Конечно. Это плут и делец. Затем я стал беден.
– Это плохо, – сказал Маурей.
– Пожалуй, – согласился старик. – И я потребовал вернуть мне деньги. С того дня, как я потребовал их, до сего дня прошло десять лет. Он не дал мне ни копейки.
– Почему?
– Этого я тоже не понимаю. Это какой-то психологический заскок, свойственный богатым, даже очень богатым.
– Что же теперь делать?
Старик вытащил карандаш, клочок бумаги и написал: «Тысячу золотых, взятых тобою, Гордон, когда тебе нечего было есть, отдай Маурею. Когда-то „твой“ Робертсон».
– Вот, получите, – сказал он, – деньги ваши. Он должен отдать.
– Но у вас, вероятно, есть наследники? – спросил Маурей.
– О нет! – Старик сделал попытку рассмеяться. – Нет, никого нет.
Маурей протестовал. Старик стоял на своем. Согласие было обеспечено сущностью положения.
– Хорошо, – сказал, наконец, охотник. – Что же передать еще Гордону?
– Что он подлец, – сказал умирающий, поворачиваясь к стене лицом; он заснул и более не просыпался.
II
Утром Маурей опустил его в землю, прикрыл могилу травой и, посидев несколько минут с клочком бумаги в руках, нашел, что ради Катарины Логар стоит проехать в Аламбо. Так как дело не расходилось у него с мыслью, он, взяв в мешок все ценное, то есть остаток шкур, нож и белье, сел вечером того же дня в лодку, а через четыре дня видел уже вертикальную сеть мачт, реявших вокруг белых с зеленым уступов города, спускавшегося к воде ясным амфитеатром.
Маурей привязал лодку к купальне, заплатил сторожу и поднялся в сверкающие асфальтовые ущелья города. По улицам переливалось экипажное и человеческое движение с той ошеломляющей, бархатистой напряженностью делового дня, какая мгновенно делает одиноким пришельца, доселе ждавшего, быть может, немедленного, приятного общения. Спросив раз десять, как пройти к Гордону, Маурей получил несколько противоположных указаний, следуя которым каждый раз попадал к затейливым огромным домам, – и все это были дома Гордона, но во всех этих домах его не было. Он был в каком-то еще одном, своем доме.
Наконец, исколесив половину города, Маурей нашел дом и в нем – Гордона. Он прошел железные кружевные ворота, аллею с огненными цветами и попал к раскинутому мостом подъезду, середина которого сверкала ярким небом зеркальных стекол.
Не видя никого, в то время как около дома вились эхом женские и мужские голоса, Маурей громко сказал:
– Эй! Есть ли кто живой здесь?
Молчание. Мимо его лица пролетела бабочка; деревья зеленели, цвели цветы, и не было никого. Маурей три раза повторил окрик, затем выстрелил в щебень дорожки. Камешки брызнули, как вода.
Тогда он увидел, что в глубине зеркальных выпуклостей подъезда мелькает, пропадая и торопясь, человеческая фигура.
Испуганный швейцар выбежал, хлопнул дверью и подступил к Маурею.
– Это вы выстрелили? – вскричал он, косясь и оглядывая с ног до головы смельчака. – Кто выстрелил? Что произошло здесь?
– Случайно зацепился курок, – сказал Маурей, кладя револьвер обратно. – Это вы – Гордон?
– Что?! Я Гордон?! Эй, любезный!..
– Простое, очень простое дело, – остановил его Маурей. – Нам нет причин ссориться. Если вы не Гордон, то проводите меня к Гордону.
– А вам зачем? Что у вас за дела с ним? Ступайте!
– Если у меня и есть дела, – сказал, начиная сердиться, Маурей, – то я скажу ему о том сам. А, вижу, вы – слуга. Только так бесится слуга, когда ему нечего сказать против законного желания. Я желаю видеть вашего господина.
– Милейший, – возразил швейцар, засовывая руки в карманы и показывая на лице глубочайшее оскорбление, – видеть Гордона – не совсем то, что поздороваться с пастухом. Гордон занят. Гордон никого не принимает. Гордон не примет даже второго Гордона, если такой объявится. Но если вы желаете увидеть Гордона – только увидеть, – то вы можете подежурить несколько у ворот. Через несколько минут Гордон выедет в свое загородное имение. Что же касается помощи, если о том речь, – то по это…
Единый удар массивной руки Маурея придал окончанию этого слова характер второго выстрела. Без звука, без сотрясения оглушенный швейцар пал. Маурей, вытирая о штаны руки, огляделся и, не видя никого, прошел в кусты. Здесь было так тревожно, прекрасно и тихо, как это бывает при сердцебиении ранним утром. Мгновенно оценив план, вызванный очевидностью положения и возникший непосредственно за ударом по швейцарской щеке, Маурей снова вышел, перенес бесчувственное тело заслуженно пострадавшего в свое цветущее убежище и заткнул ему платком рот, руки же и ноги перевязал обрывком ремня.
Эти приемы, свидетельствовавшие об опытности и хладнокровии человека, применившего их, казались сущими пустяками для Маурея, так как жизнь в лесах развивает предприимчивость и точность движений. Затем он стал ожидать так неподвижно, как если бы охотился на бобра. Немного погодя, из глубины заднего плана, эластически шелестя, скользнул к подъезду кабриолет; черная лошадь стала, картинно опустив морду к груди, а кучер в цилиндре с плюмажем увидел неизвестного человека, дружески кладущего ему на колено руку.
– С швейцаром плохо, – сказал Маурей, – помогите поднять.
– Тропке!.. – вскричал кучер. – А что? Где?
– Он здесь за деревьями. Его хватил солнечный удар, – взволнованно проговорил Маурей.
Кучер слез и пробежал в тень лучистой листвы; Маурей бежал рядом. Едва блеснул затылок лежащего ничком швейцара, как кучеру показалось, что он видит сон, где все качается и исчезает из глаз: сбив кучера с ног, Маурей быстро завязал ему рот шарфом и опутал тело лианой. Плотнее забив рот, чтобы не проскочило ни одного звука, он выдрал сквозь петли лиан весь выездной костюм, приговаривая, где надо, чтобы дело шло быстрее, мертвящие мозг слова. Как бы то ни было, когда он вышел и сел с хлыстом в руке, обтянутой лопнувшей перчаткой, на передок кабриолета, ничто не могло обнаружить какой-либо перемены.
Беглый взгляд Гордона, вышедшего к великому своему изумлению без швейцара, заметил, как всегда, только плюмаж и хлыст. Лиц слуг он не помнил. Но он стал замечать после некоторых сосредоточенных размышлений делового характера, что экипаж мчится уже в парке, далеко оставив за собой некстати и в стороне единственное шоссе Аламбо, по которому лежит недавно купленное имение.
– Кой черт! – сказал Гордон, притоптывая в кабриолете маленькой жирной ногой. – Почему вы сюда заехали?
Он оглянулся. Маурей стремительно искал глухого угла. Наконец, свернув с аллеи в поросший густой травой просвет, он разом остановил лошадь и обернулся к полуобморочному Гордону.
– Вот записка, – сказал он, тыча в осоловевшее багровое лицо клочок бумаги. – От Робертсона. Уплатить! Живо!
– Я… – начал Гордон.
Черный револьвер и белая бумага ставили ему выбор. Совсем близко от дула он нагнулся и прочел резкое завещание.
– Чек или деньги! – сказал Маурей. – Начало всему положил ваш швейцар. Он думал, что я нищий. Потом перестал спорить. Затем наступила моя очередь думать. Уже запахло вами, а я – охотник.
Наступила очередь третьего человека как бы видеть сон в залитой солнцем листве: что он, лижа сухим, горячим языком чернильный карандаш, выписывает чек; затем, вспомнив, что деньги в кармане, комкает, отсчитывает билеты.
– Что-нибудь… что-нибудь… этот славный… этот великолепный, чудеснейший… передать мне?! – пролепетал Гордон.
– Да, – спокойно сказал Маурей. – Что вы – подлец.
Затем стало тихо вокруг Гордона. Как бы проснувшись, он никого не увидел. Далеко, в дальних просветах аллеи двигались малые фигуры людей, а лошадь как лошадь – спокойно общипывала листву.