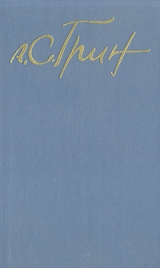
Текст книги "Том 3. Рассказы 1917-1930. Стихотворения"
Автор книги: Александр Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Знаешь, ведь я люблю.
– Но и я, черт возьми! Однако не любовь решает судьбу! Оставим это.
Он отвернулся к окну, выдохнув сигарный дым с силой, разбившей его о стекло круглым пятном.
С тоскливым, страстным вниманием смотрела женщина на того, кто был (назвался) Коллар. Мысли ее мешались. Наконец, воля одержала победу, и Шамполион, взглянув снова, не заметил и следа тонкой игры страстей, схлынувшей в глубину женской души.
– С.-Ж., – сказал кондуктор, проверяя билеты.
Полина подала свой. Один его угол был согнут.
– Есть здесь буфет, Коллар?
– Есть; это маленький городок.
– Ты знаешь?
– Да, я здесь был.
Приключение в тюрьме два года назад озарило его холодным воспоминанием. Останавливаясь, вагон вздрогнул; скрипнули тормоза.
Снова открылась дверь, пропустив трех кондукторов, и по непроизвольному движению их лиц, выдавших нападение прямым взглядом на руки Шамполиона, он мгновенно сообразил, что путешествие кончено. В купе было тесно. Один из сыщиков загородил своей фигурой Полину, Шамполион не видел ее. Было уже поздно думать о чем-либо. Его вязали и били; он вывертывался, как скользящая большая рыба в жадных руках, и изнемог. Ручные кандалы покончили дело. Выходя, в толпе, запрудившей проход, ослепленный волнением, он, задыхаясь, громко сказал:
– Где ты?
Ему ответил – ниоткуда и близко – мертвый, как стук, голос:
– Буду с тобой…
V
Палач грелся на кухне, неотступно думая о шее преступника с вялым, нудным содроганием раба, ждущего подачки и плети. Это был хмурый старик. Ему обещали сто франков и четверть срока. Он не смел отказаться. Кроме того, в его измученном тюрьмой сердце жила смелая надежда вернуться на три года скорее к заброшенным огуречным грядкам, забыв о маленьких девочках, плачущих всегда горько и громко.
Стояло холодное, темное и сырое утро. Шамполион не спал. К четырем часам его оставило мужество. Но не страх сменил стиснутую силу души, ее давила тяжесть – фатализм внешнего. Он сидел в камере 23, из которой два года тому назад был выпущен, как гордая птица, скромной и смелой девушкой. Город был тот, в котором его поймали тогда и теперь. Запыленная надпись на подоконнике, выцарапанная гвоздем, сделана была его скучающей, небрежной рукой; надпись гласила:
«Еще не пришел мой час».
«Еще» и «не» стерлись. Остальное потрясло приговоренного. Но к подоконнику, как к магниту, обращались его глаза, и с холодом, с непонятной жаждой мучительства он внимательно повторял их, вздрагивая, как от ножа.
Власти, боясь бегства, покончили с ним скоро и решительно. Скованный по рукам и ногам, Шамполион просидел только неделю. Суд приехал в С.-Ж., собрав наскоро обвинения по самым громким делам бандита, судьи выслушали для приличия защиту и обвинение и постановили гильотину.
Полины Шамполион больше не видел. Он думал, что ее держат в другой тюрьме. Представляя, как она перенесла известие о том, кто Коллар, он весь сжимался от скорби, но сам отдал бы голову за то, чтобы увидеть Турнейль. Надежды на это у него не было.
– Вина! – сказал он в окошечко.
Немного спустя дверь открылась. Казенная рука грубо протянула бутылку. Шамполион пил из горлышка. Настроение стало светлее и шире; искры бесшабашности заблестели в нем, смерть показалась жизнью… Вдруг тяжкий удар отчетливого сознания истребил хмель.
– Жизни! – закричал Шамполион. – Жизни вовсю!
Но припадок скоро прошел. Наступил счастливый момент безразличия, – разложения нервов. Шамполион сидел, механически покачивая головой, и думал об опере.
Состояние, в котором он находился, можно сравнить с несуществующим длительным взрывом. Малейший шорох волновал слух. Поэтому долгий ворочающийся звон ключа в двери заставил его вскочить, как от электрического заряда.
Он вскочил: за женщиной, прямо вошедшей в камеру, стояла тень в казенном мундире. Тень сказала:
– По особому разрешению.
Слов этих он не расслышал. Взмахнув скованными руками – единственный доступный ему теперь жест, – он бессознательно рванул кандалы. Нечто в лице Турнейль – не торжественность предсмертного свидания – молчание в ее лице – поразило его. Возвращая самообладание, он сказал:
– Полина?! Да, ты! Видишь?
Она молчала. Ненависть и любовь по-прежнему спорили в ее сердце, и самое памятное объятие не было памятнее короткого толчка в грудь.
– Я пришла, – холодно сказала она, заметив, что молчание становится тягостным, – увидеть вас снова, Шамполион, в том же месте, из которого когда-то освободила. Ведь я – Рене.
Он не сразу понял это, но когда наконец понял, в нем не было уже ни мыслей, ни слов – одни грохочущие воспоминания. Он стоял совершенно больной, больной неописуемым потрясением. Из глубины памяти, раздвигая ее смутные тени, отчетливо вышел образ закутанной в платок девушки; образ этот, стремительно потеряв очертания, слился с образом Полины Турнейль и стал ею.
– Вы предали… – страшась всего, сказал он, когда боль, усиливаясь, не позволяла более молчать.
– Да.
– Вы – Рене!
– Да.
– Знайте, – сказал он, помедлив и смеясь так презрительно, как смеялся в лучшие дни своего блестящего прошлого, – я снова оттолкнул бы вас… туда!.. прочь!..
Жалкая, измученная улыбка появилась на бледных губах Рене. Даже ее незаурядные силы давила тяжесть этой победы, в которой победитель, сражая самого себя, не просит и не дает пощады. Простить она не могла.
– Да, вы толкнули меня совершенно простым движением. В грязь. Я упала… и еще ниже. Я продавалась за деньги. Меня встретил Турнейль, я взяла остаток его чахоточной жизни и его миллионы. Почти все это ушло на вас, Шамполион. Лучшие сыщики помогали мне. Продался Вест и другие. Вас вели под руки с завязанными глазами к яме… но как это было дьявольски трудно, признаюсь! И вот вы упали.
– Сыщики? – недоверчиво спросил он. – Кто же? Не однобокие ли умом Гиктон и Фазелио?
– Все равно. Ждущие признания гении имеются и в этой среде.
– Может быть. Вы довольны?
– А? Я не знаю, Шамполион.
Она с трудом прошептала это, и он увидел, что глаза ее полны слез. Шамполион сел, понурясь. Тогда быстрым материнским движением она прижала его горячую голову к своей нежной груди и горько заплакала, а он, поборов опустошение души, тоже приник к ней, тронутый силой этой любви, нашедшей исход в ненависти, любви ненавидящей – чувстве ужасной сказки.
Рене встала.
– Отец умер, спился, – сказала она. – Мои мечты, те, с которыми я освободила тебя, ты знаешь, потому что знаешь меня. Прощай же! Когда ты… уходишь?
– С последним ударом пяти.
– Скоро придет священник.
– Он скажет мне о пустом небе.
– Наполним же его опрокинутую чашу последними взглядами. Ты помнишь мои слова в вагоне?
– Помню «Буду с тобой».
– И буду… и буду с тобой.
– Рене! – сказал он, останавливая ее. – Не дух ли ты? Кто пустил тебя сюда, в эту могилу?
– Те, кто имеет власть и знает мою судьбу.
Она вышла; ее последний взгляд воодушевил и успокоил Шамполиона. Он думал о закутанной девушке, лица которой хорошенько даже не рассмотрел, и о только что ушедшей женщине, которую потерял. Но казалось, что в сумраке начинающегося рассвета в камере с бледным огнем лампы еще длится ее невидимое присутствие.
Он приблизился к подоконнику и спокойно прочитал то, что не стирается никогда:
«…пришел мой час».
Рене была одна. Когда часы, висевшие против нее, начали отбивать пять и пробил последний, сильнее других прозвучавший удар, – удар вдали громко прозвучал в ней, вихрем сметая прошлое. Ее трясло, зубы стучали. Она выпила яд, крепко прижала к глазам мокрый платок и прилегла на диван.
Струя
В одном из подземных озер Западной Америки жили слепые рыбы. Они родились и выросли во мраке, так же, как отцы и матери их, как все их предки, кроме родоначальников этой породы. Когда-то, во времена седой рыбьей старины, несколько молодых, прытких рыб, шмыгая по Теллурийскому водопаду, оборвались и, чудом оставшись живы, попали сквозь глубокую трещину в подземный ручей. Ручей этот привел ошарашенных рыб к тому самому подземному озеру, с которого мы начинаем рассказ.
Рыбы живут долго. Через тридцать, сорок, а может быть, и сто сорок лет, – как можем мы знать это наверное? – невольные отшельницы совершенно ослепли. Ни малейшей искры света не проникало в глубину их черной воды, лишенной волны и ветра, течений и подводных растений. Глаза рыб разучились видеть. Они подернулись навсегда глухой белой пленкой; исчезло наконец и воспоминание о свете.
Когда-то, очень давно, в мрачные пещеры подземного озера спустилась компания натуралистов, исследователей горных пород, – и фотограф, снимая внутренность подземных пространств, зажег магний. Как молния белый свет ударил по засверкавшей воде, облил волнами искр сталактитовые колонны, обнажив даже выступы подводных камней, но старички равнодушно пошевеливали хвостом, по-прежнему ничего не видя; вода была для них такой же черной, как в первый день достопамятного путешествия сквозь роковую подводную трещину.
От этих злосчастных рыб пошли новые поколения. Они были не только слепы, но и не подозревали, что такое свет, лучи, краски, блеск воды. Старики, в минуты душевной слабости, любили вспоминать обо всем этом, но сами, как сказано, будучи бессильными мысленно представить свет, на все вопросы детей, внуков и правнуков могли лишь упорно шамкать: «Говорят вам, что от света светло».
Самой молодой, самой любопытной и нервной в подземной компании была рыбка Струя. Ее прозвали так другие рыбы за быстроту и резвость ее подводного хода.
Жизнь казалась ей ужасным сном. Глубокая тишина стояла в пещере и озере. Изредка лишь раскрошившийся от сырости камень падал, возбуждая гулкое эхо, в неподвижную воду, заставляя ее вздрагивать. Вечная тьма висела проклятьем над душой Струи. Она, правда, не имела ни малейшего понятия о свете, но думала, что должно же быть в мире нечто более радостное, чем черное большое «туда-сюда», в котором слышатся голоса рыб и чувствуется их то близкое, то далекое присутствие. Часто Струей овладевала тоска, тогда она бесцельно и долго путешествовала из пещеры в пещеру.
Другие рыбы относились к Струе, как к существу безнадежно безумному. Они обыкновенно стояли кучей, обсуждая семейные дела, заводя никчемные споры, или спали до одурения.
Но вот заговорил вулкан «Бешеный Рот», сто лет дремавший неподалеку от подземного озера. Он загрохотал, затрясся, изрыгнул тучи дыма и пепла, залился огненной лавой и всколебал землю. Ее недра разверзлись. Осели и расползлись горы, взгорбились долины, реки изменили течение, и из подземных пещер хлынуло освобожденное озеро. Почти все население его погибло при этом. Струя только помнила, что ее подняло, завертело, помчало… она лишилась сознания, а очнувшись, почувствовала, что прежней жизни конец. Началось нечто изумительно новое.
Рыбку нашу силой перемещения воды забросило в небольшую реку, протекающую среди болот и степей.
Да, было чему изумиться!
Во-первых, почувствовала она, что должна удерживаться, работая плавниками, на месте, если не хочет бесполезно следовать движению текучей воды. Во-вторых, дышать здесь было невыразимо приятно, сквозь жабры проходила щедро насыщенная кислородом, нежно пахнувшая вода. Черное «туда-сюда» осталось, конечно, но стало неузнаваемым. Мягкое дно, гибкие, послушные толчкам водяные растения, плеск струи, шум ветра, запах береговых цветов, бодрые голоса стремительных рыб и еще множество разных звуков, никогда не слыханных, наполнили сердце Струи неизведанным восхищением.
Если бы она прозрела, то увидела бы яркий полдень зеленой степи и над собой – изумрудно сверкающий покров неба, блестящего сквозь желтоватую воду.
Струя ничего не видела. Она робко, в тихом молчаливом восхищении прижималась к осоке и старалась понять смысл чуда.
Милочка, – сказала ей пробегающая форель, – ты откуда взялась?
– А где я? – ответила вопросом Струя.
– Как где? Понятно, в реке «Буль-буль».
– Не знаю, – сказала слепая. – Я жила раньше в нашем «туда-сюда», под землей. Ты кто?
– Посмотри хорошенько, невежа!
– «Посмотри». Я не могу посмотреть.
– Ба! Да ты слепая?! – сказала форель. – Совершенно удивительное событие. Как же так?
– Да так.
– Эй, эй, рыбы, идите сюда! Вот слепая из-под земли! – закричала форель.
На зов ее собралось много народа. Трудно описать общее удивление. Струю оглушали словами. Едва она успевала вставить слово, как весь хор любопытных созданий перебивал ее новыми вопросами о прошлом или же беспорядочными сведениями о реке «Буль-буль».
Только поздней ночью разошлось общество, оставив Струю взволнованной и печальной. Она ведь не могла все-таки не понять, что рыбы, живущие в «Буль-буль», обладают неизвестным для нее чудесным даром, от которого хорошо. Дар этот они называют зрением. У кого он есть, тот может, не сходя с места, знать, что есть вокруг него. И еще что-то… Краски, оттенки… Голубое, желтое, белое… Да. Что-то разное.
У нее ничего этого не было.
Ей не спалось, и она грустно думала, что новый мир останется для нее, слепой, таким же темным и безотрадным, как воды пещер.
И она повторила слова, сказанные недавно форели:
– У нас там темно. Невесело у нас, плохо. Здесь мне тоже темно.
– Завидуешь? – спросил ее с берега ночной Гном, умевший читать мысли рыб и бабочек. Он занимался починкой сломанного колокольчика. Колокольчик охал и нервничал.
– Да замолчи ты, лиловая пустота! – вскричал Гном. – Дай же поговорить!
– Я не завидую, – сказала Струя. – Какой смысл завидовать? Ведь оттого, что этим рыбам хорошо смотрится, мне все равно лучше не станет. Нет, я рада, что есть такие, не похожие на меня рыбы, которые видят.
– Как? – сказал Гном. – Теперь восходит солнце. И не разбирает тебя злоба, что другие видят волшебные чудеса облаков, а ты тыкаешься головой в дно?
Струя пожала плавниками.
– Пусть другие будут другими, а я останусь, какова есть.
Как только она сказала это, Гном засмеялся, уронил с крошечного своего пальчика чудодейственное кольцо и хлопнул в ладоши.
Кольцо тронуло оба глаза Струи, и рыба прозрела.
Так начала жить в светлых водах рек красная и шаловливая рыбка форель-хариус, известная всем. Эту ее историю составил Гном, рукопись переписывал на машинке жук-водолаз и отправил в редакцию. Редактор было не поверил столь чудесной истории, но, наведя справку у свидетеля – Лилового колокольчика, убедился, что Гному, в серьезных случаях жизни, можно и должно верить.
Пешком на революцию
I
– А теперь, Александр Степанович, – сказал финн Куоколен, входя в мою маленькую халупу, где, стоя у раскаленной плиты, производил я некоторые кулинарные опыты, – в Петроград вы не попадете. Движение поездов остановлено. В Петрограде резня.
Станция, где я жил, находится в 72 верстах от Петрограда. Дача моя стоит в лесу, минутах в 10 ходьбы к станции. Чувство отрезанности было у меня и до прекращения поездного движения. Теперь же, выслушав Куоколена, я испытал нечто, вроде того, как если бы меня среди бела дня неожиданно связали по рукам и ногам, заперли в темный угол и оставили одного, бросив на прощанье несколько загадочно страшных фраз. Неизвестность происходящего в Петрограде тянула меня в столицу с силой неодолимой.
– Еще можно, может быть, – сказал финн, – застать четырехчасовой поезд, – он стоит на разъезде, потому что лопнула ось товарного вагона. Вагон снимут, и поезд двинется. Торопитесь, но знайте, что это последний поезд и идет он все равно только до Оллила.
Оллила – последняя, перед Белоостровом, станция – от Выборга. Я надел шляпу, пальто, сунул в парусиновую финскую котомку 2 кило баранок, булку и 1/4 ф. масла и побежал к станции.
Здесь я застал, у телефонного аппарата, сторожа-финна, говорившего с Перкиярви, но не застал поезда. Шум его колес уже стихал в лесистой дали. Перкиярви сказала сторожу, что поездов действительно больше не будет, а сторож сообщил это мне и неизвестному молодому человеку в очках, с бледным лицом, одетому по-лыжному, во все вязаное и шерстяное.
Молодой человек, оказавшийся заведующим поставкой строительных материалов, проявлял необычайное волнение. То он торопливо советовался о чем-то с подвластным ему мужиком, то пытал сосредоточенно, угрюмо молчащих финнов расспросами о поездах, часах, расстояниях и т. д. Под мышкой у молодого человека был сырой телячий окорок, обернутый газетной бумагой. Незнакомец горячо говорил о своем решении идти – «когда так» – пешком [в] Петроград (больная жена), а так как я, с котомкой за спиной, уже приготовился к этому, то мы познакомились и, привязав окорок к спине молодого человека целой сетью бечевок, тронулись в путь, – около семи часов вечера.
В состоянии крайнего нервного возбуждения зашагал я меж уныло черневших рельс. Канишевский, новый знакомый мой, шел впереди, – бедняга оказался туберкулезным, простреленным на позициях, и физически вообще слабым; удобнее поэтому было мне соразмерять свой шаг с его шагом, имея спутника впереди, чем ему догонять меня, шагающего довольно быстро. Давно уже не приходилось мне предпринимать пешие путешествия. Десять лет малоподвижной городской жизни сделали пеший конец от Знаменской до Адмиралтейства изнурительным, сложным – с остановками – переходом, но нервный заряд – громовая Петроградская новость – внезапно вернул телу всю ег[о] сухую прежнюю легкость и напряжение. Я чувствовал, что могу пройти сто, двести и триста верст, как в старые времена, когда в качестве «пожирателя шпал» ходил, гулял из Саратова – в Самару, из Самары – в Тамбов и так далее.
По дороге, среди разговора, выяснили мы два обстоятельства: первое, что телячий окорок режет бечевками плечи Кашиневского, и второе – что в Белоострове могут не пропустить через границу.
Последнее было страшно, потому что, будь так, мы бесполезно промаршировали бы тридцативерстнос, до русской границы, расстояние, считая столько же, но с отвратительным чувством бесцельности – назад. Мы поворачивали это обстоятельство всячески, рассматривали его в худую и хорошую сторону, спорили, раздражались и, наконец, предоставили все судьбе, решив идти до тех пор, пока хватит сил и сообразительности.
Первой станции мы достигли ровно через час; выпили по стакану кофе, подложили на ключицы Кашиневского тампоны из газетной бумаги, чтобы не впивались бечевки, и выслушали торжественные резоны начальника станции, поклявшегося, что если мы и попадем в Петроград, то только: ногами вперед.
Кстати сказать, до самых Озерков преследовали нас слухи самого ошарашивающего свойства. Говорили, что взорваны все мосты, что горит Коломенская часть, Исаакиевский собор и Петропавловская крепость, что город загроможден баррикадами, что движется на Петроград свирепая кавказская дивизия и что каждому человеку дают в руки ружье.
Бери и иди с нами.
Сквозь все эти топографические и бытовые подробности ясно просвечивало общее, громогласное мнение: «идти в Петроград – идти на верную смерть».
Отдохнув, мы тронулись дальше. Поднялся резкий, в лицо, морозный ветер, светила луна. Моя левая, разорванная где-то по дороге, калоша сползала и щелкала, как персидская туфля. Мы переходили с левой пары рельс на правую и обратно, в зависимости от того, как и где лежал снег – плотно или рыхло. Во время этих переходов я чуть не попал под товарный поезд, налетевший сзади, из Выборга. Кашиневский схватил меня за руку и толкнул – я проскочил в трех шагах от зловеще засиявшего фонарями паровоза. Но и Канишевскому пришлось броситься в снег, чтобы уцелеть.
Товарных поездов и отдельных паровозов пробегало вообще очень много в эту ночь, и к Выборгу и к Белоострову. Мы часто принимали далекие их, впереди, огни за огни станций. В грохочущей быстроте и обилии их чувствовалось смятение. Кое-где, на станциях, финны говорили:
– Что же мы – смотреть будем? Мы тоже бастуем, вот – поезда пассажирские остановили, а там посмотрим.
Одно загадочное обстоятельство отметил я по дороге. С начала войны вблизи каждой станции, на путях и у всех самых ничтожных мостов стояли часовые-солдаты. В эту ночь мы нигде не встретили часовых. Они словно провалились сквозь землю.
Однако, пройдя еще две или три станции, мы, зная, что по полотну ходьба воспрещается, и опасаясь попасть под пули этих самых несуществующих часовых, почувствовали себя не совсем ловко. Решив продолжать путь дальше по шоссе, а не по рельсам, мы, заметив в стороне несколько темных строений, постучали в первый подвернувшийся дом. Окно осветилось, открылась дверь. Нас встретил ни слова не понимающий по-русски пожилой финн[,] с которым бились мы не менее получаса, пытаясь узнать, как выбраться на шоссе. Я изображал, на столе, пальцами, шагающего человека, подражал звону колокольчика: «Динь-динь-динь», – рисовал на бумажке извилистую полоску – шоссе, и прямую – рельсы, затем, указывая первую, приятно улыбался, закатывая, как тенор, глаза, а показывая вторую – хмурился и мотал головой. Ничего не помогало. «Эйо юмора» – «не понимаю», – твердил терпеливо финн, посматривая на нас так безучастно, как будто двое полузамерзших людей с баранками и телятиной за плечами являлись к нему по нескольку раз в ночь, давно и основательно надоев. Наконец, устав, мы ушли – на те же сумрачные, лунные, морозные рельсы.
Я остановился закурить папиросу и увидел бегущего, догоняющего нас человека. В полутьме трудно было рассмотреть, кто это, и я решил, что к нам бежит часовой, с намерениями весьма суровыми. Но я ошибся. Подбежавший оказался третьим пешеходом – матросом Балтийского флота. Он гостил на той же станции, где жил я. Узнав, что на Петроград вышли два пешехода, матрос, компании ради, пустился догонять нас. С ним был только маленький узелок – новые ботинки жене. Матрос мгновенно ободрил нас, сильно уже уставших и приунывших. Весь его вид, тон, голос, стремительная решительность и простое отношение к слухам – как к слухам – ясно говорили, что «не так страшен черт, как его малюют». Шел он быстро, мелким, прямым шагом, и спотыкающийся от усталости Канишевский начал все чаще просить – «не идти так скоро».
Вскоре после встречи с матросом, за зеленым огнем семафора, вышли мы к станции Райволо.
Здесь ожидало нас невыразимо приятное известие: шел самый последний, запоздавший почтовый поезд; шел до Белоострова; купив в кассе билеты, восторженно обменялись мы по этому случаю приветствиями и ликующими соображениями. Еще бы! Поезд сокращал наше пешеходство на целых двадцать верст!
Минут через десять мы сидели уже в теплом вагоне третьего класса, а еще через пятнадцать минут нас безжалостно высадили в Куоккало – предпоследней, от границы, станции. Поезд дальше не шел.
II
На станции застали мы множество пассажиров, ссаженных с последних двух поездов. Были тут дамы, офицеры, студенты, рабочие, толстые человеки в шубах и совершенно неопределимые личности. Большинство топталось, не зная, где приткнуться, присесть: все скамьи и часть пола у стен были заняты обескураженными, угрюмо молчащими пассажирами. Кой-где собирались шепчущиеся, раздраженные кучки, иные бродили по вокзалу, расспрашивая, нельзя ли достать на Петроград лошадей. Не было не только лошадей, но и свободных номеров в местных гостиницах. Калишевский, сильно усталый, растянулся на столе, с телятиной под головой, я мрачно сидел у стены, прожевывая баранку. Опрос пассажиров заставил нас приуныть: нам сказали, что граница всегда, как правило, закрыта до 6-ти утра и что нет смысла идти к Белоострову теперь, глухой ночью. Яд слухов растекался по станции. Матрос исчез. Вдруг он появился в компании человек пятнадцати солдат и рабочих.
Ну, пойдемте, – сказал он, – врут это, пустое все, граница открыта. Я уж узнал, идем, что ли? Я это потому, что уговорились вместе быть, значит, не бросать же товарищей.
Прислушавшись к внутреннему голосу, редко обманывавшему меня, я решительно поднялся и окрикнул дремавшего Калишевского. Он встал и присоединился, тут же присоединилось к нам несколько человек в шубах и три дамы. Все пошли быстро, гуськом и парами, как придется. Об этой, десятиверстной, части пути до Белоострова могу я сказать только, что механически передвигал замерзшие ноги, смотрел в чью-то спину и слышал, как скрипит, по снегу, взади и впереди, множество угрюмых шагов.
Дамы и толстые шубные человеки отстали от нас в Оллило. Засияла далекая, красивая в черной дали, иллюминация разноцветных Белоостровских огней. Нырнув куда-то вниз, вбок от моста, предстали мы целой толпой перед постовым дежурным жандармом, который, смущенно осмотрев паспорта наши, отправил нас с солдатом, предварительно точно пересчитав всех, к дежурному жандармскому ротмистру.
В помещении, куда мы попали, теплом и светлом, было человек двадцать жандармов, смотревших на нас кротко, но удивленно.
Едва начались расспросы, как вышел ротмистр, молодой, испуганный человек с плотным сырым лицом.
– Что такое?
– В Петроград.
– Не имею права, – нет, нет, не имею права. И помните – идите теперь по шоссе, – на линии вы можете попасть под расстрел.
Последнее мы приняли к сведению, поднялись и вышли, сопровождаемые жандармом, указавшим, как пройти на шоссе. В дальнейший путь отправилось нас всего шестеро – мы трое, прежние, да еще три солдата, остальные, струсив, остались на Белоострове.
Дальнейшее – до ясного, солнечного незабвенного утра в Озерках, Удельной, Ланской, Лесном и Петрограде – припоминается мною смутно, сквозь призму морозного окоченения, смертельной усталости и полного одурения. Мы то шли, изредка поворачиваясь спиной к ветру, чтобы отогреть нос, то бежали, то пытались достучаться в какую-либо из бесконечно тянущихся по Выборгскому шоссе дач, чтобы обогреться и покурить. Где-то на мрачном, писчебумажном заводе удалось мне встретить незапертую дверь коридора квартиры управляющего; небритый, страшный, вошел я на кухню и насмерть перепугал своим появлением девушку, сестру управляющего. Наспех она оделась, наспех выслушала мои извинения, а я, наспех же выкурив в тепле папиросу, выскочил догонять спутников.
Светало, когда в чайной, близ Парголова, за горячим чаем, свининой и ситным, мы несколько отошли. Но беспокойство гнало вперед. В Парголове было еще тихо, а от Шувалова до Петрограда Выборгское шоссе представляло собой сплошную толпу. В ней мы постепенно растеряли друг друга. От Озерков я шел один. По дороге я видел: сожжение бумаг Ланского участка, – огромный, веселый костер, окруженный вооруженными студентами, рабочими и солдатами; обстрел нескольких домов с засевшими в них городовыми и мотоциклетчиками, шел сам, в трех местах, под пулями, но от усталости почти не замечал этого. Утро это, светлое, игривое солнцем, сохранило мне общий свой тон – возбужденный, опасный, как бы пьяный, словно на неком огромном пожаре. Железнодорожные мосты, с прячущейся под н[ими] толпой, осторожные пробеги под выстрелами пешеходов, прижимающихся к заборам; красноречиво резкие перекаты выстрелов, солдаты, подкрадывающиеся к осажденным домам; иногда – что-то вдали, – в пыли, в светлой перспективе шоссе, – не то свалка, не то расстрел полицейского – всего этого было слишком много для того, чтобы память связно восстановила каждый всплеск волн революционного потока. Пройдя гремящий по всем направлениям выстрелами Лесной, я увидел на Нижегородской улице, против Финляндского вокзала, нечто изумительное по силе впечатления: стройно идущий полк. Он шел под красными маленькими значками.
Около двенадцати дня я сел на диван в гостиной доброго знакомого, дожидаясь любезно предложенного мне стакана кофе. Кофе этот я пил во сне, так как не дождался его. Ткнувшись головой в стол, я уснул и проспал восемнадцать часов.








