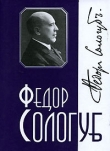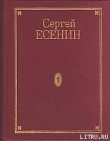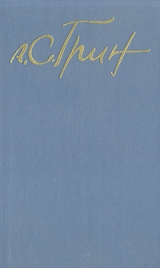
Текст книги "Том 3. Рассказы 1917-1930. Стихотворения"
Автор книги: Александр Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 48 страниц)
По закону
I
Наконец я приехал в Одессу. Этот огромный южный порт был, для моих шестнадцати лет, – дверью мира, началом кругосветного плавания, к которому я стремился, имея весьма смутные представления о морской жизни. Казалось мне, что уже один вид корабля кладет начало какому-то бесконечному приключению, серии романов и потрясающих событий, овеянных шумом волн. Вид черной матросской ленты повергал меня в трепет, в восторженную зависть к этим существам тропических стран (тропические страны для меня начинались тогда от зоологического магазина на Дерибасовской, где за стеклом сидели пестрые, как шуты, попугаи), все, встречаемые мной, моряки и, в особенности, матросы в их странной, волнующей отблесками неведомого, одежде, – были герои, гении, люди из волшебного круга далеких морей. Меня пленяла фуражка без козырька с золотой надписью «Олег», «Саратов», «Мария», «Блеск», «Гранвиль»… голубые полосы тельника под распахнутым клином белой, как снег, голландки, красные и синие пояса с болтающимся финским ножом или кривым греческим кинжальчиком с мозаичной рукояткой, я присматривался, как к откровению, к неуклюжему низу расширенных длинных брюк, к загорелым, прищуренным лицам, к простым черным, лакированным табакеркам с картинкой на крышке, из которых эти, впущенные в морской рай, безумно счастливые герои вынимали листики прозрачной папиросной бумаги, скручивая ее с табаком так ловко и быстро, что я приходил в отчаяние. Никогда не быть мне настоящим морским волком! Я даже не знал, удастся ли поступить мне на пароход.
Довольно сказать вам, что я приехал в Одессу из Вятки. Контраст был громаден! Я проводил дни на улицах, рассматривая витрины или бродя в порту, где, на каждом шагу, открывал Америку. Здесь бился пульс мира. Горы угля, рев гудков и сирен, заставляющий плакать мое сердце зовом в Америку и Китай, Австралию и Японию, – по океанам, по проливам, вокруг мыса Доброй Надежды! Вот когда география совершила злое дело. Я рылся в материках, как в щепках, но даже простой угольный пароход отвергал мои предложения, не говоря уже о гигантах Добровольного флота или изящных великанах Русского общества. Было лето, стояла удушливая жара, но, в пыли и зное, обливаясь потом, выхаживал я каждый день молы, останавливаясь перед вновь прибывшими пароходами и, после колебания, взбирался на палубу по трапу, сотрясаемому шагами грузчиков. Обычно у трюма, извергающего груз под грохот лебедки, под отчаянный крик турка: «Вира!» или «Майна!», торчала фигура старшего помощника с накладными в руках, и он, выслушав мой вопрос: «Нет ли вакансии», – рассеянно отвечал: – «Нет». Иногда матросы осыпали меня насмешками, и, должно быть, действительно казался я смешон с моей претензией быть матросом корабля дальнего плавания, я, шестнадцатилетний, безусый, тщедушный, узкоплечий отрок, в соломенной шляпе (она скоро потеряла для меня иллюзию «мексиканской панамы»), ученической серой куртке, подпоясанный ремнем с медной бляхой и в огромных охотничьих сапогах.
Запас иллюзий и комических представлений был у меня вообще значителен. Так, например, до приезда к морю я серьезно думал, что на мачту лезут по ее стволу, как по призовому столбу, и страшился оказаться несостоятельным в этом упражнении. Рассчитывая, по крайней мере, через месяц, попасть в Индию или на Сандвичевы острова, я взял с собой ящичек с дешевыми красками, чтобы рисовать тропических птиц или цветы редких растений. Поступить на пароход казалось мне так же легко, как это происходит в романах. Поэтому крайне был озадачен я тем, что на меня никто не обращает внимания, и ученики мореходных классов, красивые юноши в несравненной морской форме, которых я встречал повсюду, казались мне рожденными не иначе, как русалками, – не может обыкновенная женщина родить такого счастливца.
II
Подъезжая к Одессе, я разговорился в вагоне с подозрительным человеком. На мой взгляд, он был опасный международный авантюрист, из тех, что хладнокровно душат старух, присваивая бриллианты и золото. Поэтому я отправился в соседнее купе, чтобы предупредить там пожилую еврейку с большим количеством багажа. С ней я тоже свел знакомство. Вообще в поезде все знали, что я еду «на море», и я у всех допытывался, как поступить на пароход. Я сказал ей, чтобы она остерегалась, так как рядом со мной сидит несомненный жулик. Она горячо благодарила меня и, кажется, поверила.
Все произошло оттого, что я никогда не видел таких людей, как этот самоуверенный, хлыщеватый господин с остроконечной бородкой, в золотом пенсне, щегольском клетчатом костюме, лиловых носках и желтых сандалиях. Он так разваливался, картавил, делал такие капризные широкие жесты, что я принял его за мошенника благодаря еще обилию брелоков и колец, так как читал, что червонные валеты унизываются драгоценностями. Между тем это был всего-навсего главный бухгалтер Одесской Мануфактуры Пташникова, человек безобидный и добрый. Узнав, что я еду с одним рублем, что о море и морской жизни имею не более представления, чем о жизни в пампасах, он дал мне письмо к бухгалтеру Карантинного Агентства Русского Общества с просьбой обратить на меня внимание. Но, до момента вручения письма, я был непоколебимо уверен, что письмо заключает какую-то ловушку или страшную тайну, хранить которую меня обяжут под клятвой, угрожая револьвером. Однако именно благодаря этому письму второй бухгалтер устроил мне приют и полное матросское содержание, – правда, без жалованья, – в так называемой «береговой команде».
«Береговой командой» были матросы, кочегары и, другие мелкие служащие Общества, почему-либо неспособные временно находиться на корабле. Это был полулазарет-полубогадельня. Можно здесь было встретить также загулявшего и отставшего от рейса матроса или живущего в ожидании места какого-нибудь старого служащего. Всего жило человек двадцать, по койкам, как в казарме; днем, кто хотел, работал носильщиком в складах пристани, а ночью нес очередную вахту около пакгаузов Общества.
Отсюда-то и совершал я свои путешествия в порт, упиваясь музыкой рева и грома, свистков и криков, лязга вагонов на эстакаде и звона якорных цепей, – и голубым заревом свободного, за волнорезом, за маяком синего Черного моря. Я жил в полусне новых явлений. Тогда один случай, может быть незначительный в сложном обиходе человеческих масс, наполняющих тысячи кораблей, – показал мне, что я никуда не ушел, что я – не в преддверии сказочных стран, полных беззаветного ликования, а среди простых, грешных людей.
III
В казарму привезли раненого. Это был молодой матрос, которого товарищ ударил ножом в спину. Поссорились они или, подвыпивши, не поделили чего-нибудь – этого я не помню. У меня только осталось впечатление, что правда на стороне раненого, и я помню, что удар был нанесен внезапно, из-за угла. Уже одно это направляло симпатии к пострадавшему. Он рассказывал о случае серьезно и кратко, не выражая обиды и гнева, как бы покоряясь печальному приключению. Рана была не опасна. Температура немного повысилась, но больной, хотя лежал, – ел с аппетитом и даже играл в «шестьдесят шесть».
Вечером раздался слух: «доктор приехал, говорить будет».
Доктор? Говорить? Я направился к койке раненого.
Доктор, пожилой человек, по-видимому, сам лично принимающий горячее участие во всей этой истории, сидел возле койки. Больной, лежа, смотрел в сторону и слушал.
Доктор, стараясь не быть назойливым, осторожно и мягко пытался внушить раненому сострадание к судьбе обидчика. Он послан им, пришел по его просьбе. У него жена, дети, сам он – военный матрос, откомандированный на частный пароход (это практиковалось). Он полон раскаяния. Его ожидают каторжные работы.
– Вы видите, – сказал доктор в заключение, – что от вас зависит, как поступить – «по закону» или «по человечеству». Если «по человечеству», то мы замнем дело. Если же «по закону», то мы обязаны начать следствие, и тогда этот человек погиб, потому что он виноват.
Была полная тишина. Все мы, сидевшие, как бы не слушая, по своим койкам, но не проронившие ни одного слова, замерли в ожидании. Что скажет раненый? Какой приговор изречет он? Я ждал, верил, что он скажет: «по человечеству». На его месте следовало простить. Он выздоравливал. Он был лицом типичный моряк, а «моряк» и «рыцарь» для меня тогда звучало неразделимо. Его руки до плеч были татуированы фигурами тигров, змей, флагов, именами, лентами, цветами и ящерицами. От него несло океаном, родиной больших душ. И он был так симпатично мужествен, как умный атлет…
Раненый помолчал. Видимо, он боролся с желанием простить и с каким-то ядовитым воспоминанием. Он вздохнул, поморщился, взглянул доктору в глаза и нехотя, сдавленно произнес:
– Пусть… уж… по закону.
Доктор, тоже помолчав, встал.
– Значит, «по закону»? – повторил он.
– По закону. Как сказал, – кивнул матрос и закрыл глаза.
Я был так взволнован, что не вытерпел и ушел на двор. Мне казалось, что у меня что-то отняли.
С этого дня я стал присматриваться к морю и морской жизни с ее внутренние, настоящих сторон, впервые почувствовав, что здесь такие же люди, как и везде, и что чудеса – в самих нас.
Веселый попутчик
Знаменитый актер Дуглас почти никому не рассказывал свою странную историю, только я да наш общий друг Эмерсон знали ее.
Теперь, когда Дуглас умер, простив всех, а в глубине души простив, быть может, и Эмерсона (я улыбаюсь, говоря так, оговариваю это с улыбкой потому, что сам не знаю себя, как и все мы), – можно безболезненно для него и безобидно для прочих очертить тайну одного дня на Сан-Риольской дороге, между Вардом и Кэзом, в изложении, хотя литературном, но вполне верном действительности.
Около четырех часов дня у большого камня, пересекающего своею тенью дорогу, присел человек лет тридцати пяти.
Босой, загорелый, небритый, он был одет или, вернее, прикрыт ужаснейшими лохмотьями, куча которых, брошенная отдельно, заставила бы бережно обойти их даже кошку.
Голову оборванца прикрывал пестрый платок, завязанный узлом на затылке. У него не было рубашки, и голая грудь выказывалась почти вся из драного на локтях кителя, с короткими рукавами, без пуговиц, в узорах заплат.
Нижние края грязных парусиновых брюк были истрепаны в бахрому; холст просвечивал на коленях, а щели выдранных карманов блестели полоской тела.
Однако его сумрачное лицо с мягким очертанием рта и спокойными голубыми глазами не отражало удрученности, озлобления или приниженности. Поставив толстую палку между колен и беспечно оглядываясь, человек насвистывал арию из «Кармен» с искусством, выказывающим хороший слух, а также любовь к музыке.
Его взгляд упал на придорожную яму, полную дождевой воды. Насмешливо вздохнув, человек встал, подошел к этому естественному зеркалу, предку всех венецианских и парижских зеркал, и склонился над своим отражением.
Оно было не лучше, не хуже оригинала, имея, впрочем, то преимущество, что распадалось и исчезало, если болтануть воду рукой, тогда как оригинал, даже при стремительном урагане, оставался в мире вещей точно таким, как и в безмятежное утро.
Бродяга рассматривал себя с странной улыбкой удовольствия и комического презрения. Он сидел боком к яме, наклонясь и упираясь руками в траву.
Из этого сосредоточия его внезапно вывел насмешливый, степенно выговаривающий слово за словом голос неизвестного человека, раздавшийся так близко от нового Нарцисса, что тот, подняв голову, вспыхнул подобно молодой девушке, кокетство которой находит преувеличенную оценку.
На противоположном краю ямы, скрестив по-турецки ноги и сложив на груди руки, восседал почти что его двойник, с той разницей, что его лохмотья были иного цвета, платок заменяла рыжая, как огонь, шляпа, а тонкое, молодое лицо с правильными чертами выглядело моложе лет на десять. Быстрый и резкий взгляд черных глаз и упрямое выражение рта придавали его лицу впечатление опыта и душевной гибкости более старшего возраста.
– Сорокалетняя наяда без юбки перед визитом Тритона, – внушительно сказал он, смеясь глазами, – или куртизанка в спальне соперницы. Не утопитесь в своем трюмо, милейший, и не делайте таких соблазнительных глазок лягушкам, не то список ваших побед в следующей странице начнется с «ква-ква»!
– Что это значит?! – сурово воскликнул первый, одолев смущение. – Прекратите свой монолог и оставьте меня в покое.
– Как?! – сказал, издеваясь, шутник. – Как? Упустить такой случай? Покорно подать ваш эмалированный гребешок и, почтительно склоня голову, с восхищением следить за блистающими под пудрой розами и лилиями вашего очаровательного лица?! Жестокий и неописуемо чванный граф! Для этого ли…
– Меня зовут Эмерсон, – коротко перебил этот ядовитый дифирамб первый бродяга, вскакивая с бледным лицом, – и ты немедленно увидишь собственную красоту.
Насмешник не успел отступить, как суковатая палка с силой пропела возле самого его уха, едва не разбив лицо, и воткнулась в землю далеко позади. К великому удивлению Эмерсона, оборвыш, вместо того, чтобы швырнуть в него своей палкой, спокойно перешел лужу и протянул руку, ничем не выказывая трусости или хитрости.
– Я не думал, что это так серьезно для вас, – просто сказал он, в то время как Эмерсон неохотно и хмуро дотронулся до его руки, – что делать, надо как-нибудь веселить жизнь, если она сама, забавляясь, хлопает нас по щекам каждый день, да еще при этом так брезгливо отворачивается. Однако бросим учтивости. Куда идешь, милый?
По лицу старшего прошла едва уловимая улыбка. Он ответил не сразу и попытался уклониться от прямого ответа.
– Не все ли равно? – сказал он. – Люди, подобные нам, часто идут одной дорогой, но к разной цели. Мой путь недолог.
– Не гордись, братец, тем, что ты на своем веку выпил из придорожных канав больше воды и больше накрал чужих кур, чем я. Уверяю тебя, с некоторых пор я достиг немалого искусства в этом интересном занятии, так что смогу показать тебе коллекцию петушьих гребней весом в кило.
– Надеюсь, однако, что в эту коллекцию не попадут петухи с моей фермы, – сказал Эмерсон, посмеиваясь, – в противном случае ты рискуешь потерять свои волосы.
– Ну, вот, наконец-то ты заговорил человеческим языком, – заметил бродяга, шагая рядом, – верно, ты идешь так скоро, как будто тебя и вправду ждет жена с воскресным яблочным пирогом. Обещаю тебе, дружище, если у тебя когда-нибудь будет ферма, выкрасть тебе на развод птичника петушка с курочкою и мешок овса, чтобы кормить их. Как я вижу, нам по дороге. Ну, так знай, что меня зовут Билль Железный Крючок, и если мы когда-нибудь еще встретимся, можешь смело подать мне огня для трубки, не опасаясь репрессий.
Эмерсон внимательно посмотрел на своего странного спутника. Следы голода и бессонных ночей в лице Билля наполнили его некоторым уважением к этому человеку, способному, казалось, шутить даже на смертном одре. К тому же его взгляд, несмотря на беспокойство и живость, отличался необъяснимым внутренним равновесием и лукавой, подкупающей мягкостью.
– Ты голоден? – быстро спросил он.
– Да, но в высшем смысле, – сказал Железный Крючок. – В вульгарном смысле я сожрал бы быка, а в высшем удовлетворюсь виноградинкой и глотком воды Сирано де-Бержерака.
– В таком случае, – сказал Эмерсон, – выбирай либо низший, либо высший смысл, – а может быть, есть середина между тем и другим, так как ты сегодня обедаешь у меня, где можешь в придачу получить пару сносных брюк и рубашку.
Совершенная уверенность и невозмутимость тона, каким Эмерсон высказал эти радушные вещи, произвели быстрое и ошеломительное действие. Билль Железный Крючок внезапно согнулся, как будто его ударили палкой по животу, затем сел и стал мять в ладонях лицо, удерживая такой страшный, душепожирающий хохот, какой иногда сражает нас до боли в боках, до истерических взвизгиваний и может повести к смерти, если развеселившийся таким образом человек имел в это время во рту что-нибудь рассыпчатое или колючее, скажем, сухарь или непрожеванную рыбу с костями.
Пока он хохотал, Эмерсон смотрел на него с неловким выражением досады и легкого раздражения; подметив это, Билль закатился еще неистовее.
– Как… ты… сказал?.. – выговорил он, наконец, сквозь вопли, стоны и вздохи, сморкаясь и отдуваясь, подобно купающемуся. – Как… это – а… э… о-ох! Как это ты так ловко завинтил?! «Обед», – говоришь, – ха-ха-ха! и «штаны» – говоришь?! О-о! Я умру без погребения, канашка ты этакий! Может быть, брюки из шелкового трико? И жилет к ним – белое пике с серебряными цветочками?! Знай, что даже теперь я не променяю своих штанов на твои, а так как ты тот самый счастливый человек, у которого нет рубашки, то и не пытайся украсть ее, чтобы подарить мне. Нет, не говори. Не говори, что ты обиделся за мои слова около лужи, – но как ты великолепно разыграл это? Подними меня, я обессилел от хохота!
– Печально, – сказал старший бродяга, – если бы ты поменьше смеялся или, по крайней мере, потрудился хорошенько меня расспросить, в чем дело, я, может быть, оставил бы тебя восхищаться моим мнимым уменьем дурачить прохожих на большой дороге; однако я не люблю, если мне навязывают несвойственную роль. Вставай, веселый человек.
Билль встал. В лице и манерах его совершилась неуловимая перемена, овладеть которой в подробностях Эмерсон не мог, но он почувствовал ее так же ясно, как хорошую погоду, смотря на просветлевшее после дождя небо. Взгляд Билля стал зорок и тверд, выражение лица блеснуло худо скрываемым превосходством, и легкая улыбка презрения, столь тонкого, что почувствовать его равнялось бы унижению, внезапно остановила речь Эмерсона. Показалось ему, что яростно хохотал, хватаясь за живот, кто-то другой – таким непохожим на прежнее обернулось перед ним странное лицо Билля.
Но он ничего не сказал об этом и, помолчав, медленно зашагал, переваривая неожиданное впечатление. Билль шел рядом, иногда взглядывая на своего спутника тем свободным движением, какое свойственно прямому и решительному характеру.
Эмерсон принадлежал к категории людей, которые, раз начав развивать внутренно какое-либо положение, хотя бы и оборванное, не могут уже удержаться, чтобы не привести это положение к развитию и окончанию в действительности. Поэтому, нахмурясь от досады на самого себя за то, что поддался мелкому чувству смешной и пустячной обиды, он все-таки досказал, что хотел.
– Все произошло из-за испорченного затвора. Я должен был поехать проверить и пересчитать плоты, прибывшие на лесопильный завод – мой завод, – крепко подчеркнул он, подозрительно всматриваясь во внимательное лицо Билля и начиная сердиться в ожидании выходки с его стороны. – Это в тридцати милях отсюда. Дело было вчера вечером. Противно обыкновению, я взял с собой штуцер, а не револьвер, как делал раньше. Мы не всегда можем дать себе отчет в некоторых движениях. Вот этот-то штуцер и сыграл со мной партию наверняка. В сумерках на лесной тропинке ускакать было немыслимо. Двое уцепились за гриву и узду, а трое столкнули с седла. Одеты они были… гм… немного получше вашего.
– Продолжайте, – мягко, но твердо перебил Билль.
– Продолжать – значит кончить, – заметил Эмерсон, с неудовольствием чувствуя на себе испытующий взгляд своего спутника. Все время рассказа его смущал также вид его босых ног, смешно торчащих из коротких штанов, и коробила нелепость положения, ярко обозначенного в безжалостном свете солнца видом настоящего придорожного дикаря-бродяги. – Я оканчиваю. От сырости или от плохой чистки, но затвор штуцера не поддавался моим усилиям, и он был отнят у меня вместе с лошадью и всем, что было на мне. Вдобавок я получил тумаки и благодарю бога, что жив. Ну-с, я шел обратно всю ночь голый, дрожа от злобы и холода. Это отрепье мне дал железнодорожный стрелочник, – я подошел к его окну в ожерелье из веников, которые связал сам. Стоило послушать наш разговор и мои объяснения… К тому же местность эта пустынна. Но путь был невелик, считая от стрелочника. В полумиле отсюда мой дом.
– Но это ужасно! – сказал Билль совершенно новым, спокойным и участливым тоном, так же не шедшим к его внешности и положению, как трудно вязался неожиданный рассказ Эмерсона с отсутствием у него рубашки. – Я не могу не верить вам, я верю, – добавил он серьезно и быстро. – Но, правда, говорят – жизнь страшнее романов. Простите мистификацию, естественно подсказанную мне моей ужасной одеждой: я – Эдмонд Роберт Дуглас, член и секретарь председателя Географического Общества в Сан-Риоле и временный бродяга на полуострове; смотрите, как хотите, на мое поведение, но пари, которое я держал с одной дамой, по существу своему, не позволяет мне проиграть его. Я знаю, что вы удивлены, но, клянусь вам, не менее был удивлен и я, когда вы пригласили меня обедать.
– Вы лжете, – сказал, оторопев, Эмерсон.
Ему пришлось выбранить себя за поспешность, с какой бросил он оскорбление.
Дуглас, вздрогнув, остановился. Его лицо вспыхнуло, затем побледнело: судорога мучительной борьбы меж гневом и чрезвычайным усилием сдержать себя тенью прошла в его чертах с таким напряжением и достоинством, что Эмерсон только пожал плечами.
– Вы сказали странные вещи, – заметил он тоном извинения. – Да, вы поразили меня.
– Я мог бы сказать то же относительно вас. Но, помимо слов ваших, было неизъяснимое душевное движение между нами, заставившее меня поверить. Я надеюсь, что точно такое же движение возникнет у вас, если я расскажу о себе. Правда и то, что я счел вас обыкновенным бродягой, не сразу поверив; поэтому вы правы, не веря без доказательств.
– Я верю, – сказал Эмерсон просто, – вы доказали мою вину именно тем «внутренним движением», какое только что тронуло меня. Но как необыкновенно, как странно все это! То есть, я хочу сказать, что ваше и мое положение, взятые отдельно, не есть еще редчайший курьез, – редкость заключается в нашей встрече.
– Не меньшая, чем если ухитриться поставить иглу острием на острие другой иглы, – сказал, улыбаясь, Дуглас. – Но со мной было так. На рауте у Эпстона, известного, вероятно, и вам, по слухам, миллионера, рауте в честь знаменитого путешественника Виталия Кроугли, я стал утверждать, что человек, кто бы он ни был, может без всякого вреда для своего характера и основных склонностей стать в любое положение на любой срок, возвратясь тем же, чем был. Кроугли указывал неизбежное, по его словам, давление среды, легкий, может быть, едва ощутимый осадок, муть покинутых и не свойственных данному субъекту условий. Спор произошел в присутствии – имя не играет роли – одной женщины; когда мой оппонент заявил, что стоит мне провести месяц на большой дороге, и я начну вести себя с некоторой оригинальностью, – я предложил это пари. Правда, Кроугли имел в виду мою крайнюю впечатлительность; он утверждал, что я, незаметно для самого себя, выкажу в обхождении и складе речи такие мелочи позаимствованного в новой среде багажа, какие уловятся лишь посторонними. Но мне надо было обратить на себя внимание, заставить думать обо мне одно твердое и холодное сердце. Короче говоря, я вызвался провести шесть месяцев без денег, в рубище, исходив полуостров от Кэза до Минигама и от Зурбагана до Сан-Риоля, питаясь, чем случится, с тем, что, возвратясь, немедленно явлюсь в общество заранее извещенных лиц и предоставлю их компетенции судить, оставила ли бродячая жизнь на мне и во мне хотя бы малейший след. Но я переимчив и наблюдателен, поэтому-то и раздражил вас, сознаюсь, утрированным изображением веселого Билля Железный Крючок.
– Но все это крайне интересно! – сказал Эмерсон, настолько увлеченный рассказом Дугласа, что забыл о своем странном костюме и вспомнил о нем, лишь когда за поворотом дороги показалась затейливая голубая крыша большой белой усадьбы. – Теперь мы дома, прошу вас, Дуглас, быть у меня гостем.
Показалось ли ему, что его спутник издал неопределенный быстрый звук, или тот действительно произвел нечто вроде короткого восклицания, смешанного с глухим кашлем, – только Эмерсон вопросительно взглянул на него. Но лицо Дугласа было невозмутимо спокойно. Он, казалось, с удовольствием рассматривает плантации, сад, городок служб и белую, вымощенную щебнем дорогу, поворачивающую от шоссе, через зеленые изгороди, к веранде дома.
Разговор, который вели теперь оба путника, был о редких случайностях. Вдруг Дуглас остановился, дотронувшись до плеча Эмерсона несколько фамильярным движением.
– Что вы? – спросил Эмерсон.
– Слушайте, – сказал, посмеиваясь, Дуглас, – слоняясь, я воспитал в себе беса, который так и подмывает меня перевернуть банку с орехами. Будь вы, действительно, бродягой, прикидывающимся, чтобы поморочить приятеля, собственником большой фермы, – знаете, как я заговорил бы тогда?
– А как?
– Ну… это – искусство. Например: послушай, небритая щетина, не забудь, если тебе удастся пробраться на кухню, замолвить словечко и за меня. Скажи что-нибудь сердцещипательное хозяевам – ну, хотя бы, что ты не можешь есть с аппетитом, если я не сижу рядом с тобой.
Эмерсон добродушно рассмеялся.
– Да, вы овладели этой манерой, – сказал он, – и если бы я не боялся обидеть вас, то попросил бы вначале не открывать при жене, кто вы, ради простой шутки, конечно.
– Я еще сказал бы вам, – задумчиво и хмуро продолжал Дуглас, – не иди так прямо к подъезду, как свинья прет на чужое корыто, иначе тебя отдубасят так, что вместо подачки придется мне тащить сломанные кости твои, старый плут.
Эмерсон без улыбки посмотрел на Дугласа, находя, что шутка переходит предел.
– Так, так, – рассеянно и нетерпеливо сказал он. Они шли мимо веранды.
– Анни, – сказал Эмерсон, заметив белую фигуру с книгой в руках среди узора дикого винограда. – Анни, не испугайся. Это я. Скажу кратко – меня раздели, но я цел и невредим.
Молодая женщина, вся вспыхнув от неожиданного волнения, вызванного ужасным видом мужа, быстро сбежала по лестнице, утирая слезы и удерживая нервный смех; с быстротой и живостью ощупала она Эмерсона, поворачивая его из стороны в сторону, отступая, всплескивая руками и тряся головой, как будто весь наряд пострадавшего сыпался на ее темные волосы.
– Дорогой мой! – сказала она, – но знаешь, ты бесподобен! Правда ли, что цел? Но покажись еще; повернись так. И так. Прости меня, идем, я одену тебя, бродяжка! А это…
Поймав ее взгляд, Эмерсон обернулся, сказав:
– Анни, случайная встреча; и мы уже познакомились. Но не пугайся вторично: Эдмонд Роберт Ду…
Он остановился с тревогой, пораженный до чрезвычайности. Дуглас стоял, прислонясь к молодому каштану и вытянув вперед правую руку, как будто отталкивал прочь Эмерсона или предупреждал его движение. Но Эмерсон был ошеломлен в такой степени, что мог только сказать:
– Вы… что случилось?..
Дуглас был крайне бледен; два раза порывался он заговорить, но не мог. Из его глаз скатились две крупные слезы, и он тихо снял их рукой, видимо, стыдясь этой слабости.
– Что? – сказал он, наконец, с мучительным глухим усилием. – Ничего больше, как то, что вы обманули меня. Я думал… о, черт! – выругался он, взглянув на пристально обнюхивающего его водолаза. – Я думал, что вы такой же Эмерсон, как я – Роберт Дуглас. Меня встряхнуло, но это, знаете, оттого, что я не предвидел финала. Слушая вас, я даже завидовал: ведь вы ни разу не улыбнулись, когда несли эту… когда рассказывали о нападении и стрелочнике. Да, вы – Эмерсон, и это – ваш дом, и это – ваша жена. Но я – я Билль, выгнанный за скандалы актер, мот и игрок, и ничего более. Я думал, что оба мы «ловим блох». В нашей компании трепать языком, как трепал я, называется «ловить блох». Иногда это скучно, иногда занятно, смотря с кем, и я думал, что наше состязание… Простите мои больные нервы. Это оттого, что и я ранее представлял себе, как вхожу в дом, где… где меня не облают. Прощайте. Кушайте на здоровье. Я отказываюсь от приглашения.
Эти беспорядочные слова бродяги глубоко тронули Эмерсона. Он обладал верным и тонким инстинктом к людям, поэтому первым его движением было взять Билля за руку и потянуть на веранду.
Билль, отняв руку, покачал головой:
– Я только больше расстроюсь.
– Так войди же и живи с нами! – вскричал Эмерсон. – И пусть меня разорвут на части мои собственные собаки, если я не сделаю из тебя человека!
Так Билль Железный Крючок поселился у Эмерсона, а впоследствии развил свое необыкновенное сценическое дарование и грянул им на больших сценах. Финальная виньетка к этому рассказу изображает крючок среди рассыпанных на столе карт; стол стоит на большой дороге, а над всем этим блестит тонкий луч восходящего солнца.