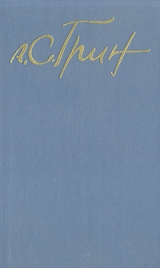
Текст книги "Том 3. Рассказы 1917-1930. Стихотворения"
Автор книги: Александр Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Пропавшее солнце
I
Страшное употребление, какое дал своим бесчисленным богатствам Авель Хоггей, долго еще будет жить в памяти всех, кто знал этого человека без сердца. Не раз его злодейства – так как деяния Хоггея были безмерными, утонченными злодействами – грозили, сломав гроб купленного молчания, пасть на его голову, но золото вывозило, и он продолжал играть с живыми людьми самым различным образом; неистощимый на выдумку, Хоггей не преследовал иных целей, кроме забавы. Это был мистификатор и палач вместе. В основе его забав, опытов, экспериментов и игр лежал скучный вопрос: «Что выйдет, если я сделаю так?»
Четырнадцать лет назад вдова Эльгрев, застигнутая родами в момент безвыходной нищеты, отдала новорожденного малютку-сына неизвестному человеку, вручившему ей крупную сумму денег. Он сказал, что состоятельный аноним – бездетная и детолюбивая семья – хочет усыновить мальчика. Мать не должна была стараться увидеть или искать сына.
На этом сделка была покончена. Утешаясь тем, что ее Роберт вырастет богачом и счастливцем, обезумевшая от нужды женщина вручила свое дитя неизвестному, и он скрылся во тьме ночи, унес крошечное сердце, которому были суждены страдание и победа.
II
Купив человека, Авель Хоггей приказал содержать ребенка в особо устроенном помещении, где не было окон. Комнаты освещались только электричеством. Слуги и учитель Роберта должны были на все его вопросы отвечать, что его жизнь – именно такова, какой живут все другие люди. Специально для него были заказаны и отпечатаны книги того рода, из каких обычно познает человек жизнь и мир, с той лишь разницей, что в них совершенно не упоминалось о солнце. [6]6
Равным образом, ни о чем светящемся в небе – луне, звездах. Фергюсон – правая рука Хоггея, – чаще других навещавший Роберта, приучил его думать, что люди сами не желают многого в этом роде. А.Г.
[Закрыть]Всем, кто говорил с мальчиком или по роду своих обязанностей вступал с ним в какое бы ни было общение, строго было запрещено Хоггеем употреблять это слово.
Роберт рос. Он был хил и задумчив. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, Хоггей среди иных сложных забав, еще во многом не раскрытых данных, вспомнив о Роберте, решил, что можно, наконец, посмеяться. И он велел привести Роберта.
III
Хоггей сидел на блестящей, огромной террасе среди тех, кому мог довериться в этой запрещенной игре. То были люди с богатым, запертым на замок прошлым, с лицами, бесстрастно эмалированными развратом и скукой. Кроме Фергюсона, здесь сидели и пили Харт – поставщик публичных домов Южной Америки, и Блюм – содержатель одиннадцати игорных домов.
Был полдень. В безоблачном небе стояло пламенным белым железом вечное Солнце. По саду, окруженному высокой стеной, бродил трогательный и прелестный свет. За садом сияли леса и снежные цепи отрогов Ахуан-Скапа.
Мальчик вошел с повязкой на глазах. Левую руку он бессознательно держал у сильно бьющегося сердца, а правая нервно шевелилась в кармане бархатной куртки. Его вел глухонемой негр, послушное животное в руках Хоггея. Немного погодя вышел Фергюсон.
– Что, доктор? – сказал Хоггей.
– Сердце в порядке, – ответил Фергюсон по-французски, – нервы истощены и вялы.
– Это и есть Монте-Кристо? – спросил Харт.
– Пари, – сказал Блюм, знавший, в чем дело.
– Ну? – протянул Хоггей.
– Пари, что он помешается с наступлением тьмы.
– Э, пустяки, – возразил Хоггей. – Я говорю, что придет проситься обратно с единственной верой в лампочку Эдисона.
– Есть. Сто миллионов.
– Ну, хорошо. – сказал Хоггей. – Что, Харт?
– Та же сумма на смерть, – сказал Харт. – Он умрет.
– Принимаю. Начнем. Фергюсон, говорите, что надо сказать.
Роберт Эльгрев не понял ни одной фразы. Он стоял и ждал, волнуясь безмерно. Его привели без объяснений, крепко завязав глаза, и он мог думать что угодно.
– Роберт, – сказал Фергюсон, придвигая мальчика за плечо к себе, – сейчас ты увидишь солнце – солнце, которое есть жизнь и свет мира. Сегодня последний день, как оно светит. Это утверждает наука. Тебе не говорили о солнце потому, что оно не было до сих пор в опасности, но так как сегодня последний день его света, жестоко было бы лишать тебя этого зрелища. Не рви платок, я сниму сам. Смотри.
Швырнув платок, Фергюсон внимательно стал приглядываться к побледневшему, ослепленному лицу. И как над микроскопом согнулся над ним Хоггей.
IV
Наступило молчание, во время которого Роберт Эльгрев увидел необычайное зрелище и ухватился за Фергюсона, чувствуя, что пол исчез, и он валится в сверкающую зеленую пропасть с голубым дном. Обычное зрелище дня – солнечное пространство – было для него потрясением, превосходящим все человеческие слова. Не умея овладеть громадной перспективой, он содрогался среди взметнувшихся весьма близких к нему стен из полей и лесов, но наконец пространство стало на свое место.
Подняв голову, он почувствовал, что лицо горит. Почти прямо над ним, над самыми, казалось, его глазами, пылал величественный и прекрасный огонь. Он вскрикнул. Вся жизнь всколыхнулась в нем, зазвучав вихрем, и догадка, что до сих пор от него было отнято все, в первый раз громовым ядом схватила его, стукнувшись по шее и виску, сердце. В этот момент переливающийся раскаленный круг вошел из центра небесного пожара в остановившиеся зрачки, по глазам как бы хлестнуло резиной, и мальчик упал в судорогах.
– Он ослеп, – сказал Харт. – Или умер.
Фергюсон расстегнул куртку, взял пульс и помолчал с значительным видом.
– Жив? – сказал, улыбаясь и довольно откидываясь в кресле, Хоггей.
– Жив.
V
Тогда решено было посмотреть, как поразит Роберта тьма, которую, ничего не зная и не имея причины подозревать обман, он должен был считать вечной. Все скрылись в укромный уголок, с окном в сад, откуда среди чинной, но жестокой попойки наблюдали за мальчиком. Воспользовавшись обмороком, Фергюсон поддержал бесчувственное состояние до той минуты, когда лишь половина солнца виднелась над горизонтом. Затем он ушел, а Роберт открыл глаза.
«Я спал или был болен», – но память не изменила ему; сев рядом, она ласково рассказала о грустном и же стоком восторге. Воспрянув, заметил он, что темно, тихо и никого нет, но, почти не беспокоясь об одиночестве, резко устремил взгляд на запад, где угасал, проваливаясь, круг цвета розовой меди. Заметно было, как тускнут и исчезают лучи. Круг стал как бы горкой углей. Еще немного, – еще, – последний сноп искр озарил белый снег гор – и умер, – навсегда! навсегда! навсегда!
Лег и уснул мрак. Направо горели огни третьего этажа.
– Свалилось! Свалилось! – закричал мальчик. Он сбежал в сад, ища и зовя людей, так как думал, что наступит невыразимо страшное. Но никто не отозвался на его крик. Он проник в чащу померанцевых и тюльпанных деревьев, где журчание искусственных ручьев сливалось с шелестом крон.
Сад рос и жил; цвела и жила невидимая земля, и подземные силы расстилали веера токов своих в дышащую теплом почву. В это время Хоггей сказал Харту и Блюму: «Сад заперт, стены высоки; там найдем, что найдем, – утром. Игрушка довольно пресная; не все выходит так интересно, как думаешь».
Что касается мальчика, то в напряжении его, в волнении, в безумной остроте чувств все перешло в страх. Он стоял среди кустов, стволов и цветов. Он слышал их запах. Вокруг все звучало насыщенной жизнью. Трепет струй, ход соков в стволах, дыхание трав и земли, голоса лопающихся бутонов, шум листьев, возня сонных птиц и шаги насекомых, – сливалось в ощущение спокойного, непобедимого рокота, летящего от земли к небу. Мальчику казалось, что он стоит на живом, теплом теле, заснувшем в некой твердой уверенности, недоступной никакому отчаянию. Это было так заразительно, что Роберт понемногу стал дышать легче и тише. Обман открылся ему внутри.
– Оно вернется, – сказал он. – Не может быть. Они надули меня.
VI
За несколько минут до рассвета Фергюсон разыскал жертву среди островков бассейна и привел ее в кабинет. Между тем в просветлевшей тьме за окном чей-то пристальный, горячий взгляд уперся в затылок мальчика, он обернулся и увидел красный сегмент, пылающий за равниной.
– Вот! – сказал он, вздрогнув, но сжав торжество, чтобы не разрыдаться. – Оно возвращается оттуда же, куда провалилось! Видели? Все видели?
Так как мальчик спутал стороны горизонта, то это был единственный – для одного человека – случай, когда солнце поднялось с запада.
– Мы тоже рады. Наука ошиблась, – сказал Фергюсон.
Авель Хоггей сидел, низко согнувшись, в кресле, соединив колено, локоть и ладонь с подбородком, смотря и тоскуя в ужасной игре нам непостижимой мечты на хилого подростка, который прямо смотрел в его тусклые глаза тигра взглядом испуга и торжества. Наконец, бьющий по непривычным глазам свет ослепил Роберта, заставил его прижать руки к глазам; сквозь пальцы потекли слезы.
Проморгавшись, мальчик спросил:
– Я должен стоять еще или идти?
– Выгнать его, – мрачно сказал Хоггей, – я вижу, что затея не удалась. А жаль Фергюсон, ликвидируйте этот материал. И уберите остатки прочь.
Путешественник Уы-Фью-Эой
Это пролетело в Ножане.
Но прежде я должен объяснить, что страсть к путешествиям вовлекла меня в четыре кругосветные рейса; совершив их, я с простодушием игрока посетил, еще кроме того, отдельно, в разное время – Австралию, Полинезию, Индию и Тибет.
Но я не был сыт. Что я видел? Лишь горизонты по обеим сторонам тех линеек, какие вычертил собственной особой своей вокруг океанов и материков. Я видел крошки хлеба, но не обозрел хлеба. Не видел всего. Всего! И никогда не увижу, ибо для того, чтобы увидеть на земном шаре все, требуется, при благоприятных условиях и бесконечном количестве денег, – четыреста шестьдесят один год, без остановок и сна.
Так высчитал Дюклен О'Гунтас. Этому вы поверите, если я вам скажу, что для того, чтобы пройти решительно по всем улицам Лондона (только), надо пожертвовать три года и три месяца.
Итак, я устал и проиграл. Я почти ничего не видел на нашей планете.
Мое отчаяние было безмерно. В таком состоянии в Ножане 14 марта 1903 г. я вышел на улицу из гостиницы «Голубой Кролик».
В этот момент невиннейший ветерок змейкой промёл уличную пыль.
Под ноги шаловливому ветерку бросился встречный малюсенький ветерок, от чего поднялся крошечный пыльный смерчик и засорил мне глаза.
Пока я протирал глаза, было слышно, как возле меня сопит и свистит, временами тяжело отдуваясь, некий человек в грязном и лохматом плаще. Плащ был из парусины, такой штопаной и грязной, что, надо думать, побыла она довольно на мачте. Его мутная борода торчала вперед, как клок сена, удерживаемая в таком положении, вероятно, ветром, который вдруг стал порывист и силен. На непричесанной голове этого человека черным шлепком лежала крошечная плюшевая шапочка, подвязанная под подбородок обыкновенной веревкой.
Как поднялась пыль, то я не мог толком рассмотреть его лицо… Черты эти перебегали, как струи; я припомнил лишь огромные дыры хлопающих, волосатых ноздрей и что-то чрезвычайно ветреное во всем складе пренеприятной, хотя добродушной, физиономии.
Мы как-то сразу познакомились, с первого взгляда. Положим, я был подвыпивши; кроме того, оба заговорили сразу, и к тому же я никогда не слышал, чтобы у человека так завлекательно свистело в носу. Что-то было в этом неудержимом высвистывании от нынешней капающей и скребущей музыки. И он дышал так громко, что с улицы улетели все голуби.
Он сказал:
– А? Что? Эй! Фью! Глаз засорил? Чихнул? Не беда! Клянусь муссоном и бризом! Пассатом и норд-вестом! Это я, я! Путешественник! Что? Как зовут? Уы-Фью-Эой! Ой! А-а! У-у-ы!
Я не тотчас ответил, так как наблюдал охоту степенного человека за собственным котелком. Котелок летел к набережной. Оглянувшись, я увидел еще много людей, ловивших что бог пошлет: шляпы, газеты, вырванные из рук порывом пыльной стихии; шлепнулся пузатый ребенок.
– Ну, вот… – сказал Фью (пусть читатель попробует величать его полным именем без опасности для языка), – всегда неудовольствие… беготня… и никогда… клянусь мистралем, ну, и аквилоном… никогда, чтоб тихо, спокойно… А хочется поговорить… уы… у-у-у… по душам. Нагнать, приласкать. А ты недоволен? Чем? Чем? Чем, клянусь, уже просто – зефиром, с чего начал.
Кто объяснит порывы откровенности – искренности, внезапного доверия к существу, само имя которого, казалось, лишено костей, а фигура вихляется как надутая воздухом. Но сей бродяга так подкупающе свистел носом, что я сказал все.
Фью загудел: «Ах так? Клянусь насморком! Клянусь розой ветров! Везде быть? Все видеть? Из шага в шаг? Все города и дома? Все войны и пески? Забрать глобус в живот? Ой-ой-ой-ой! Фью-фью! Это я видел! Я один, фью! И никто больше! Слушай: клянусь братом. С тех пор, как существует что-нибудь, что можно видеть глазами, – я уже везде был. И путешествовал без передышки. Заметь, что я никогда не дышу в себя, как это делаете вы раз двадцать в минуту. Я не люблю этого. Хочешь знать, что я видел? Как раз все то, что ты не видел, и то, что ты. Что англичане? Дети они. Возьми проволоку и уложи в спираль вокруг пестрого шара от полюса до полюса, оборот к обороту – это я там был! Везде был! Помнишь, когда еще не было ничего, кроме чего-то такого живого, скользкого и воды? И страшнейших болот, где, скажем, тогдашняя осока толщиной в мачту. Ну, все равно. Я путешествовал на триремах, галиотах, клиперах, фрегатах и джонках. Короче говоря, на каком месте ты ни развернешь книгу истории…»
– Жизненный эликсир, – сказал я, – ты пил жизненный эликсир?
– Я ничего не пью. И ты не пей. Вредно! Клянусь сирокко! Пей только мое дыхание. Слушай меня. Я врать не буду. Хочешь? Хочешь пить дыхание? Мое! Мое! Клянусь ураганом!
Мы в это время подошли к набережной, где немедленно, на разрез течению, бросился по воде овал стремительной ряби, а плохо закрепленные паруса барок, выстрелив, как бумажные хлопушки, выпятились и уперлись в воздух. Крутая волна пошла валять лодки с борта на борт.
– Да, выпить бы чего… – пробормотал я.
В тот же момент пахнуло нам в лицо с юга. Странный, резкий и яркий, как блеск молнии, аромат коснулся моего сердца; но ветер ударил с запада, дыша кардифом и железом; ветер повернул ко мне свое северное лицо, облив свежестью громадного голубого льда в свете небесной разноцветной игры; наконец, подобный медлительному и глухому удару там-тама, восточный порыв хлынул в лицо сном и сладким оцепенением.
Вдруг вода успокоилась, облака разошлись, паруса свисли. Я оглянулся: никого не было. Только на горизонте нечто, подобное прихотливому облаку, быстро двигалось среди белых, ленивых туч с вытянутым вперед обрывком тумана, который, при некотором усилии воображения, можно было счесть похожим на чью-то бороду.
Ах, обман! Ах, мерзостный, все высмыгавший, все видевший пересмешник! О, жажда, ненасытная жажда видеть и пережить все, страсть, побивающая всех других добрых чертей этого рода! Ветер, ветер! С тобой всегда грусть и тоска. Ведь слышит он меня и стучится в трубу, где звонко чихает в сажу, выпевая рапсодию.
Шалун! Я затопил печку, а он выкинул дым.
Гладиаторы
Повторяю, – я ничего не выдумываю. После долгого периода, после несказанных нравственных мучений, после молчания, вынужденного рядом тягчайших обстоятельств, я получил возможность открыть кое-что, но еще далеко не все, об Авеле Хоггее, человеке, придумавшем и выполнившем столь затейливые и грандиозные преступления, – единственно удовольствия и забавы ради, – что, когда будут они описаны все, многими овладеет тяжесть, отчаяние и ярость бессилия.
Наступил вечер, когда вилла Хоггея «Гауризанкар» наметила огненный контур свой в холмистом склоне садов. Здание было иллюминовано. Казалось, ожидается съезд половины города, между тем подобные вечера редко посещались более чем шестью лицами, не считая меня. Никто посторонний, подозрительный, ненадежный не мог посетить их, тем более оргию того рода, какая предполагалась теперь. Но шесть человек, подобных самому Авелю, участвовали в его затеях почти всегда, хоть не могли тратить так много денег, как он, особенно на покупку людей.
«Пусть будет сегодня Рим», – сказал жене Хоггей, когда я рассматривал мраморные колонны, увитые розами, и, бросая взгляд на огромные столы, чувствовал все ничтожество современного желудка перед изобилием, точно повторяющим безумие древних обжор. Разумеется, это была более декорация, чем ужин – едва ли тысячную часть всего могли съесть Хоггей и его гости, – но он хотел полного впечатления. «Рим», – повторил он своим тихим, не знающим возражений голосом, и точно – воскресший Рим глянул вокруг нас.
Единственно, что нарушало иллюзию, – это костюмы. Сесть в триклиниуме во фраке, не делаясь нимало комичным, – так поступить мог только Хоггей. Он презирал покупаемое, презирал Рим Стере высчитал, что обратив состояние Хоггея в алмазы, можно было бы нагрузить ими броненосец. Такие вещи делают фрак величественным. Его друзья, его неизменные спутники, имена которых шуршат сухо, как банковые билеты: Гюйс, Аспер, Стере, Ассандрей, Айнсер и Фрид, – отсвечивали меньшим могуществом, но в тон тех групп алмазов, которыми мог бы обернуться Хоггей. Естественно, что тога, туника, сандалии могли и не быть. Над белыми вырезами фраков поворачивались желтые сухие глаза владык.
Воспоминание сохранило мне смуглые руки рабынь, блеск золота и вихри розовых лепестков, слоем которых был покрыт пол, когда рой молодых девушек, вскидывая тимпаны, озарил грубое пьянство трепетом и мельканием танцев. Я погрузился в дикий узор чувств, напоминающий бессмысленные и тщетные заклинания. Яркость красок била по глазам. Музыка, подтачивая волю, уносила ее с дымом курений в ослепительное Ничто.
В то время, как пьянство и античный разврат (когда он не был античен?) развязывали языки, Хоггей молчал; лишь три раза сказал он кому-то «нет». Так сонно, что я подумал самое худшее о его настроении.
Но не успел я обратиться к нему по своей обязанности врача с соответствующим вопросом, как он, хрустнув пальцами, крикнул мне: «Фергюсон, ступайте к бойцам, осмотрите и выведите. Вино не действует на меня!»
Повинуясь приказанию, я отправился к гладиаторам. То были два молодых атлета, купленные Хоггеем для смертельной борьбы. Я застал их вполне готовыми, в тихой беседе; крепко пожав друг другу руки, они взяли оружие и сошли вниз.
Я знал условия. Оставшийся живым получал 500 тысяч, вдвое большую сумму получала семья убитого. Так или иначе, они жертвовали собой ради своих близких. У меня не было мужества посмотреть им в глаза. Конечно, все сложные объяснения по поводу трупа были уже придуманы; недосмотр покрывался, как всегда, золотом.
Да простит мне читатель эту сухость, это отвращение к подробностям, я только прибавлю, что их тренировал Больс.
Временно умолк говор, когда два стальных мужских тела, блестя бронзой вооружения, звонко сошли по лучезарной, полной цветов лестнице к взорам гостей. «Подождите, мы заключим пари», – сказал Гюйс. Немедленно были заключены пари. Сам Хоггей, которому было все равно – выиграть или проиграть, покрыл кляксами миллионный чек. Наконец подал он знак.
Я был близко, так близко к сражающимся, что слышал перебой их дыхания. Они разошлись, сошлись; перед метнувшимися вверх щитами звякнули их мечи. Все чаще встречались клинки; в свете люстр, отброшенные его заревом, трепетали светлые дуги. Но оба были искусны. Ни один удар не обнаруживал растерянности или трусливой поспешности; казалось, они фехтуют. Лишь особый трепет рокового усилия, заключенный в каждом ударе, показывал, что борьба не шуточная.
Если еще был у зрителей остаток пьяной флегмы, то он исчез, уступив кровожадному азарту. Все повскакали. Некоторые подошли совсем близко, криками и жестами ободряя самоубийц. Бой затянулся, искусство соперников, очевидно, становилось меж ними и заветной наградой. Тем временем поощрения приняли оскорбительный характер ударов хлыста. «К делу! – ревел Хоггей, – убей его! Я плачу только за короткие удовольствия!» – «Коровы!» – орал Фрид. – «Это драка пьяных!» – взывал Аспер. – «Ударьте их в зад!» – «Суньте им в нос огня!» Такие и им подобные восклицания повторялись хором. Раздался треск, лопнул один щит, и гладиатор сбросил его. – «Проткни мясо!» – сказал Хоггей.
Вдруг разом опустились мечи, последнее восклицание вызвало и опередило развязку. «Ральф, – сказал старший боец младшему. – Ты слышал! Я теперь действительно не владею собой. Я продал жизнь, но не продавал чести, следуй за мной!» И их мечи свистнули по толпе. Отступив за колонну, я видел, как Хоггей рухнул с рассеченной головой. Разразилось исступление, наполнившее зал кровью и трупами. Меньше всех растерялся Ассандрей, лишенный нервов. Он стрелял на расстоянии четырех шагов. Нападающие им были убиты, но из зрителей уцелело лишь трое.
Уэльслей был мертв, Ральф, испуская последнее дыхание, приподнялся и плюнул Ассандрею в лицо:
– Виват, Цезарь! Умирающие приветствуют тебя!
Он прохрипел это, затем испустил дух.








