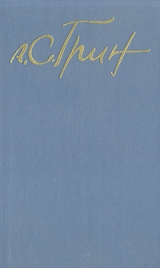
Текст книги "Том 3. Рассказы 1917-1930. Стихотворения"
Автор книги: Александр Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Новогодний праздник отца и маленькой дочери
I
В городе Коменвиль, не блещущем чистотой, ни торговой бойкостью, ни всем тем, что являет раздражающий, угловатый блеск больших или же живущих лихорадочно городов, поселился ради тишины и покоя ученый Эгмонд Дрэп.
Здесь лет пятнадцать назад начал он писать двухтомное ученое исследование.
Идея этого сочинения овладела им, когда он был еще студентом. Дрэп вел полунищенскую жизнь, отказывал себе во многом, так как не имел состояния; его случайный заработок выражался маленькими цифрами гонорара за мелкие переводы и корреспонденции; все свободное время, тщательно оберегая его, он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне. Постепенно дошел он до того, что не интересовался уже ничем, кроме сочинения и своей дочери Тавинии Дрэп. Она жила у родственников.
Ей было шесть лет, когда умерла мать. Раз или два в год ее привозила к нему старуха с орлиным носом, смотревшая так, как будто хотела повесить Дрэпа за его нищету и рассеянность, за все те внешние проявления пылающего внутреннего мира, которые видела в образе трубочного пепла и беспорядка, смахивающего на разрушение.
Год от году беспорядок в тесной квартире Дрэпа увеличивался, принимал затейливые очертания сна или футуристического рисунка со смешением разнородных предметов в противоестественную коллекцию, но увеличивалась также и стопа его рукописи, лежащей в среднем отделении небольшого шкапа. Давно уже терпела она соседство всякого хлама.
Скомканные носовые платки, сапожные щетки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и много других вещей, покрытых пылью, валялось на широкой полке, среди тетрадей, блокнотов или просто перевязанных бечевкой разнообразных обрывков, на которых в нетерпении разыскать приличную бумагу нервный и рассеянный Дрэп писал свои внезапные озарения.
Года три назад, как бы опомнясь, он сговорился с женой швейцара: она должна была за некоторую плату раз в день производить уборку квартиры. Но раз Дрэп нашел, что порядок или, вернее, привычное смешение предметов на его письменном столе перешло в уродливую симметрию, благодаря которой он тщетно разыскивал заметки, сделанные на манжетах, прикрытых, для неподвижности, бронзовым массивным орлом, и, уследив, наконец, потерю в корзине с грязным бельем, круто разошелся с наемницей, хлопнув напослед дверью, в ответ чему выслушал запальчивое сомнение в благополучном состоянии своих умственных способностей. После этого Дрэп боролся с жизнью один.
II
Смеркалось, когда, надев шляпу и пальто, Дрэп заметил наконец, что долго стоит перед шкапом, усиливаясь вспомнить, что хотел сделать. Ему это удалось, когда он взглянул на телеграмму.
«Мой дорогой папа, – значилось там, – я буду сегодня в восемь. Целую и крепко прижимаюсь к тебе. Тави». Дрэп вспомнил, что собрался на вокзал.
Два дня назад была им сунута в шкап мелкая ассигнация, последние его деньги, на которые рассчитывал он взять извозчика, а также купить чего-либо съестного. Но он забыл, куда сунул ее, некстати задумавшись перед тем о тридцать второй главе; об этой же главе думал он и теперь, пока текст телеграммы не разорвал привычные чары. Он увидел милое лицо Тави и засмеялся.
Теперь все его мысли были о ней. С судорожным нетерпением бросился он искать деньги, погрузив руки во внутренности третьей полки, куда складывал все исписанное.
Упругие слои бумаги сопротивлялись ему. Быстро осмотрясь, куда сложить все это, Дрэп выдвинул из-под стола сорную корзину и стал втискивать в нее рукописи, иногда останавливаясь, чтобы пробежать случайно мелькнувшую на обнаженной странице фразу или проверить ход мыслей, возникших годы назад в связи с этим трудом.
Когда Дрэп начинал думать о своей работе или же просто вспоминал ее, ему казалось, что не было совсем в его жизни времени, когда не было бы в его душе или на его столе этой работы. Она родилась, росла, развивалась и жила с ним, как развивается и растет человек. Для него была подобна она радуге, скрытой пока туманом напряженного творчества, или же видел он ее в образе золотой цепи, связывающей берега бездны; еще представлял он ее громом и вихрем, сеющим истину. Он и она были одно.
Он разыскал ассигнацию, застрявшую в пустой сигарной коробке, взглянул на часы и, увидев, что до восьми осталось всего пять минут, выбежал на улицу.
III
Через несколько минут после этого Тави Дрэп была впущена в квартиру отца мрачным швейцаром.
– Он уехал, барышня, – сказал он, входя вместе с девочкой, синие глаза которой отыскали тень улыбки в бородатом лице, – он уехал и, я думаю, отправился встречать вас. А вы, знаете, выросли.
– Да, время идет, – согласилась Тави с сознанием, что четырнадцать лет – возраст уже почтенный. На этот раз она приехала одна, как большая, и скромно гордилась этим. Швейцар вышел.
Девочка вошла в кабинет.
– Это конюшня, – сказала она, подбирая в горестном изумлении своем какое-нибудь сильное сравнение тому, что увидела. – Или невыметенный амбар. Как ты одинок, папа, труженик мой! А завтра ведь Новый год!
Вся трепеща от любви и жалости, она сняла свое хорошенькое шелковое пальто, расстегнула и засучила рукава. Через мгновение захлопали и застучали бесчисленные увесистые томы, решительно сброшенные ею в угол отовсюду, где только находила она их в ненадлежащем месте. Была открыта форточка; свежий воздух прозрачной струей потек в накуренную до темноты, нетопленную, сырую комнату.
Тави разыскала скатерть, спешно перемыла посуду; наконец, затопила камин, набив его туго сорной бумагой, вытащенной из корзины, сором и остатками угля, разысканного на кухне; затем вскипятила кофе. С ней была ее дорожная провизия, и она разложила ее покрасивее на столе. Так хлопоча, улыбалась и напевала она, представляя, как удивится Дрэп, как будет ему приятно и хорошо.
Между тем, завидев в окне свет, он, подходя к дому, догадался, что его маленькая, добрая Тави уже приехала и ожидает его, что они разминулись. Он вошел неслышно. Она почувствовала, что на ее лицо, закрыв сзади глаза, легли большие, сильные и осторожные руки, и, обернувшись, порывисто обняла его, прижимая к себе и теребя, как ребенка.
– Папа, ты, – детка мой, измучилась без тебя! – кричала она, пока он гладил и целовал дочь, жадно всматриваясь в это хорошенькое, нервное личико, сияющее ему всей радостью встречи.
– Боже мой, – сказал он, садясь и снова обнимая ее, – полгода я не видел тебя. Хорошо ли ты ехала?
– Прекрасно. Прежде всего, меня отпустили одну, поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни старой Цецилии. Но, представь, мне все-таки пришлось принять массу услуг от посторонних людей. Почему это? Но слушай: ты ничего не видишь?
– Что же? – сказал, смеясь, Дрэп. – Ну, вижу тебя.
– А еще?
– Что такое?
– Глупый, рассеянный, ученый дикарь, да посмотри же внимательнее!
Теперь он увидел.
Стол был опрятно накрыт чистой скатертью, с расставленными на нем приборами; над кофейником вился пар; хлеб, фрукты, сыр и куски стремительно нарезанного паштета являли картину, совершенно не похожую на его обычную манеру есть расхаживая или стоя, с книгой перед глазами. Пол был выметен, и мебель расставлена поуютнее. В камине пылало его случайное топливо.
– Понимаешь, что надо было торопиться, поэтому все вышло, как яичница, но завтра я возьму все в руки и все будет блестеть.
Тронутый Дрэп нежно посмотрел на нее, затем взял ее перепачканные руки и похлопал ими одна о другую.
– Ну, будем теперь выколачивать пыль из тебя. Где же ты взяла дров?
– Я нашла на кухне немного угля.
– Вероятно, какие-нибудь крошки.
– Да, но тут было столько бумаги. В той корзине.
Дрэп, не понимая еще, пристально посмотрел на нее, смутно встревоженный.
– В какой корзине, ты говоришь? Под столом?
– Ну да же! Ужас тут было хламу, но горит он неважно.
Тогда он вспомнил и понял.
IV
Он стал разом седеть, и ему показалось, что наступил внезапный мрак. Не сознавая, что делает, он протянул руку к электрической лампе и повернул выключатель. Это спасло девочку от некоего момента в выражении лица Дрэпа, – выражения, которого она уже не могла бы забыть. Мрак хватил его по лицу и вырвал сердце.
Несколько мгновений казалось ему, что он неудержимо летит к стене, разбиваясь о ее камень бесконечным ударом.
– Но, папа, – сказала удивленная девочка, возвращая своей бестрепетной рукой яркое освещение, – неужели ты такой любитель потемок? И где ты так припылил волосы?
Если Дрэп в эти мгновения не помешался, то лишь благодаря счастливому свежему голосу, рассекшему его состояние нежной чертой. Он посмотрел на Тави. Прижав сложенные руки к щеке, она воззрилась на него с улыбкой и трогательной заботой. Ее светлый внутренний мир был защищен любовью.
– Хорошо ли тебе, папа? – сказала она. – Я торопилась к твоему приходу, чтобы ты отдохнул. Но отчего ты плачешь? Не плачь, мне горько!
Дрэп еще пыхтел, разбиваясь и корчась в муках неслышного стона, но сила потрясения перевела в его душу с яркостью дня все краткое удовольствие ребенка видеть его в чистоте и тепле, и он нашел силу заговорить.
– Да, – сказал он, отнимая от лица руки, – я больше не пролью слез. Это смешно, что есть движения сердца, за которые стоит, может быть, заплатить целой жизнью. Я только теперь понял это. Работая, – а мне понадобится еще лет пять, – я буду вспоминать твое сердце и заботливые твои ручки. Довольно об этом.
– Ну, вот мы и дома!
Тифозный пунктир
I
«Если тиф передается насекомыми, – рассуждал я с отвращением к этому слову, – ибо обидно было зависеть от какой-то организованной протоплазмы, хотя сам я чесался уже во всех местах тела самым методическим образом, – если так, – продолжал я, взглядывая на храпевших рядом солдат, – то странно, что до сих пор я не болел». Так думал я, тревожно рассматривая красное лицо человека, лежавшего рядом со мной под шинелью и полушубком. Он потел и крепко дышал. Это продолжалось с ним седьмой день; днем он перемогался, а ночью бредил и вскакивал, но, боясь как огня больницы, предпочитал неопределенность сознанию роковой болезни, и никак нельзя было уговорить его показаться врачу.
Меж тем не было у меня сомнений, что у него тиф, – так страшно горели его глаза; как от печки, дышало от него жаром, и, двигаясь через силу, он говорил неровным, упавшим голосом. Тогда я еще не знал, что тиф разит спустя дней двенадцать после того, как она попробует твоей крови. Поэтому, спя рядом с больным, считал я себя редким счастливцем, так как пока был совершенно здоров.
Мне не спалось. Я курил отвратительную «советскую» махорку, – признак солдатской бедности, – ее курил только тот, у кого не было денег купить лучшего табака, – курил и вспоминал дворника одного дома, в котором жил до солдатчины. То был тридцатилетний гигант, красавец деревенского типа; не прогнувшись, вносил он на пятый этаж четверть сажени дров. После смерти жены осталось у него четверо детей, – две девочки и два мальчика, – от шести до одиннадцати лет; они и отец умерли в три недели. Перед смертью, шатаясь, встал с постели и пошел, в полном бреду, великан этот на улицу. Я задержал его с помощью прохожих; отбиваясь, но уже слабый, он твердил: «Вот луна-лунушка, я пойду на луну, жаловаться; там дохтуров нет. Убьют меня дохтура наши».
II
Мы жили близ вокзала маленького уездного города, в чайной, – шесть человек обозной команды, отряженной караулить обоз; он стоял под навесом среди путей. Днем чайная была полна народом, и мы гнездились за угловым столиком, не раздеваясь, одурелые от газа и холода. Холод стлался внизу, щемя ноги; наверху же стоял банный пар, пропитанный махорочным дымом. Когда чайная закрывалась, мы сдвигали столы и ложились на голый пол, и в зубы, из щелей между бревен, крался мороз. Утром мы вставали, дрожа.
Все мы были из Петербурга и все тосковали о нем. Странный, роковой город, – лишь в те месяцы почувствовал я всю магнетическую силу его притяжения, все мрачное очарование его ран, зияющих пустырями и темными громадами пустынных домов, лишенных огней, среди глыб снега и льда на заколоченных улицах. Истинную и глубокую страсть внушал он. Не было дня, чтобы компанионы мои – два сапожника, повар, сын лавочника, неоконченный реалист и я – не составляли планов, как попасть в Петербург, и не вспоминали всех милых особенностей этого города, ставшего духовной необходимостью. Он снился. Подобно потерянному раю, отделенный пропастью положения, светился и блистал он вдали заветной страной.
Три вещи были у меня, чем-то приближавшие Петербург – картинка, – хоровод молодых девушек, «Вестник Иностранной Литературы», взятый из местной библиотеки, и настоящий китайский чай, добытый путем жертвенной продажи пайка. Будь благословенно, растение страны мандаринов, – твой аромат и магическая сила твоя не раз уводили затерянного в глуши солдата к себе, возвращали его – себе.
III
Как я не спал, то разводящий, проснувшись, только спросил: «Идешь?» Моя очередь была стать на караул. И я вышел в мороз, под свет луны, в тишину снега.
С платформы, под крышей которой меж темных рядов фур, железных кухонь виден был ряд вагонов проходящего эшелона; светящиеся окна теплушек и раскрытые двери их дышали огнем железных печей, бросающих на засыпанный сеном снег рыжие пятна. Там ругались и пели. Закрывая хвост эшелона, темнели белые вагоны санитарного поезда, маня обещаниями, от которых содрогнулся бы человек, находящийся в обстановке нормальной. Взглядывая на них, я думал, что нет выше и недостижимее счастья, как попасть в эти маленькие, уютные и чистые помещения, так нерушимо и прочно ограждающие тебя от трепета и скорбей мучительной, собачьей жизни, нудной, как ровная зубная боль, и безнадежной, как плач. Но я знал, что счастливцы – счастливцы исключительно лишь могут быть там, среди уютного запаха лекарств и бодрого электрического света, озаряющего чистое белье, в то время как расторопный, грубоватый санитар несет в ведерках кашу и суп. Эти счастливцы были раненые и труднобольные или те, кто с помощью солдатских преданий, передаваемых устно, прострелил ногу себе сквозь дощечку; или набил в ухо горчицу, жертвуя барабанной перепонкой ради иных ценностей, более важных. Признаюсь в том, в чем, думая тогда так же, как я, не признается, быть может, никто; я хотел заболеть, и заболеть так серьезно, чтобы меня эвакуировали в Петербург, без которого, я уже ясно чувствовал это, – жить не могу. В этом роде размышлял я еще около двух часов; потом явился сапожник и взял у меня винтовку, и я ушел в чайную и заснул.
IV
Как ни сопротивлялся повар (это он заболел тифом), но, упав два раза на улице, смолк и ушел в больницу. Больше я не видел его. Меж тем «она» делала свое дело, и я не знал этого. В воскресенье, читая «Вестник Иностранной Литературы», а именно «Поглотители» – Анны Виванти, – роман, прочитав который в первый раз в четырнадцатом году, я собрался было писать автору благодарственное письмо, но не сделал этого по незнанию итальянского языка; роман, в котором женщина, написавшая о своем так беззаветно и честно, что книга кажется откровением, – я остановился читать и поднял глаза.
Когда внутри меня улеглось стремительное движение, вызванное контрастом меж тем, что я увидел вокруг себя, и тем, что прочитал в книге, я понял неуловимым ощущением организма, что наступил момент, когда я должен и мог идти в белый вагон. Мои колени дрожали, во рту было невкусно и сухо, а пространство, оставляя неподвижными все предметы, качалось внутри меня или предо мной. Ледяная вода озноба лилась по спине, я дышал жарко и глухо, с сознанием опасности, помогающей жить.
Я никому не сказал, куда и зачем иду. Я так торопился, боясь, что уйдет санитарный поезд, который приходил вообще случайно и ненадолго, – а меж тем в этот день он как раз был у станции, – что ряд еврейских девчонок, вытянувшись по тому переулку, которым я шел, мелькнул мимо меня с быстротой частокола. В амбулаторном вагоне пожилая сестра свертывала порошки, и я сел с ней рядом на табурет в ожидании, пока позовут доктора. Он пришел не скоро, но я не мучился этим. Я наслаждался ровным, сухим теплом чистого помещения, – этим невыразимым обещанием жизни, разлитым в белой окраске стен, лечебном виде склянок, расставленных по полкам, и чистенькой холщовой дорожке. Все это было так приветливо ненормально после четырех месяцев грязи, холода и тоски, что слезы подступили к моим глазам.
Наконец пришел врач, плотный латыш; нечисто выговаривая по-русски, он выщупал меня жесткими, как горох, пальцами, взглянул на язык и сунул мне под мышку термометр. У меня было горячо в подмышке, но, крепко прижимая стеклянную трубочку, боялся и трепетал я, что температура не выручит. Однако сестра милосердия, взяв термометр, мельком взглянула на меня с выражением, равным, по крайней мере, градусам 38-ми. «Сколько?» – спросил я. «Без двух сорок». Тогда я оглянулся вокруг с чувством жильца, въехавшего в уютное помещение.
Затем санитар, поддерживая меня, так как я шатался от слабости, переправлял в другой вагон, – с полок тупо смотрели воспаленные лица больных, – и указал койку. То был соломенный матрас, подушка и старое суконное одеяло с гнилыми прорезами. Я лег, тотчас стало таять и исчезать все, крепившееся до тех пор перед глазами; смутный разговор – или бред еще отозвался некоторое время во мне, без смысла и связи слова; затем, настраивая счастливо, дрогнули под полом колеса, и меня медленно понесло прочь от дикого уездного города. «Петербург». Это я узнал от врача. Окна стемнели; наступил сон.
V
«Вы будет эвакуация», – так говорил доктор, осматривая меня, и я, проснувшись снова, услышал это, словно из-за окна, где билась метель. Голос задрожал и исчез; другой раздался над ухом. Я открыл глаза; мужчина с всклокоченной бородой, держась за мое колено, сидел рядом, его глаза были красны и печальны.
– Чего спишь? – говорил он. – Вставай, давай плановать.
– Как плановать?
– А я не сплю, слышу: Питер да Питер. Ты это бредишь. Питерский сам?
– Да…
– Ну вот, в Питере тебе не бывать. Знаешь, куда везут? В В. Всем питерским сказывают: «Питер, мол; дома будешь». Ну, чтобы не бубетенили. Был санитар тут, он и открылся.
Я встал; казалось, изломав все тело, совершил я это движение. Как! С быстротой ветра мы уходим все дальше от города, одно имя которого веет уже надеждой? Я вдруг поверил и вдруг же с возбуждением, полным отчаяния, уперся всей душой противу движения, умыкающего меня в неизвестную и ненавистную сторону. Прав был мужик, – или, бредя наяву, слышал, передав мне то, чего никогда не было, – так и не узнал я, но хорошо знал, что теперь сделать. Мной двигала сила отчаяния. «Что надумал? – сказал мужичок. – Давай плановать; вот – первое это, пойду просить в В., чтобы отправили в Питер; там лечиться; я семейный, семья у меня на Лиговке; муки им купил».
Не слушая его, тронулся я, хватаясь за вагонные пинерсы с головокружением, но и с упрямством, равным упрямству пьяного, попадающего несмотря ни на что именно туда, куда вздумал попасть. Открыв дверь в соседнее отделение, увидел я дежурного санитара. Санитар спал, тыкаясь затылком в трясущуюся стену вагона; сидел он на табуретке, загородив вытянутыми ногами проход, и я перешагнул их.
Открыв дверь в боковой коридорчик, соединяющий внутреннее помещение с площадкой вагона, я выскочил на нее с тем чувством, с каким, спасаясь от пожара, должен выскочить задыхающийся в дыму человек.
Передо мной была последняя дверь; за ней, резко стегая рельсы, мчался напевающий стук колес, и я быстро открыл ее.
В тьме выла и кипела вьюга, коля снегом лицо. Ничего нельзя было рассмотреть в мелькающем белизной мраке, он рвался и гудел против движения поезда, гася мгновенные искры трубы, огненные черты которых секли пространство перед глазами. Хотя был я в жару, мороз крепко обжег меня, хлынув в ноздри и легкие резким запахом холодного снега, и засеклось дыхание. Но мороз оживил меня. Занося ногу в пустоту и выпятившись вперед на руках, цепляющихся горячей кистью за каленое железо поручней, думал я так же быстро, как отстукивали колеса: «Мгновенно ли приму смерть? Останусь ли жив?» «Карма», «Кисмет» – «Судьба» – «Рок» – все имена таинственного Завязанного Лица метнулись по открытой странице мгновения и исчезли.
«Если головой в столб? Но Петербург дороже всего. Умереть в В. или теперь, – разница тридцати-сорока верст». Я отделился без страха, как купающийся бросается в воду, и, вытянув вперед руки, упал. В тот момент я не чувствовал тела, казалось, одна голова моя рванулась по тьме, и тотчас ударило по ногам. Перестав слышать и видеть, я хлопнулся, взрыв снег, тотчас набились им мой рот, ноздри, уши и рукава; задыхаясь, вылез я из глубокой ямы и переполз к рельсам. Далеко впереди исчезал огонек фонаря, – то уходил поезд, и стук его отдавался в рельсе, под коленом моим, еле слышным: «чик-чик, тик-тик, чик».
Заряд, двигавший мной, не только не исчез после падения, но как бы удесятерился; мне было жарко; так жарко, что резкая стремительная пурга, бившая по щекам, казалась нежной прохладой. Не желая даже минуты оставаться в бездействии, я встал и, шатаясь от рельсы к рельсе, побрел в противоположную сторону.
VI
Как я шел, – скоро, или же – тихо, ныло ли тело мое или, наоборот, с легкостью духа, одержимого безумием, неслось в вьюге, среди морозной пустыни, – теперь я не могу вспомнить. Но я очень хорошо помню, что снег, вначале стлавшийся струями сыпучей пыли вдоль рельс или перетекавший через них, скоро перестал виться меж ног; он повалил так густо, что, подобно массам белого пара, застлал все. И в нем родился тонкий аромат сирени, столь восхитительный, что я с изумлением и восторгом остановился как бы среди белого сада. Он повеял, проблагоухал и исчез. Все было бело; в белой непроницаемости, стихшей и мертвой, шел я без уверенности, того ли направления я держусь; не было даже видно рельс, и я часто ощупывал их руками, становясь на колени. Но не было во мне по-прежнему никакого страха; веселый, лишь чувствуя себя легким, как вата, я пел или пытался свистать. Меня не оставляло убеждение, что я скоро подойду к станции. Об остальном я не думал, – всякие поезда, во все стороны, идут от станции той, и мне следовало выбрать из них тот, который движется в Петербург.
Как я был уверен, что скоро подойду к станции, то нимало не удивился, заметив впереди рыжие, с радужной каймой, круги света; настолько-то я отдавал себе отчет в обстоятельствах, чтобы сообразить близость этих огней, – раз свет одолевал спокойный снег. Переход от хаоса к человеческому гнезду совершился внезапно, – я был уже очень близко к станции (к полустанку). Как будто сквозь мокрое полотно проступил неполный рисунок; угол крыши, с другой – фонарь над ней и яркие искры рельс, проходящих в белую тьму. Свет среди нее распространялся туманной, но яркой сферой, тогда я увидел, что у полустанка, отступя вправо три пары рельс, стоит поезд; заликовав, я побежал прямо к нему.
VII
На платформе не было ни души. Проваливаясь в тяжелый снег, торопливо побрел я вдоль ряда темных вагонов, закрытых наглухо, ряд этот прерывался платформами, с буграми занесенного снегом холста, из-под которого торчали дула орудий. Малейшей озаренной щели не виднелось в вагонах, и я подумал уже, не стоит ли он здесь давно на запасном пути, как, еле дыша, еле передвигая от поразившей меня усталости горячие и мокрые, в валенках, ноги, заметил далеко впереди маленькое пятно огня, трепетавшее у вагона, – и крикнул. Никто не слышал меня. Не было и конца вагонам, которые миновал я, пробираясь к замеченному огню, страстно желая одного: не повалиться без сознания в снег. Как закостеневшее страдание, как жизненный путь долог был переход этот, но вот – стал больше, на снегу, свет, в нем показались следы, комья, – я подходил, был близко, уже слышались медленные, глухие голоса, топот и хруст лошадиной жвачки. Вдруг отчаянные, как топором в стену, удары перебили это тихое оживление, так что загудел весь вагон. В это время соседний вагон, о который я опирался рукой, скрипнул и двинулся, колоколами прозвенели сцепления, щелкая по всему составу, и я понял, что поезд уходит.
Нельзя было терять момент, конец которого так слепо и глупо ускользал из моих рук. Я стоял против раскрытых заслонов теплушки, под полом которой болталась, готовая выпасть, засунутая концом где-то внизу, доска; видимо, ее подняли, – без нужды теперь входить и выходить. Ее конец торчал вровень с моим плечом. Судорожно охватив доску, я повис на ней всем телом, силясь приподнять и перекинуть его так, чтобы лечь животом поперек доски; тогда мне легче было бы подняться в вагон. Едва мне не удалось это, но, соскользнув опять вниз, потерял я всю силу, выброшенную отчаянием. «Помогите! – кричал я. – Спасите! Здесь человек!» – но увидел, что дверь с шумом закрылась. Слабо ли я кричал, воображая, что кричу оглушительно, или потерялся мой голос в нарастающем движении поезда, – в его дребезге и громе колес, пересекающих рельсовые соединения, – только дверь осталась закрытой. Подогнув ноги, я висел на руках. Менее всего было у меня мысли отпустить доску, хотя, на сравнительно тихом еще ходу, мог я сделать это безнаказанно.
Уверенность, что поезд идет на Псков, поддержала бы меня даже против опасности упасть в пропасть. Меж тем, теряя силы, руки мои вытягивались с болезненной ломотой и дрожью; уже скользили по промерзшей доске окостеневшие пальцы. С понятием крайнего ужаса перехватился я вплотную к вагонной двери и стал стучать в нее головой – так, как стучат поленом; замутило и затошнило меня. Тогда с тем же визгом, как при обратном движении, двумя-тремя рывками, отъехала, заскользив, дверь, и за мои руки, с силой истинного чуда, ухватилось несколько рук. Ряд непечатных ругательств, раздавшихся одновременно, прозвучал мне райской мелодией; я застонал, ступил на доску и повалился без чувств.
VIII
– А ну, дай хлюста!
– Давай еще.
– Вини проклятые.
– Ходи с крестей. – Туз тебе в лоб! – А вот выкуси!
Я лежал в «лошадином» вагоне. Только что открыл я глаза, как в стороне раздались оглушительные удары о стенку; казалось, треснет она. Вагон трясся и скрипел, убегая в морозном полурассвете, показавшем сквозь полураскрытые двери тускло-зеленое небо, к неизвестной мне цели; внезапный страх, что едем мы не на Псков, окончательно разбудил меня, опередил все прочие впечатления. Несколько солдат, греясь вокруг костра, расположенного тут же, на железных листах и толстом слое песка, среди кип прессованного сена, играли в карты.
Я лежал на сене. Ни приподняться, ни даже пошевелиться я был совершенно не в состоянии; жар, истощина и тягучая боль во всех членах в связи с жаждой были так нестерпимы, что я замычал. «Страдаешь? – спросил, услыша меня, солдат, оборачиваясь с рассеянным вниманием человека, занятого игрой. – Смотри, ожил ведь, а говорили – помрет».
– Куда мы едем? – сказал я. – Дайте воды, горю весь.
Солдат, не выпуская карт, сунул мне в рот носок жестяного чайника, жадными глотками залил я терзавший меня огонь; дышать стало легче.
– На Скоп едем, – ответил он. – Еще пить хочешь? Говори, кто такой, тебя с доски сняли, убился бы ты…
Память была жива, я рассказал. Молчанием встречен был рассказ мой; не думали они, что пригрезилось мне рассказанное?
«Так мы едем на Псков?» – раздраженно спросил я. «Вот дурной, говорят, – в Скоп, ну и в Скоп». – «Побожись!» – и я привстал даже, чтобы подметить в выражении лиц солдатских, не лгут ли они. «Я тебе божиться не буду!» – закричал солдат, поивший меня. – «Молчи, когда лежишь, в Скопу в лазарет сдадим…» – «Не кричи, – сказал я, – ведь я только спросил». – «Только», – проворчал он, вытаскивая прикупку. – «Ну вот – очко с гаком, леший же тебя побери и с Скопом твоим».
Тут снова раздался грохот, шум, тяжкий, как горе, вздох и сотрясающее падение огромного тела. Тогда я увидел, что в полутьме стойл, судорожно двигая головой и беспомощно махая копытами, бьется на боку огромная белая лошадь; ее живот вздулся; твердая красивая шея с расшатавшейся гривой в ужасе и боли агонии силилась взвиться, но, изнемогая, вытягивалась снова в навоз. Бока животного вздувались и опадали. Раз вскочила она, трясясь вся, роняя изо рта пену и взматывая головой, но тяжело грохнулась; копыта загрохотали по стенке. Там были еще три лошади; они шарахались или, пугливо косясь, шумно и нервно дышали, беспокойно переступая ногами. Умиравшая была опоена – после большой порции овса дураком конюхом, – и овес задушил ее. Я узнал это потом. Солдаты приостановили игру.
– Кончается.
– Загубили скотину.
– Эй, как трепыхает ее… И сколько ж часов это. Она билась еще – долго; забываясь по временам, я вздрагивал от резкого стука. Наконец в полной тишине среди заснувших, скорчась от холода, солдат открыл я глаза, всматриваясь в угол вагона, – тихо и неподвижно торчали там из бугра вздувшегося горой тела прямые, как палки ноги.
«Петербург, Петербург», – отстукивали колеса, все приближая меня к Пскову, – откуда я мог, я знал это – попасть в Петербург. Но где «Петербург» этой несчастной лошади?
И не смешно ли, что до слез, до потускнения радости своей мне жаль было ее?








