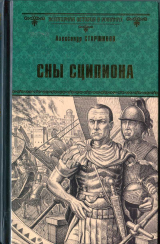
Текст книги "Сны Сципиона"
Автор книги: Александр Старшинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Но письмо супруги я прочел много позже. По возвращении Диодокл отдал мне свиток в футляре и сказал, что Эмилия прислала мне в дар мальчика-раба, юного сирийца необыкновенной красоты. Отрок уже ждет меня в моей комнате. При этом он почему-то смотрел в сторону и как-то странно кривил губы. Надо сказать, я удивился. Поскольку, в отличие от моего брата, не имел склонности к мальчикам, и, зная, как мы небогаты – и я, и семья Эмилии, предпочел бы, чтобы она прислала мне теплые вещи, потому как зиму мне предстояло провести здесь, в Канузии. Я прошел в свою комнатку. Юноша сидел на кровати, одетый на восточный манер – длинная туника почти до колен, с длинными опять же рукавами, широкие штаны, стянутые у щиколоток шнурками, мягкие кожаные сапожки, удобные для верховой езды. Голова мальчика была обмотана тканью так, что все лицо, кроме подведенных сурьмой глаз, оказалось скрыто.
– Надеюсь, ты умеешь чистить оружие и носить воду, – сказал я с усмешкой, глядя на тонкие запястья, обильно унизанные серебряными браслетами.
Юноша медленно поднял руки, откинул ткань с лица и головы, и я увидел Эмилию. Выражение неописуемого торжества на ее красивом дерзком лице – наверное, так я бы смотрел, сумей впервые одолеть пунийцев в отчаянной битве.
Я стоял, растерянный, глядя на жену мою и часто моргая.
– Нет, воду носить не стану, – сказала Эмилия со смехом.
Она откинулась, упершись руками в кровать. И когда я кинулся к ней, она сама распустила шнурок на тунике, стягивающий одежду у горла. В тягостных бедах уходящего лета у меня не было любовных утех с той поры, как я покинул Город. Женщины исчезли из бытия, наполненного смертью, гниющими ранами, кровью. И появление Эмилии, от которой сладко пахло изюмом, розовым маслом и горько – походным костром и дорожным потом, свело меня с ума. Мои пальцы распустили шнурок шаровар, и я ощутил влажный сок желания и твердую горошину Венериного холмика.
Весь остаток дня я провел в кровати, позабыв обо всем на свете, благо, тот день был свободен от армейских тягот. Отдыхая после Венериных забав, я иногда забывался сном, а просыпаясь, воображал, что приезд Эмилии мне пригрезился этим необыкновенно жарким для конца сентября днем. Но моя любимая была здесь, рядом, я ласкал ее горячее податливое тело и мечтал, чтобы этот день никогда не кончался.
– Как долго ты намерена пробыть в Канузии? – спросил я, когда мы наконец выбрались из постели.
– До той поры как не окажусь в тягости, – ответила она просто, будто эти планы мы уже обсудили и решили, что так тому и быть.
В своей дерзости она ринулась в этот путь, ничего не взяв с собой, кроме продовольствия на дорогу, острого кинжала да кошелька с несколькими монетами. Так что мне пришлось поутру лично отправиться к Бусе и просить у нее какое-нибудь приличествующее женское платье для Эмилии. Я не стал распространяться, в каком именно наряде прибыла ко мне юная супруга, сказал лишь, что дорожное ее платье совершенно не подходит замужней женщине, и мне тут же были дарованы почти новая, один только раз стиранная стола, и легкая палла, и теплый плащ для моей супруги.
Я так же известил Марцелла о прибытии жены и испросил день для домашних дел. В своей щедрости, поразившись смелости Эмилии, отправившейся в путь в сопровождении единственного раба, Марцелл даровал мне пять дней для наслаждения нашей встречей. Впрочем, в торопливости теперь не было нужды – мы оставались покуда на месте и приводили уцелевшие отряды в порядок, собирали остатки фуража, строили зимний лагерь в надежде на прибытие новых беглецов, запасались провизией для зимовки и пытались получить достоверные известия о том, что поделывает Ганнибал. Все опасались, что Пуниец попробует осадить Город – в этом случае нам надлежало сорваться с места и мчаться на выручку. Но осады Рима не случилось. К тому же и в Городе у нас нашлись защитники. Прежде чем направиться на смену Варрону в Канузий, Марцелл отослал в Рим полторы тысячи набранных для флота солдат.
На другое утро, пока Эмилия спала, я прочитал ее подробное письмо о том, что же творилось в Городе, после того как прискакал гонец с известием о поражении при Каннах.
«Всем известно, что в Риме женщинам не дозволено пить вино, они пьют только пасс – напиток этот приготовляется из изюма и по вкусу напоминает сладкое вино, эгосфенское или критское. Родные всегда тщательно следят, чтобы женщина не имела вина в своем распоряжении, но в те дни женщины позабыли о запретах и порой пили вино даже неразбавленным, лишь бы утишить муку. И близкие, из тех, кто оставался в доме, даже сам хозяин, не смели о том обмолвиться. Как-то одна вдова сказала: мне некого больше целовать при встрече, все мои погибли, даже сыновья двоюродных братьев, никто не уловит запаха вина на моих губах. И рассмеялась диким пьяным смехом.
Женщин буквально насильно заталкивали в помещения и оставляли там запертыми, как птиц с поломанными крыльями в клетках. Оплакивать погибших дозволили только месяц. Помпония, чей дом стоял от нашего неподалеку, оплакивала мужа – она вышла замуж в семнадцать лет и успела родить одну девочку за два года своего счастливого брака.
Минуло несколько дней, и вслед за гонцом прибыли отпущенные Ганнибалом пленные, чтобы вести переговоры о выкупе. Список имен заполнил целый свиток, тогда многие узнали, что их близкие живы. Помпония нашла имя мужа в перечне тех, кто спасся и оказался в руках Ганнибала. Радость на миг посетила Город. Многие, всё потерявшие, вновь обрели надежду. Помпония кинулась к соседям, чьи дети или мужья попали в тенета Пунийца, плакала, обнимала их, целовала детей и стариков, обещала выкупить двоих пленников, за кого родня не в силах дать назначенную цену, в придачу к своему мужу. Она уже окрылялась надеждой увидеть любимого, но радость ее вскоре увяла, как слишком рано расцветший по весне цветок, обожженный морозом, – сенат наотрез отказался выкупать пленных и запретил близким это делать на свои деньги. Ей оставалось только гадать, что сделает с пленными Ганнибал – убьет, отправит в Карфаген на потеху толпе…»
Излагаю я письмо конечно же своими словами, ибо мне не передать дерзкий и порой язвительный строй фраз моей супруги. Записав печальные строки, что сохранила память из письма Эмилии, я отложил стиль и задумался.
Как-то Гай Лелий спросил меня, правильно ли поступил сенат в тот черный год, когда отказался платить выкуп за попавших в плен под Каннами и не позволил им вернуться в Город. Я ответил, что не ведаю.
Но всякий раз, оглядываясь назад, я вновь и вновь вынуждаю себя согласиться, что сенат в те дни поступил верно, как ни жаль бедолаг, павших духом в тот ужасный день.
Надо к тому же помнить, что в плен угодили в основном те, кто сидел в лагерях и не участвовал в бою, ведь оставшихся на поле раненых почти всех добили нумидийцы и галлы. Их резали вечером и потом поутру, когда ночной холод привел полуживых в чувство. Кто-то из тех, кто был только оглушен и ранен легко, сумел выбраться из груды тел и уйти в темноте. Таких к нам прибилось около сотни. Я знал одного – чтобы остаться незамеченным, он полз около часа, боясь встать, и лишь когда решил, что его уже не заметят, поднялся и побрел наугад. Щит и шлем он оставил на поле боя, но клинок был при нем. Боги оказались к нему милостивы, и он вышел к Канузию. Кольчуга его была покрыта кровавой коростой из крови и засохшей земли.
Те же, кто прятался в лагере, вместо того чтобы уйти под покровом ночи, как это сделали я и Тудиан, или уж сражаться за лагерь и умереть, сложили оружие к ногам врага.
Рим был в тот миг как покалеченный воин, сумевший уползти с поля боя, – весь в ранах, грязи и коросте. Но униженный, ослабленный, обескровленный, он должен был обнажить сбереженный меч и явить Ганнибалу и союзникам (союзникам прежде всего) свою доблесть. Ни единого намека на дрожь, на слабость, на возможность пасть. Ни слез, ни мольбы. Неколебимость. Вот что нужно было Риму в те черные дни. Никто не мог надеяться, что смалодушничав и оказавшись в плену, он с легкостью выкупится и вернется домой. Отныне римляне не должны сдаваться в плен – их можно только захватить силой, оглушенных, тяжко израненных, полуживых.
Но тех солдат, кто спасся, кто вернулся, избежав плена, кто собрался в Канузии, чтобы сражаться, сослали, на мой взгляд, несправедливо – ведь всадники и трибуны не отправились вместе с легионерами отбывать позорную службу на Сицилию. Аристократам дозволили встать во главе новых легионов и воевать, не унижая и не требуя, чтобы они ночевали на земле, не разбив притом лагеря, их не держали за оградой, не подвергали поруганию, как простых пехотинцев Канн.
Полагаю, нам было слишком стыдно за то поражение, посему злость вымещали на всех подряд. Наверное, каждый из нас сознавал, что отныне ни одна победа Рима не затмит Канны. Уже никогда.
* * *
Обедали мы в день нашей встречи с Эмилией уже в темноте, и трапеза была весьма скромной – приготовленная Диодоклом каша с маслом (отличное масло прислала нам Буса) да хлеб с сыром. Гай Лелий и Аппий Клавдий, которых я пригласил на свой скромный обед, буквально пожирали глазами Эмилию. Я не удержался и несколько раз поцеловал мою голубку в губы весьма страстно. Наверное, Катон пришел бы в ярость от подобной развязности и падения нравов. Помнится, в прошлом году, отправляя обязанности цензора, он вычеркнул друга моего Манлия из списка сената лишь за то, что тот поцеловал свою жену в присутствии дочери. Говорят, этот рыжий крестьянин пишет записки, поучает, как вести хозяйство, и советует все ненужное распродавать – старых и больных рабов в том числе. Вот взял бы я и продал Диодокла, потому как тот стар, почти оглох и не так шустер, как в юные годы. Ах, нет, не могу я его продать, я дал старому плуту свободу. Изработавшийся раб, как любой старый человек, прирастает к дому, здесь у него свой закуток, конкубина, сморщенная, как зимнее яблоко, узелок с барахлом, а вилик не станет его гнать под дождь и в холод в поле, позволит посидеть под навесом за нетяжелой работой – шитьем из старых туник одеял или починкой упряжи, в нундины он сможет отправиться на базар, а в зимние дни заняться своими делами. По вечерам с другими рабами он будет обедать на кухне, чтобы потом подремать у очага и послушать в пол-уха домашние сплетни. А на сатурналии он сядет за стол со всей фамилией и будет пировать с остальными…
Ну, вот я отвлекся, чтобы спорить в записках с этим рыжим упрямцем. Спорю сейчас, потому что порой самое важное не договорил против него в сенате и на форуме, такие, как Катон, страшны тем, что злые свои дела прикрывают жаркими фразами о добродетели.
Но вернемся назад, в Канузий…
Ночью, когда мы снова лежали в постели, Эмилия сказала:
– Я сначала не думала ехать. Все говорили, что Ганнибал где-то рядом, что повсюду рыщут его солдаты.
– Так было. И ты сильно рисковала.
– Не так сильно, как кажется. Диодокл, пока ехал в Рим, высмотрел дорогу – где можно остановиться на ночлег, где дом гостеприимен, а где нет. Все ждали вестей из Города, и зачастую платой за ночлег был долгий рассказ про то, что говорят на форуме и что решил сенат.
– Диодокл, он – сокровище, но я бы забил его до смерти, если бы с тобой что случилось.
– О, ты не прав. Он – раб. Только раб, а я его госпожа. И не ему приказывать мне. Так вот, я написала длинное-предлинное письмо. То самое, что Диодокл отдал тебе. А потом, устав писать и изведя все чернила, подумала: а зачем я вообще пишу? Ты жив, ты спасся. Ты не в плену. А многие не вернулись и никогда уже не придут домой. Я счастливица, но не могу тебя видеть. Так чего же я жду? Быть может, счастье мое лишь на дни и часы длиннее прочих, быть может, в новой битве тебя не станет. Война будет долгой, годами мне не видеть тебя, годами ты не будешь знать моего ложа. Есть женщины, что, потеряв мужей, в отчаянии бросаются в объятия рабов или вольноотпущенников, дабы обрести потомство и дать доблестное имя фальшивым наследникам. Но у меня-то есть муж, живой и невредимый, нас разлучает не смерть, а всего лишь дорога. И тогда я решила преграду эту смести. Взяла мула, взяла одежду одного из наших рабов, упрятала в сумку украшения, деньги, припас еды. И вот я в пути.
Я покачал головой. Это было безумное решение, и принять его могла только одна женщина в Риме – моя супруга.
Уже после победы она возглавила дерзких матрон, которые пошли в атаку на Порция Катона в год его консульства, требуя отменить закон, налагавший запрет на роскошь[51]51
Имеется в виду Оппиев закон, введенный в начале Второй Пунической войны.
[Закрыть]. Война закончилась, в римские лавки хлынули сокровища с Востока. Выходя из нашего дома на Тусской улице, Эмилия шла вдоль торговых рядов, заваленных яркими тканями, золотыми украшениями, духами и притираниями. Зачем эти сокровища продаются, если их невозможно купить?
Я бы задал другой вопрос: зачем этот закон, если его никто не собирается выполнять? Помнится, после моего возвращения из Испании (мне было отказано в триумфе, и я спешно готовился к выборам в консулы) Эмилия созвала подруг, дабы через них агитировать народное собрание отдать за меня голоса. Матроны явились – степенные, строгие, закутанные в серые грубые ткани. А потом Эмилия позвала меня к себе в комнату. Я вошел, и у меня в глазах зарябило от ярких красок, блеска золота, сверканья изумрудов. Все они прятали золото и пестрые ткани под грубыми нарядами. Теперь их накидки были небрежно брошены на стулья. Тогда я подумал, что вся эта роскошь – добыча из разграбленных Марцеллом Сиракуз, привезенная в Рим и попавшая на прилавки торговцев.
– Ну, Публий, – спросила со смехом Эмилия. – Видел ли ты в Испании кого-то прекраснее нас?
– Ослеп, совершенно ослеп, прекрасные домны! – я шутливо заслонился рукой. – Как могу я кого-то сравнивать, если ничего не вижу из-за вашего божественного сияния?
Они засмеялись, радостные, не заметив, что уклончивый ответ можно было истолковать совсем не в их пользу. И уклонился я от прямого «нет» не случайно: довелось мне в Испании видеть женщину такой неземной красоты, что любая из римских красавиц рядом с той испанкой показалась бы жалкой дурнушкой. Но о моей испанке рассказ еще впереди.
Быть может, кто-то, увидев эти заметки, возмутится, решит, что Сципион Африканский был транжира и мот, влюбленный в крикливую роскошь. О, как он ошибется в своем поспешном суждении! Я просто не люблю унылости, которую выдают за суровость, люблю театр и стихи, и занятия в палестре, пускай многие римляне считают это прихотью. Обожаю слушать музыку за обедом, предпочитаю удобную мебель и спальни с окнами. Но я не понимаю, зачем надо строить дворцы с множеством комнат, если самому тебе нужны всего две или три. Зачем держать свору рабов, если обслужить тебя может всего один? Зачем готовить блюда из невиданных заморских тварей, если тщательно приготовленный кусок свинины не менее вкусен и нежен?
* * *
Ну вот, я опять забежал вперед. Роскошь, Рим, добыча из Сиракуз, триумфы… Ни о чем таком после ужаса при Каннах мы и не помышляли. Все толковали лишь об одном: где взять людей, припасы, оружие? Кто из союзников останется верен, а кто предаст? Тогда, пребывая в Канузии, я понял одну вещь: доблесть сама по себе ничего не значит, в итоге она может обернуться горой трупов на поле брани.
Мысль моя, будто старый осел с мельницы, все ходит по кругу, и центр этого круга, вал, что вращает жернов моего рассказа, – битва при Каннах. Но если вы думаете, что я буду вести свои записки, последовательно перечисляя битвы, осады, описывая маневры, тщательно выводя имена консулов, то вы ошибаетесь. Я хотел бы это сделать, но не могу. Слишком многое забылось. Пытаюсь восстановить в памяти утраченное, но это все равно, что вглядываться в темноту безлунной ночи. Так что мой стиль вырезает на воске лишь то, что уцелело в памяти. А это, оказывается, не так уж и много.
* * *
В юности мне все время приходилось доказывать, что я уже достаточно стар, чтобы командовать армиями и занимать положенные для этого должности. В свое время я казался отцам-сенаторам бессовестно молодым для того, чтобы встать во главе испанской кампании. Я так долго убеждал всех, что достиг зрелости, что и теперь все еще кажусь себе юнцом, который по воле обычаев и законов родного края вынужден притворяться стариком. Посему, когда случайно вижу свое отражение – в воде или в зеркале, – меня всякий раз удивляет мой вид – серая кожа, морщины, глубокие складки вокруг губ. Это не я, это кто-то другой притворяется мною, зачем-то горбится, смотрит исподлобья и ощупывает ноющий бок. Я подлинный – где-то там, в Испании или Африке, сражаюсь с армиями Карфагена, высчитываю запасы, тренирую легионеров, бросаюсь в отчаянный рейд на Новый Карфаген.
Мне довелось родиться и жить в эпоху, когда прежний мир умирал, истекая кровью, и из его разлагающейся плоти рождался новый, никому еще незнакомый. Он был совсем иной – этот нарождающийся порядок – вместо узкой ограниченности маленького полиса – вся ойкумена, вместо строгой римской простоты – сладостные соблазны греческой науки и искушения роскошного Востока. Все стремительно менялось, становилось иным и, что самое главное, менялась сама природа добра и зла. Катон напрасно пыжился, пытаясь остановить этот поток, что хлынул на нас внезапно. Не в силах одного человека, даже Катона, противиться Судьбе. Если мы решили, что можем править миром, мы больше не должны смотреть на этот мир с точки зрения скромного городка.
Я же ощущал и ощущаю сейчас: я был одним из тех (причем не из последних), кто заставил этот мир измениться. Кто не просто спасал Рим, но и делал его иным. Сам я уже не увижу, каким Pax Romana станет в будущем. Иногда я думаю, что мой младший сын – с бледной, подкрашенной восточными румянами кожей, с пухлыми женскими губами, отслуживший несколько лет всадником и из этих годов большую часть проведший в объятиях белокурого мальчика, – вот он, лик того Рима, который я создал. Или – вернее – помог создать. Но вместе с тем это Рим Гая Лелия и Семпрония Гракха, мир поэта Энния, мир Варрона, сына мясника, который собирает греческие книги, мир, где римские поэты станут слагать стихи во славу своего Города, подобно Гомеру, мир, где горожане будут посещать не только форум, но и театр.
Глава 9
ЛЕКАРЬ
На другое утро Диодокл все же притащил ко мне лекаря. Бородатый шустрый грек, маленький, юркий, с солидным животиком и пухлыми женскими руками. Он все время улыбался и потирал руки, будто ему было холодно. Я хотел прогнать его, но потом понял по жалкому извинительному взгляду вольноотпущенника, что тот уже заплатил хитрецу из своих скромных сбережений. И я вымученно кивнул. Впрочем, как и мой секретарь, грек тоже был из прежних знакомцев, может быть, потому я смирился с его приходом.
Грека звали Филоном, когда-то он был хирургом в армии Аппия Клавдия, но жизнь раненому Аппию спасти не сумел.
Он заглянул мне в рот, потрогал шею у челюстных костей, потом стал мять зачем-то мышцы на спине – опять же у шеи, потом поклонился и попросил снять тунику, чтобы он мог осмотреть мой живот. Я поморщился, но подчинился. Он коснулся пальцами шрама от раны на боку, потом постучал по спине под ребрами с одной стороны и с другой, спросил, не становится ли мне легче, если я подтягиваю ноги к животу. Долго рассматривал мой язык…
Потом вдруг поинтересовался, давно ли были в моей жизни печальные и тяжкие события.
Я усмехнулся:
– Их было достаточно.
Из недавнего невольно вспомнилось о нашем с братом унижении, о постоянных обвинениях в предательстве и расхищении казны, которые возобновлялись раз за разом. В первый раз я отбился от них, разорвав счетные книги, во второй раз Луция от заключения спас Семпроний Гракх, но это не избавило моего брата от штрафов. Мне пришлось отправиться в Этрурию, чтобы собирать с тамошней клиентелы средства на выплату штрафа, назначенного сенатом для Луция. Поначалу на другой день после приезда клиенты валом валили в дом, где я остановился, – воображали, что патрон, вернувшись в столицу, порадеет за них и поможет: там замолвит словечко, тут присоветует, здесь походатайствует. Занятые своими хлопотами, они не сразу сообразили, что я прибыл вовсе не затем, чтобы исполнять их нехитрые желания, а ради своей корысти – получить с них деньги, и деньги немалые. Тут же они стали юлить, жаловаться на неурожай, на двойные поборы, на долги и разбегались быстро-быстро в надежде, что на кого-то иного упадет мой тяжкий и совсем немилостивый взор. Кто-то, впрочем, не убегал, кто-то платил, одни с неохотой, не требуя ничего взамен, другие – заранее оговаривая услуги. Для меня, приученного чуть ли не с пеленок благодарить в ответ и не оставлять без отдарка ни одну милость, это поборы выглядели особо унизительно, потому что в те дни дать я ничего не мог – влияние мое в Риме сделалось почти ничтожным.
Сенат вел себя откровенно враждебно, а средства я собирал, а не раздаривал. Все же мне удалось наскрести что-то около трети назначенной суммы, и я вернулся в Рим, где брат распродавал часть дорогих вещей, привезенных с Востока.
Все эти склоки и обвинения нас с братом в том, что мы расхитили три тысячи талантов, превратилось в выяснение, за кем нынче идет римский народ – за Сципионами или за Катоном. С тех пор как Катон отправился на Сицилию квестором в год моего первого консульства, началась наша с ним затяжная вражда. Он писал на меня доносы в сенат и ездил сам – рассказывать о моих проступках. С каждым годом моя недружба с этим рыжим крестьянином только росла, и даже казалось, что он видеть меня не может, не закипая тут же от ядовитой злобы. Я стал для него олицетворением всего изнеженного, всего пришлого, греческого, той страшной и непонятной ему силы, что без всякого оружия завоевывала наш Город. Греческое искусство и греческая наука вторгались в столь милый его сердцу простой до примитивности, суровый и честный старый римский мир, вторгались и разрушали его безжалостно и с легкостью, делая то, что оказалось не под силу африканским всадникам Ганнибала. Я же видел в том, что происходит, не вторжение, но единение, не умирание, но перерождение.
Катон с жадным упорством натравливал на меня народных трибунов, будто оголодавших цепных псов, горя желанием показать, что золото Антиоха прилипло к моим грязным пальцам, что я предатель, продавший Республику восточным владыкам. Впрочем, его личная корысть проглядывала под маской защитника добродетелей столь явно, что мне хотелось смеяться над его уловками. Он рвался в цензоры, и борьба со мной и моими союзниками обеспечивала ему славу беспристрастного борца за нравы: уж если Катон не пощадил самого победителя Ганнибала, то и остальным не даст спуска, говорили на форуме. Свое цензорство он, разумеется, получил. Народный трибун Марк Невий оказался послушной игрушкой в его руках, и меня до сих пор не оставляет чувство, что речи для Невия составлял сам Катон. Или же Невий ходил за ним, записывая его рубленые фразы, полные сурового достоинства и плохо скрытого презрения. В устах Невия они звучали пародией на красноречие прежнего хозяина этих едких выражений.
Никто и никогда не обвинял меня до этого в расхищении казны, ибо как в Испании, так и в Африке я доставлял новые богатства Республике – Невий, науськанный Катоном, посмел. Взятка от Антиоха за милостивый и снисходительный мир! Ему и невдомек, что я никогда не стремился растоптать в прах врагов Рима. Ибо враг только на поле боя, а дома – просто человек, глава семьи, с женой, детьми, прислугой и рабами. Я и с Ганнибалом стремился заключить мир, выгодный для Рима, но не зверский, ведущий к укрощению врага, но не к его уничтожению. Так что меня легко было обвинить в снисходительности к побежденным, усмотреть в милосердии подкуп – легко для того, кто не знает цену истинному благородству. Брат Луций потом не раз корил меня за то, что я публично изорвал счетные книги. Эти записи позволили бы нам с ним легко оправдаться. Но мне претило демонстрировать сотни цифр и повторять: глядите, я не взял из добычи ни асса. Я-то не взял. А Луций? Пускай думают, что я счел для себя унизительным оправдываться.
Я отложил стиль и уставился на свои записи. Зачем я лгу здесь, в последнем своем послании незнакомым людям? Да, я не взял себе ничего из присланной Антиохом контрибуции. Но я сделал нечто, за что Невий имел право назвать меня предателем. Мне придется об этом написать. Еще не сегодня… потом.
Я сделал себе эту уступку по времени, пообещав рассказать о моем предательстве в свое время, когда мой рассказ подойдет к изложению событий тех дней. А здесь я просто напоминаю себе о неоплаченном долге.
* * *
Итак, продолжаю…
Все же мои врагам удалось притащить меня в суд. Рассмотрение дела было назначено на секстилий, и день разбирательства стараниями моих друзей и клиентов пришелся на годовщину битвы при Заме. Вместо того чтобы надеть траурные одежды, как положено подсудимому, я пришел на форум в праздничном платье, а поднявшись на ростры[52]52
Ростры – имеется в виду трибуна ораторов, украшенная рострами (носовыми таранами) трофейных кораблей.
[Закрыть], возложил себе на голову венок триумфатора и обратился к римскому народу:
«Я вспоминаю, квириты, что сегодняшний день – это день, в который я одержал верх на земле Африки в великой битве над Ганнибалом, злейшим врагом Республики, и добыл вам мир и замечательную победу. Так не будем же не благодарны к богам; я думаю, мы оставим этого бездельника, – тут я медленно вытянул руку и указал на моего главного обвинителя, трибуна Марка Невия, – и отправимся прямо на Капитолий, где воздадим благодарность Юпитеру Всеблагому и Величайшему».
Я рассчитывал, что мою речь народ встретит радостным криком. Какая еще победа могла быть сладостнее для римского народа, чем победа над Ганнибалом? Но раздались жидкие возгласы друзей и клиентов, да и те быстро смолкли. Мои люди оглядывались в смущении, не видя единодушной поддержки народа.
«Три тысячи талантов-то верни!» – язвительно выкрикнул кто-то.
Смех покатился по толпе. От этого смеха меня бросило в жар. Никогда прежде, кажется, не охватывал меня столь дикий, полные презрения гнев. Будь у меня меч, я бы кинулся в толпу…
Но я сдержался, стиснул зубы, молча сошел с ростр и зашагал к Капитолию. Несколько человек – из людей самых близких и преданных, пошли за мной, остальные, даже клиенты, остались на площади. Я старался идти медленно, гордо держа голову и расправив плечи, подавляя мерзкую внутреннюю дрожь. Мне хотелось кричать, обрушить на головы самодовольных башмачников и разжиревших менял все известные мне проклятия, но я лишь стискивал зубы, не позволяя себе стать вторым Кориоланом, как о нем рассказал Фабий Ликтор[53]53
Гней Марций Кориолан – патриций, из-за вражды с плебеями ушедший из Рима и вставший на сторону вольсков.
[Закрыть]. Но в этот момент я как никто другой понимал яростный бунт этого человека. Гай Лелий нагнал меня и пошел рядом. Трибуны, мои обвинители, остались стоять в окружении писцов и посыльных, заседание суда было сорвано.
Но я проиграл.
Это был час моего величайшего унижения, тем более страшного, что в глубине души я каждый миг помнил о свершенном предательстве и сознавал, что утратил чувство ни с чем несравнимой внутренней чистоты. Я говорил, что обвинители не имеют права меня оскорблять. А на самом деле имели. Я говорил, что облагодетельствовал римский народ. Но, в конце концов, я его предал. Никогда прежде по моей гордости никто не наносил столь сокрушительный удар. Я был уверен, что римский народ вовек не забудет моих заслуг. А они, сыпля злобными насмешками, жаждали моего унижения. И мне вдруг стало казаться, что кто-то рассказал им тайком о моем позоре. Нашептал на ухо каждому поодиночке. И они отвернулись, ничего не говоря и не порицая, не желая меня видеть и приветствовать.
О, если бы это была просто неблагодарность! Ее бы я снес…
На другой день, собрав самые необходимые вещи, я покинул Рим и отправился сюда, в Лагерн, в свое поместье, как в добровольное изгнание.
– Год назад, – сказал я лекарю. – Год назад…
Филон покивал и зашептал мне на самое ухо, хотя, кроме Диодокла, рядом никого не было:
– Боюсь, все очень плохо, доминус… Я составлю для тебя питье, но оно не сможет излечить, а только утишит боль. Может быть, немного продлит твои дни… – Изо рта у него пахло гнилыми зубами и капустой. И я снова испытал приступ тошноты.
Он ушел.
А я натянул тунику и долго сидел на ложе, глядя прямо перед собой. Слова его не были для меня новостью. Я и сам догадывался. Но услышать приговор из уст лекаря…
– Что будем делать? – спросил меня Диодокл.
– Вели приготовить носилки – пускай меня отнесут на берег моря, – велел я вольноотпущеннику.
* * *
Визит лекаря дал мне возможность оправдаться перед Эмилией и девочками. Якобы лекарь нашел в моем теле нарушения равновесия жидкостей и велел пить настой из трав и маковый отвар и три дня ничего не есть, пока равновесие не восстановится.
– Глупый совет, – сообщила Эмилия. – И я терпеть не могу медиков: толку от них никакого.
– Ты просто не бывала в палатке медика после сражения, – заметил я.
– А ты не видел, что творилось с женщинами, которые пили абортивные настойки через пару месяцев после того, как в их поместье побывали солдаты Ганнибала, – парировала Эмилия.








