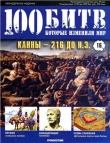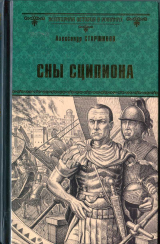
Текст книги "Сны Сципиона"
Автор книги: Александр Старшинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
* * *
Итог этой дерзостной ночной атаки можно было подвести двумя словами: полный разгром. Правда, Сифак с Собонизбой и Гасдрубал бежали. Зато мне удалось взять в плен около пяти тысяч человек и среди них – нескольких карфагенских аристократов.
Добычи нам досталось немного – однако нумидийцы Масиниссы захватили более двух тысяч лошадей, которых Сифак держал за оградой стоянки. Для наших предстоящих дел это могло стать отличным подспорьем. Также нам достались четыре слона в лагере Гасдрубала. В будущем я не рискнул использовать их в битве, зато мои велиты тренировались, как бороться с этими ужасными животными – пугали их громкими звуками и отгоняли бросками дротиков, пока что без наконечников.
Сколько погибло воинов Карфагена в том пожаре, сказать точно никто бы не смог. Как мы поняли позже, многие всадники Сифака спаслись – из тех, кто ночевал за оградой и кто сразу же кинулся в бегство. Спаслась частью и пехота Гасдрубала. В своем отчете для сената я сообщил, что уничтожил две карфагенские армии полностью. Это было почти правдой – ведь отряды, что не погибли, были рассеяны и бежали, карфагенянам пришлось собирать новую армию, которую я потом разбил на Великих равнинах. Добыча, что удалось взять в обоих лагерях, вся была отдана моим солдатам.
Лежащий поблизости город Абба, жители которого были напуганы пожарами, тут же прислал ко мне послов и объявил, что готов сдаться. Я потребовал с горожан выкуп, на что они тут же согласились. Весь полученный выкуп я передал моим солдатам, памятуя, что в чужих землях мои воины будут скорее думать о золоте и женщинах, нежели о защите родных очагов.
Та ночь мне иногда снится. Зарево пожара. Потоки огня. Крики горящих заживо. Я стою в темной траурной тоге, и пепел падает мне на голову. А у ног моих сидит огромный черный пес, заглядывает в лицо кроваво-красными глазами и облизывается.
Глава 6
ПАДЕНИЕ СИФАКА
В эту ночь я почти не спал – мучил бок, меня бросало в пот, дышать было трудно. Легче стало только к утру, и, когда я заснул, привиделось мне не мнимое, а вполне реальное, бывшее: как в календы июня[93]93
Календы июня – 1 июня. Календы в древнеримском календаре – название первого числа каждого месяца.
[Закрыть] посещали мы с отцом семейную гробницу на Аппиевой дороге, захватив с собой корзину цветов для украшения усыпальницы. Я помню мощенный туфом пол и гробницу прадеда моего Луция Корнелия Сципиона Барбата, более греческую, нежели римскую или этрусскую, вырубленную из единого куска туфа, помещенную в самом конце коридора. Падающий из окна свет хорошо освещал ее и ложился далее светлой дорожкой к ногам входящего.
«Человек сильный и мудрый, чья внешность соответствовала его добродетелям…» – гласила надпись.
– Надеюсь, каждому из нас можно будет посвятить подобную эпитафию, – сказал отец, касаясь пальцами камня.
Я проснулся. Первой – горькой мыслью – было сожаление, что отцу не доведется лежать в нашей родовой усыпальнице. Второй – тоже горькой, но смешанной с иронией, мелькнуло напоминание самому себе: тебя минует погребальный костер и в гробницу ты ляжешь, не тронутый огнем.
После того огромного костра, что я устроил для людей Гасдрубала и Сифака, меня это радовало.
* * *
Я не сомневался, что Гасдрубал с остатками армии поспешит в Карфаген. Прежде всего, чтобы успокоить город. А вот что он будет делать дальше…
И все же я получил передышку: у меня теперь появилось немного времени, чтобы взять Утику. Но с осадой опять не заладилось: город продолжал упорно держаться, а я не хотел тратить людские жизни на сомнительное предприятие.
Тем временем в Карфагене суффеты созвали сенат. Обычно этот город не прощал поражений: в другое время Гасдрубала могли бы распять, но сейчас суффетам некого было поставить во главе войска, кроме сына Гискона. К тому же Гасдрубал сумел убедить правителей города, что на самом деле он не потерпел поражения, а столкнулся с поразительным коварством. Ну, надо же – наконец-то римляне обхитрили пунийцев. В эти дни я часто вспоминал детское свое обещание: я обману пунийцев дважды. Ну вот, и обманул – дважды за одну ночь.
Рассеянные мною карфагеняне и нумидийцы собрались снова – Гасдрубал нанял новых солдат и соединил их с беглецами, которых удалось вывести из лагеря. Сифак добавил к тем, кому удалось спастись, новых всадников, что набрал в своих землях. В этот раз он оставил Собонизбу во дворце, справедливо рассудив, что в случае чего удирать одному, без жены и ее прислужниц, будет куда сподручнее. На все приготовления у них ушел всего один месяц. Поразительная скорость! Однако это свидетельствовало об одном – армия собрана наспех, не спаяна и не обучена, а значит, для сложных маневров не пригодна и обратится в бегство при первом же сильном нажиме.
Итак, мне пришлось заняться этой новой карфагенской армией, когда эта разношерстая публика, где новобранцы смешались с ветеранами, где было еще много тех, кто получил ожоги или покалечился во время бегства, вышла против меня биться на Великих равнинах.
Гасдрубал, сын Гискона, был так себе полководец. И мне не пришлось что-то выдумывать особенное, чтобы его разбить. Я решил использовать обычное построение – три линии пехоты в центре, конница по флангам. Гасдрубал выставил против моих легионеров четыре тысячи кельтиберов, которые как раз прибыли в Африку, нанятые вербовщиками в Испании. Не имея возможности продать себя в Испании пунийцам, они решили заработать на крови в Африке и явились как раз вовремя, чтобы принять главный удар римской пехоты в сражении на Великих равнинах. Конница Гасдрубала была рассеяна мною довольно быстро, а вот кельтиберы держались долго – так долго, что стоявшие за ними второй и третий ряды пехоты успели удрать вместе со своими военачальниками.
Каждый из проигравших полководцев отправился к себе домой: Гасдрубал снова в Карфаген умолять сенат вызвать Ганнибала из Италии, Сифак – в Нумидию, собирать новое войско. Но за старым предателем по пятам явились Гай Лелий и Масинисса с армией. Восточная Нумидия тут же признала Масиниссу царем, а западная – чуть позднее после нового поражения Сифака в беспорядочной битве.
Масинисса поскакал к Цитре, столице Нумидии, первым, без римлян, уговорив Лелия отпустить его вперед – мол, нумидийцы охотнее покорятся своему царевичу, нежели римскому легату. Слова его были разумны, и Лелий согласился.
Не учел мой старый друг лишь одного – очарования Собонизбы.
Как-то уже по возвращении в Рим и после моего триумфа мы с Лелием во время обеда завели речь о женской красоте, и Гай поведал, что никогда не видел женщины более притягательной, нежели Собонизба.
– Да, та девушка в Испании, которую привели тебе солдаты, может быть, была намного красивее, – признался Лелий. – Но она смотрела на тебя без всякой нежности, и я не уверен, что она не всадила бы тебе ночью под ребра кинжал.
Я согласно кивнул и не стал его разубеждать.
– А вот Собонизба… – продолжал Лелий. – Ее взгляд обещал каждому нежность. Ее влажные губы всегда были полуоткрыты. Каждое ее движение говорило о вожделении. Мне кажется, ни один мужчина не смог бы устоять перед ее чарами. И если бы Гасдрубал не отдал ее Сифаку, а прислал бы тайком к тебе в лагерь, боюсь, Карфаген не был бы повержен.
– Я бы не устоял? – Моя улыбка была как никогда ироничной.
– Ты-то уж точно!
– А ты? – спросил я со смехом.
– О, я… Я бы согласился на что угодно. По счастью, эта женщина не пыталась меня очаровать.
* * *
Как было уже сказано, Собонизба в этот раз не сопровождала Сифака в походе, оставалась в царском дворце в Цитре. Она вышла навстречу Масиниссе, пала перед ним на колени и в слезах начала умолять, чтобы царевич не отдавал ее римлянам как жену поверженного царя, ибо она, дочь карфагенского аристократа, не переживет плена и позора. Масинисса должен ее спасти ради их давней встречи и расторгнутого отцом обручения. Нумидиец помнил ее еще девочкой, а увидел зрелой роскошной женщиной. Женщиной, которая одним взглядом, одной фразой могла покорить мужчину. Очарованный карфагенянкой Масинисса в тот же день решил устроить свадьбу и жениться на ней.
Тем временем Лелий прислал мне в лагерь пленных во главе с Сифаком. Солдаты высыпали из палаток подивиться славной добыче. В самом деле, что за перемена судьбы – когда-то я рисковал жизнью, чтобы встретиться с этим человеком и заключить с ним союз, а теперь он предстал предо мною в оковах, жалкий, с трясущимися губами, с растрепанными седыми лохмами, в одежде, пускай и дорогой, но неряшливой и грязной.
Несколько дней спустя весть о браке Масиниссы с царицей дошла до моего лагеря.
Пленный царь пришел в такую ярость, что выл зверем и катался по земле. Потом, встав предо мной на колени, порвал на себе одежды и заявил, что его околдовала эта чума, забрала его разум, он говорил ее языком, шептал ее слова и в союз с Карфагеном вступил против своей воли. Эта женщина сумеет наверняка и моего юного союзника сделать снова врагом Рима, заставит царевича, когда наступит час, изменить и ударить мне в тыл во время битвы.
Сифака держали в оковах, и он как будто с этим смирился, но только заходила речь о его супруге, как тут же начинал рваться из железа, калечась до крови, – ничто его не волновало, кроме этой женщины. Он раз за разом повторял, что она, едва увидев Масиниссу, прыгнула к мальчишке на брачное ложе, клялась перед божествами Сифака и отдалась на ложе прежнего мужа новому во дворце в Цитре. Он бормотал об этом непрерывно, и пока говорил, глаза наливались кровью, с губ срывались капли слюны, старик делался почти что больным. И я охотно верил, что царице ничего не стоит склонить молодого Масиниссу на сторону Карфагена. Поэтому я написал Лелию и потребовал привезти царицу в мой лагерь как пленницу.
В ответ я получил послание, что карфагенская красавица умерла.
* * *
– Однако Масинисса сумел отказаться от этой женщины, – напомнил я Лелию в том нашем разговоре. – И если он не отправил ее мне, то предал смерти, устранив угрозу.
Лелий усмехнулся.
– Это он так сказал.
– Неужели он сумел ее где-то укрыть и она жива?
Я вдруг представил, что она все еще живет где-то среди кочевых племен, ночует в шатре, а днем поднимается на ближайший холм, выглядывая, не приедет ли к ней ее ненаглядный царевич (вернее, ныне царь). И если ей удастся переманить Масиниссу, под рукой которого теперь находилась вся Нумидия, на сторону Карфагена…
– Нет, Риму нечего бояться, – заметил Лелий, как будто угадав мои мысли. – Она умерла. Но не из рук Масиниссы взяла она яд.
– Я не просил ее травить, всего лишь потребовал от Ну-мидийца, чтобы он передал ее в руки Рима как законную добычу.
– Ну да, а потом она бы прошла вместе с Сифаком в триумфе за твоей колесницей. Назад в Африку она бы не вернулась, осталась в Риме.
– Если она была так неотразима, как ты говоришь, то склонила бы унылого Катона на сторону Карфагена, – пошутил я.
– Полагаю, сначала она бы склонила тебя. И сенаторы хором обвиняли бы тебя в предательстве. Ведь она только поначалу не хотела ехать в твой лагерь, а потом согласилась и даже упрашивала Масиниссу, чтобы он отдал ее тебе как залог прочного союза Нумидии с Римом.
– Ты серьезно? Так и говорила?
– Слово в слово. А сколько грустной покорности было в ее склоненной милой головке, в опущенной долу глазах с длиннющими ресницами. Она не плакала, а вот Масинисса весь дрожал, слезы катились по его щекам, а потом он метался по комнате как лев в клетке и рычал, что ни за что ее не отдаст. Никому! А она опустилась перед ним на колени, обвила его руками и прошептала, что всегда его любила, с того мига, как увидела много лет назад. А за старика Сифака вышла лишь по принуждению отца. И все равно час за часом, день за днем в мыслях устремлялась она к своему обожаемому возлюбленному. О, надо было видеть и слышать, как она это говорила! Ее слова могли разбить любое сердце.
– Так что же случилось?
– Все просто, Публий, все просто. Прибудь она к тебе в лагерь, вы бы сделались смертельными врагами с Масиниссой. Ты бы и сам не заметил, как быстро очутился в ее постели. А что бы случилось дальше, я боюсь даже гадать. Быть может, Масинисса убил бы тебя. Быть может, ты – его. При любом исходе нумидийской конницы нам не видать. И победы над Карфагеном тоже.
– Но Масинисса отравил ее!
– Ни один мужчина не смог бы устоять перед чарами этой женщины, ни один бы не смог дать ей яд.
– Она отравилась сама?
– Тоже нет. Но то, что не мог сделать мужчина, свершила женщина. В Цитре, во дворце оставалась жить одна из женщин Сифака, которую тот оставил, женившись на Собонизбе.
– Его бывшая жена?
– Скорее, наложница. Гречанка лет двадцати пяти, красивая, быть может, не менее красивая, чем Собонизба, но не имевшая и половины ее очарования. Мне кажется, она сама рассчитывала занять место в постели Масиниссы. Но Собонизба обошла ее дважды, сначала отняв Сифака, потом – молодого царевича. Именно она подлила в еду Собонизбе яд.
– Откуда ты это знаешь?
– Сам царевич рассказал мне. Я видел эту женщину, когда ее схватили. Она выкрикивала проклятия в адрес умирающей, хохотала и протягивала к Масиниссе руки. Я посоветовал ему представить дело так, будто бы яд подал Собонизбе он сам, не ведая иного выхода.
– То есть его верность была в те дни весьма сомнительной?
– Более чем. Тебе повезло, что отравил любимую не он лично, – ее смерть он никогда бы не простил Риму. Но так вышло, что причиной всему оказались женская ревность и женская зависть. И теперь нам не приходится сомневаться в преданности Масиниссы. Все эти годы он стережет Карфаген, будто цепной пес.
– Как я посмотрю, в те дни во дворце в Цитре было опасно, как в змеином гнезде.
Я слушал его и ловил себя на мысли, что сожалею о том, что не увидел чудесную дочь Гасдрубала живой, не смог ощутить на себе ее чары. Устоял бы я тогда? Вряд ли…
А еще мне показалось что-то в том рассказе Лелия надуманным и фальшивым. Но я не стал выяснять даже несколько лет спустя, что же произошло на самом деле. Не он ли сам надоумил гречанку отравить соперницу? Быть может, он даже ей заплатил. Уж слишком настойчиво Гай повторял, что ни один мужчина не был способен дать яд карфагенской красавице.
Глава 7
БИТВА ПРИ ЗАМЕ
В это утро я уже ничего не мог есть, даже не пробовал. Диодокл подал мне питье, предписанное лекарем, но я отважился лишь сделать пару глотков.
Я знал, что мне осталось жизни всего несколько дней и я вряд ли смогу завершить рассказ о моих делах на Востоке.
Но о битве при Заме я во что бы то ни стало должен рассказать. Удобно, ссылаясь на болезнь, не перечислять неудачи: к примеру, нелепый морской бой, когда я приказал связать наши корабли цепями и устроить что-то вроде сражения на суше. Мы не проиграли, но и не победили, а многие наши легкие суденышки пошли ко дну. Я также решил опустить подробности переговоров с Карфагеном, которые изначально не планировал завершать.
Мне нужно было, чтобы Ганнибал оставил в покое Италию, прекратил терзать несчастную мою родину и вернулся сюда, на африканские берега. И я должен был не просто заключить с ним мир, а расправиться с тем, кто погубил тысячи наших под Каннами, разбить его в битве, навсегда унизив Карфаген и возвеличив Рим как никогда прежде. Мне нужна была победа в великой битве, столь великой, чтобы она позволила Риму диктовать условия Карфагену любые условия, лишить его армии и флота и сделать беззащитным перед нашей волей.
* * *
Помнится, я не так давно до слуха моего дошли басни, будто бы Рим согласился заключить мир еще до возвращения Ганнибала, и переговоры близились к завершению, когда на римских послов напали коварные пунийцы. Переговоры в самом деле велись, но все происходило совсем не так, как болтали в Риме. Как прежде с Гасдрубалом, так и теперь, я вел переговоры лишь для отвода глаз и в итоге повернул дело так, чтобы заключить мир стало невозможным. Пока у Карфагена имелся хоть шанс заново создать армию, мы бы не смогли заключить твердый мир на десятки и сотни лет, а только такой нужен был Риму. Причина, по которой пунийцы охотно слали своих послов и принимали наших, была одна-единственная: Карфаген собирался с силами. Дольше длятся переговоры – все больше растет их армия. С другой стороны, у меня не было сил для осады Карфагена, и я ждал, когда наконец Ганнибал покинет Италию. В нужный момент я сделал все, чтобы разговоры о мире прекратились.
То, что виноватыми оказались пунийцы, результат очень ловкой игры. Не так трудно спровоцировать нападение, чтобы за ошибку десятка горячих голов пришлось расплатиться всем. Я сыграл на жадности пунийцев, как прежде они играли на прямодушии римлян. Близилась развязка, и римский сенат соизволил направить мне подкрепление из Сардинии и Сицилии. Военные корабли удачно прибыли в гавань, а вот несколько транспортов (как показалось со стороны, случайно), выбросило на острове Эгимур. На самом деле это был мой приказ: посадить корабли на мель, а экипажу на лодках прибыть в наше расположение. Брошенные, набитые припасами корабли без всякой охраны! Перед таким соблазном карфагеняне не могли устоять – захватить полные зерна, амуниции, скота транспорты, не пролив ни капли крови, – кто откажется от такого приза?
Но как только транспорты оказались в руках Карфагена, разговорам о мире пришел конец. Я обвинил их в коварстве, нарушении перемирия, и битва стала неизбежна.
Наконец случилось то, чего я добивался: Ганнибал покинул Италию и вернулся домой. Карфаген возлагал на него столько надежд, как будто вместе с ним прибывала на африканскую землю могучая армия. На самом деле он привез с собой около двух легионов ветеранов. Это серьезная подмога, если у тебя есть армия, но у Карфагена готовой армии под рукой не имелось.
Да и в моей армии в бой пойдут отнюдь не новички, к тому же я ни на день не прерывал тренировки. Даже в те дни, когда мои послы отправлялись в Карфаген с оливковыми ветвями, я день за днем тренировал манипулы, требуя, чтобы гастаты и принципы ни в чем не уступали ветеранам-триариям.
Пока Карфаген ожидал Ганнибала, его вербовщики собирали наемников повсюду, где только могли. Денег было так много, что хватило на покупку восьмидесяти боевых слонов. Слоны могли бы стать страшной силой, если бы животные были хорошо обучены. А почти что дикие звери под управлением неумелых погонщиков были опасны для своих почти так же, как и для противника. К тому же мы заранее нашли средство борьбы с ними. Теперь, когда пунийцы защищали свой город, они проявляли воистину римское упорство: богачи развязали свои кошельки, нанимая воинов где только могли, горожане записывали в пехоту, искали любую кавалерию, сами садились на рабочих лошадок.
С той поры, как я задумал африканскую кампанию, я готовился к этой грандиозной и последней битве, которая должна была решить исход войны. Я просчитывал все возможные действия Ганнибала и заранее искал ответ на каждый его ход, каждый шаг.
* * *
Скажете, мое коварство стоило жизни римлянам в битве при Заме? Ведь мы могли заключить мир без всякой битвы. Да, но вряд ли на условиях Рима, которые я предлагал. В итоге мы получили прочный мир, навсегда лишив Карфаген способности вести войну, чего нельзя было ожидать, не будь этой моей победы.
Так что мое коварство было оправданным – побежденный город никогда не обретет силу настолько, чтобы послать в Италию или Испанию нового Ганнибала.
Но не все так просто складывалось для меня: в Риме настал черед новых консульских выборов, и хотя народные трибуны высказались за то, чтобы я закончил войну в Африке, именно Африка была назначена одному из консулов как провинция для войны. Консулы бросили жребий, и Тиберий Клавдий Нерон получил такие же полномочия, что имелись уже у меня. Уж не знаю, чем бы все это закончилось, довелись консулу прибыть к карфагенским берегам. Быть может, мы бы спорили о командовании, и в итоге Ганнибал бы восторжествовал. Но и здесь Судьба помогла мне. Клавдий снарядил 50 пентер, однако внезапно налетевший шторм раскидал флот Тиберия, погибло из них немного, но спасшиеся корабли прибились к Сардинии, в итоге до Африки новый консул так и не добрался.
* * *
А я тем временем раз за разом проигрывал в уме варианты возможной битвы.
Я решил ставить манипулы не так, как обычно, то есть перемежая их порядок[94]94
В шахматном порядке, но вряд ли Сципион мог бы использовать это слово.
[Закрыть], а в затылок друг другу, оставляя проходы как поперек шеренги, так и между рядами. Эти коридоры поначалу должны были занять стрелки-велиты. Я знал, что все решится в начале битвы – если слоны сумеют сломить наш строй, нам конец. Если мы отобьемся и заставим страшных зверей повернуть назад – победа уже наполовину наша.
О, опять я тороплюсь и пропускаю важное. Стоит, наверное, все же рассказать о моей единственной встрече с Ганнибалом накануне битвы. Пуниец попросил о переговорах, и мы сошлись с ним на полпути между нашими лагерями, как было условлено, без всякой охраны, только каждого сопровождал переводчик. Опасались мы не столько нападения друг друга, сколько того, что будут лишние свидетели нашего разговора.
Не сомневаюсь, что историки вскоре вложат в уста полководцев многословные речи, где каждый изложит всю историю войны с того момента, как был захвачен Сагунт, или же даже с того дня, как римляне присвоили себе Сардинию. Ни о чем таком мы не говорили. Встреча длилась недолго. Ганнибал спросил, каковы условия мира, если он откажется от битвы. Я выставил ему те же самые условия, что потом продиктовал Карфагену после поражения при Заме. Однако две эффектные фразы при этом произнес, обе заготовил заранее. Речь свою об условиях я начал словами: «Слаб человек и могущественна Судьба», а закончил опять же фразой, которую довольно долго придумывал: «Если эти условия кажутся вам тяжелыми, то готовьтесь к войне, ибо вы не силах переносить мир». Я старался выглядеть напыщенным, самоуверенным и упрямым. Я должен был убедить его, что он победит меня в битве без особого труда. За этим с ним и встречался, а не для того, чтобы обсуждать условия договора. Опасность была одна: что он мне не поверит. И мне показалось, что старый пуниец разгадал смысл разыгранной пьесы. Впрочем, и в этом случае выбора у него, похоже, не осталось.
Ганнибал глянул на меня своим единственным глазом, оскалился, стиснув зубы, а потом сказал: «Неприемлемо».
Я с самого начала понимал, что он не согласится на такие условия, если верит в свою победу. А он верил – именно это я прочел на его лице. И на миг ужаснулся – что если я переоценил свои силы? Как когда-то под Каннами он может придумать такую ловушку, о какой мы не могли и помыслить. Что если завтра ждет меня и мою армию гибель? В первый миг я постарался не показать страха. А потом сообразил, что как раз и должен дать волю страху, изобразить отчаяние, которое якобы пытаюсь всеми силами скрыть. Ганнибал заметил мой страх и торжествующе усмехнулся.
Мы разъехались, каждый в свой лагерь.
И пока я скакал к своим, спешно содрал с себя ненужную больше маску страха. Чего мне бояться? В моем распоряжении слаженная, великолепно обученная армия. У Старика – а я позволял себе называть Ганнибала Стариком – больше пехоты, но она так разнородна по составу, что, считай, у него под командованием три маленькие армии, соединенные, но не слитые вместе. И если я пойду атакой на его порядки, мне придется разбить эти три армии друг за другом.
Да, вот еще что… Это надо непременно написать: историю про то, что я показывал пунийским послам свой лагерь и позволил рассмотреть пехоту и кавалерию, придумал какой-то краснобай, пытаясь удивить Рим чудесными подробностями одержанной победы.
Никогда бы я на такой риск не пошел.
* * *
Итак, день для битвы настал.
Едва слоны двинулись на наш строй, велиты стали отступать, открыв широкие коридоры, сюда-то и устремились слоны, вместо того чтобы переть на легионеров, что ощетинились пилумами, держа их как копья, наперевес. Слон бежит по прямой, это не лошадь, которую легко остановить или повернуть, куда надо, направляя уздой. Слоны Ганнибала либо пробежали насквозь меж нашим рядами, либо, встреченные роем дротиков и пронзительными звуками труб, повернули обратно и устремились на карфагенские порядки. Тех животных, что сумели пробежать наш строй насквозь, опять же встречали стрелами, дротиками и горящими факелами. Повернувшие обратно слоны смяли кавалерию на левом фланге Ганнибала, следом подоспел Масинисса со своими всадниками, и они все гурьбой в диком хаосе унеслись с поля боя.
Что касается правого фланга, то его атаковал Гай Лелий. Карфагенская конница не стала даже пытаться оказать сопротивление, а пустилась в бегство, и Лелий устремился за ними, позабыв, что я наказывал ему не удаляться далеко, а лишь смять фланг и тут же возвращаться назад. Наверное, Лелию мерещились в тот миг Канны, и его гнала вперед мысль о том, как ловко африканская конница вышла нам в тыл. Он исчез в клубах пыли, и наша пехота осталась один на один с пехотой Ганнибала.
Еще каких-то полчаса назад моя армия превосходила пунийскую кавалерией. К тому же почти вся нумидийская конница теперь стала моей, а те карфагенские всадники, что удалось набрать Ганнибалу, были просто бывшие гражданские, спешно посаженные на коней в надежде прикрыть фланги. Но как ни плоха была кавалерия пунийцев, она свое дело сделала – увела с поля боя моих всадников и я остался с легионерами против пехоты Ганнибала.
В первый ряд Старик поставил всякую смесь, набранную где попало, мясо для наших пилумов и мечей, годное лишь на то, чтобы утомить противника и занять его резней. Второй ряд составляло карфагенское ополчение и наемники, и, как показала битва, они оказались неплохими солдатами. В третьем ряду выстроились испытанные ветераны Ганнибала. Эту третью стену просто так с наскока разрушить было невозможно. Мне нужен был удар в тыл, а моя конница гонялась где-то за удравшими бесполезными всадниками Карфагена.
Итак, пехота против пехоты, я против Ганнибала. Я двинул свои когорты в атаку, и мои гастаты начали теснить первый ряд Ганнибаловой пехоты. Вторая линия даже не думала расступаться и пропустить истекающий кровью первый ряд. Так что им пришлось либо пасть, либо бежать на фланги, что позволял широкий проход между построениями.
Одолев первые шеренги, я двинул своих легионеров дальше. Вторая линия оказалась куда сильнее, вспыхнуло яростное сражение, и карфагенские пехотинцы отбросили моих гастатов. К тому же им приходилось наступать по заваленному телами и скользкому от крови полю – не самое лучшее место, чтобы держать строй. Я дал приказ отходить и быстро усилил атакующую линию за счет принципов.
Тут я должен уточнить одну вещь: Ганнибал расположил три линии своей пехоты с большими промежутками друг от друга. Причем третья линия, ветераны, стояли так далеко, будто явились на поле не сражаться, а лишь наблюдать за происходящим. Я сразу решил, что он задумал какой-то маневр, рассчитанный именно на это пространство, но какой именно, могу только догадываться.
Перестроив первые две свои линии, я снова двинулся в атаку и теперь разбил вторую линию Ганнибала. И опять Пуниец не позволил осколкам второй линии слиться с ветеранами. Беглецы либо кидались бежать вдоль строя, либо погибали. А шеренги ветеранов стояли плотной стеной, и пробить эту стену сил у меня не было, она немного прогнулась в центре, и только. Я снова приказал играть отступление и стал перестраивать свои порядки во второй раз. Ганнибаловы ветераны стояли на месте и ждали атаки. Я не знал точно, что задумал старый полководец. Его обычная тактика – позволить легионам проломить центр, будто просочиться в полуоткрытые ворота крепости, а потом между этими створками раздавить противника, вполне могла быть задумкой и на этот день. Возможно, именно для этого и были оставлены такие промежутки между рядами. Он рассчитывал (теперь, много лет спустя я не нашел иного объяснения), что я по римской традиции уведу уставших и израненных гастатов и принципов в тыл и прикажу триариям выйти вперед. Тогда он позволит им в центре увязнуть, мгновенно двинет часть пехоты на фланги, ударит на потрепанных гастатов и принципов, что должны были по обычным расчетам оказаться в тылу моей армии, сомнет их и обратит в бегство. Но вот в чем дело: я не собирался ломиться на ветеранов Ганнибала в центре. Большие расстояния между пунийскими порядками я обратил в свою пользу: у меня оказалось достаточно времени, чтобы перестроиться на виду у противника без всяких помех. А мои тренировки, когда я требовал от всех манипул одинакового мастерства в умении маневрировать, в выносливости и владении оружием, позволили мне создать единый фронт, чего никто прежде и никогда из римлян не делал.
Я оставил в центре моего войска гастатов и отдал приказ центурионам в центре: ни в коем случае не продвигаться вперед, пока армия Ганнибала не побежит, но лишь удерживать позиции. Вместо того чтобы атаковать центр, я решил охватить с флангов куца более многочисленную пехоту Ганнибала. Итак, оставив гастатов в центре (мои самые слабые и изрядно потрепанные центурии), я добавил половину принципов слева и половину справа от центра и так же следом присоединил к ним моих триариев – опять половина на одном фланге, половина на другом. Маневр был совершен с поразительной быстротой, так, что увидев эти мои перестановки, Старик уже не успевал ничего предпринять. Теперь моя шеренга оказалась длиннее войска Ганнибала (чего ни по каким расчетам быть не могло), и я двинул когорты в атаку.
Я был прав, когда думал о том, что придется разбивать подряд три малые армии. С двумя я сладил без труда. А вот третья оказалась твердым орешком.
Как только моя конница унеслась с поля битвы, я отправил им вслед нескольких гонцов в надежде, что они отыщут Гая Лелия (отыскать Масиниссу я уже не надеялся) и вернут его всадников на поле боя, чтобы ударить в тыл Ганнибалу. Я очень быстро понял, что карфагенские горе-вояки, посаженные чуть ли не накануне на лошадей, имели только одну цель – бегство, чтобы утянуть за собой мою куда более выученную и боеспособную конницу. Мне оставалось драться и надеться, что мои всадники вернутся. Без них я не мог сладить с ветеранами Ганнибала, как он под Каннами не смог был раздавить легионы, не ударь его конница нам в тыл.
Два часа сражения. Два часа, когда я метался между рядами, поддерживая порядки и подбадривая людей. Я сменил коня – прежний был ранен и весь в пене. Несколько раз мне приходилось самому вступать в схватку против своего же заведенного обычая, отбиваясь мечом от наседавших ветеранов Ганнибала. Мои телохранители были изранены, но старались прикрывать меня щитами. Я не слишком люблю упоминать об этой рукопашной – ибо это было свидетельством не храбрости, а отчаянности моего положения. Я кричал, указывал, направлял, и никогда ни прежде, ни потом, я не напрягал так все силы. После сражения на теле обнаружилось сразу три раны, которых я не заметил в горячке битве, а наутро каждую частицу моего тела пронизывала боль от усталости.