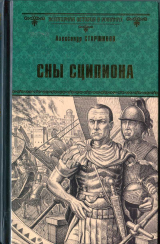
Текст книги "Сны Сципиона"
Автор книги: Александр Старшинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 2
ОБМАНЩИК ДИОДОКЛ
Одна особенность нашей жизни осознается только к старости: мы не способны охватить взглядом весь предстоящий путь, мы не знаем, как будет он долог и что боги позволят свершить нам, а чему не суждено сбыться. Дорога скрыта туманом, движешься скорее наугад, нежели ясно осознавая цель. Иногда дороги нет совсем, ты сам прокладываешь новую тропу сквозь чащу. На неудобной фастигате[10]10
Фастигата – палка, на которой легионеры носили свои вещи.
[Закрыть] тащишь копившийся годами скарб, его все больше, он все ненужней, а ты плетешься и внезапно осознаешь, что осталось всего несколько шажков, и только тут вполне можешь оценить сделанное, но ничего уже не в силах изменить. Ты отчетливо понимаешь, что самые счастливые годы прожиты, самые значительные дела исполнены. Но это не значит, что верно понимаешь цель, к которой стремился.
Мы бьемся со смертью. И каждый из нас этот бой проигрывает. Мы – одинокая шеренга гастатов, неумелых солдат-новичков, призванных жизнью в сражение. Второй ряд – принципы – наши семьи, наши фамилии и наш Город. А триарии… Не знаю, что именно они или кто, но мы ощущаем их незримую поддержку в трудный час. Хотя не ведаю, смогут ли они заменить нас, когда мы падем в неравной схватке. Но на место каждого, кто в итоге сгинет, изувеченный, должен встать другой – сын, или друг, или тот, кого ты вдохновил на эту короткую и обреченную битву. И уходя, просто передаешь лампу жизни тому, кто встанет на твое место. Ты должен сделать так, чтобы свет внутри лампы не погас прежде, чем ее возьмет чья-то рука.
Ну вот, опять я про лампу и свет[11]11
Образ, использованный Лукрецием.
[Закрыть]. Эта мысль привязалась ко мне, как приблудный пес.
Я бы на миг хотел сделаться бессмертным богом. Всемогущества мне не надобно – я и человеком достигал поставленной цели. Да и вечной жизни не прошу. Но неплохо бы хоть часок поглядеть на мир взглядом небожителя – понять, как с высоты Олимпа мыслится наша земная юдоль, как велики наши беды, надежды и чаяния. Быть может, я бы понял тогда нечто такое, что скрыто от меня, как и от прочих смертных.
Но боги не даруют всезнания и держат закрытыми двери в свой чертог.
* * *
Некоторые уроки, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь. Порой самые странные уроки. Не ведаю, стал бы я тем, кем в итоге довелось, если бы не Диодокл. Отец купил молодого грека на рынке невольников мне в услужение – парнишка был на пять лет старше меня и должен был следовать повсюду за сыном хозяина. Оберегать, прислуживать, угождать. Но отец никак не мог подумать, что этот парень будет меня учить жизненной мудрости.
Когда отец привел его, раб выглядел заморенным, тощим, ручонки тонкие, ноги кривоваты, а шапка кудрей казалась седой от дорожной пыли. Но он быстро освоился, отъелся, похорошел и стал вести себя так, будто с рождения обретался у нас в доме.
– Можно открыть тебе секрет? – спросил мой новый слуга, глядя мне прямо в зрачки своими черными блестящими глазами.
– Ну…
Мне не очень-то хотелось знать его рабский секрет, но парень смотрел так искренне, что отказать я не смог.
– Я – сын македонского царя, – зашептал Диодокл, – и если ты будешь со мной хорошо обращаться, отец заплатит за меня выкуп в двадцать талантов[12]12
Талант – мера веса и одновременно – денежная единица, равная 26 кг серебра.
[Закрыть].
Вообразите, я поддался проходимцу и полностью верил ему ровно шесть дней до тех пор, пока не услышал, как на кухне он рассказывает своим собратьям про грядущий выкуп. Теперь он клялся, что царь Македонии заплатит за него тридцать талантов.
– Почему не сорок? – засмеялась Даная, тридцатилетняя круглолицая кухарка с такими замечательными ямочками на щеках, что вечерами, лежа в постели перед сном, я всякий раз представлял, что целую эти ямочки, после чего Даная мне непременно снилась.
– Я уже получил письмо, могу показать…
– Хватит! – Даная влепила «царевичу» подзатыльник. – Услышу, что ты этими сказками потчуешь юного Публия, расскажу доминусу, и быть тебе поротым.
Я стоял в закутке подле кухни, где обычно спали наши домашние рабы, где пахло грязным тряпьем и одновременно – свежим хлебом из печи, и щеки мои пылали. Вот же глупец – поверил такой нелепой сказке и дальше бы верил, если бы не Даная. Я злился на себя за то, что меня так легко провели. Другой бы тут же выместил обиду на врунишке, прибил бы его, и не раз. Но что толку от запоздалой злобы? Она не подтвердит ни ум, ни прозорливость господина, не исправит ошибку и ничему не научит.
«Глупая сказка?» – переспросил я себя.
Отчего же? Диодокл лгал наивно, и его легко смогли уличить. Но не скажи он о своем родстве прямо, а лишь намекни, чтобы другие додумали и решили: наш Диодокл – царский сын, тогда бы и вранья в его словах не нашлось ни на палец. Надо просто уметь так рассказывать, чтобы другие лгали себе сами – за тебя. Не надо говорить прямо. Достаточно подтолкнуть чужую мысль на нужную тропу, многозначительно смолчать в ответ на заданный вопрос, загадочным молчанием распалить воображение, намеком подсказать желаемый ответ. Мы, римляне, не умеем хитрить, в этом наша беда. А если и пробуем – тут же попадаемся на неумелой лжи. Римляне говорят: «Врет как грек». Но уметь врать с умом иногда полезно. И мне предстояло этому научиться.
Я уже не могу сказать точно, пришли ли эти мысли мне на ум именно в тот вечер, когда я понял, что Диодокл выдумал историю о своем царском происхождении. Но уж точно эта байка послужила толчком для множества моих поступков. Если пунийцы обманывают нас, почему мы не можем им так же ловко врать? Я не думаю, что был умнее и талантливее многих. Я просто быстрее делал выводы из того, что видел вокруг. Брал чужие придумки и делал их своими с легкостью и такой быстротой, какой не замечал более ни в ком и никогда. То, что я понял о жизни в двадцать с небольшим, многие осознают только в конце пути. Еще очень молодым я уяснил, что должен отыскать для себя и Рима новый путь, совсем не тот, каким мы привыкли ходить прежде.
Несколько лет спустя, когда я направлялся в храм Юпитера Капитолийского, Диодокл непременно сопровождал меня. Я никому не говорил, почему постоянно хожу в храм, не являясь фламином[13]13
Фламин – жрец определенного бога.
[Закрыть] Юпитера, почему провожу там несколько часов и порой остаюсь на ночь.
Помню, стоя в храме, я думал о том, что являюсь плоть от плоти Рима, что мой патрицианский род врос намертво в почву Города, как древняя пиния корнями в городскую скудную землю, и в то же время осознавал, что не похож на других, что я – иной, не такой, как все.
Мне иногда было странно смотреться в таз с водой и видеть свое лицо – такое похожее на лица моих сверстников. Я воображал себя Геркулесом, или, как говорят греки, Гераклом, существом, в чьих жилах текла лишь половина человеческой крови. Я даже один раз порезал себе руку нарочно (было больно), чтобы проверить, не потечет ли вслед за первыми каплями расплавленное золото – я был уверен, что в жилах небожителей должна струиться золотая кровь. Но капли, падающие на мраморный пол, были самыми обычными, и я так и не дождался проблеска золотой искры среди жидкого пурпура.
Перечитал написанное и удивился. Я хотел начать с главных событий, а рассказал о рабе Диодокле и о своем желании перехитрить пунийцев. Неужели это и есть самое важное в моей жизни?
Нет, решил я. Но рассказ всегда начинается с мелочи, а к главному приходят после. Как обед – с закуски, с яиц… Подумал о еде, но не испытал желания идти в триклиний[14]14
Триклиний – столовая, в которой обычно было три обеденных ложа, на каждом могло разместиться трое обедающих.
[Закрыть] – напротив, меня замутило.
Кого я обманываю? Неужели думаю, что часть меня останется жить, если я завершу эти записи? Да и захочет ли кто-то читать мои книги, погружаясь вместе со мной в ужас кровавых войн и унизительных поражений? Мой рассказ – это хаос, черный Эреб; о том, как сама жизнь висела на волоске, прежние устои Рима рухнули и надо было возводить новые. И я их создавал как мог.
Я не знал ответа на заданные самому себе вопросы, но они не охладили мое желание продолжить записи. Внутри меня поселилась уверенность, что я должен исполнить задуманное. Как прежде жила уверенность, что я обязан победить Ганнибала.
* * *
Итак, если я один из гастатов в первом ряду, то стоит оглянуться и посмотреть на принципов, на мою семью и на мой Город.
Я отложил стиль…
Глава 3
МОЙ ОТЕЦ, МОЯ МАТЬ, МОЙ БРАТ И МОЙ ДРУГ
Ликий вечером переписал прежние записи на папирус и рано утром принес мне новые таблички – несколько деревянных пластинок с воском, скрепленные кожаными ремешками.
– Тебе, доминус, надо поболее записывать за день.
Старый проходимец, однако, смел, в этом ему не откажешь – уже вынюхал про мою болезнь, про то, что я почти не могу есть, и теперь намекает, что рассказчик может не закончить свою историю, не успеет, если станет лениться.
Я ничего не сказал, только погрозил ему пальцем. Но совету ловкача решил внять – я ко многим словам прислушивался, порой к поучениям людей самых низких, хотя и не подавал виду.
Сегодня утром решил направиться в большой сад за домом – несколько кипарисов росли в дальнем уголке так плотно, что образовали почти замкнутый круг, защищая скамью в центре от ветра и давая уютную тень. Здесь я устроился, сюда Диодокл принес разбавленного вина и хлеб, если мне вздумается перекусить. Он все время пытался меня заставить поесть, как надоедливая нянька – капризного малыша.
Я сделал глоток из бокала, а хлеб прожевал и выплюнул на радость воробьям. Не так уж и трудно бывает сделать приятное тем, кому мы дороги.
Итак, продолжаю…
* * *
Моя мать происходила из плебейского рода, который уже ни в чем не уступал патрициям, а во многом и превосходил, прежде всего – средствами. Я хорошо знал деда – он умер в тот же год, когда погибли мой отец и дядя в Испании[15]15
211 год до н. э., 542-й год от основания Рима.
[Закрыть], а римские войска, что уцелели в несчастных битвах, были отброшены за Ибер.
Дед мой по матери Маний Помпоний Мафон был на четырнадцать лет старше моего отца, но выглядел человеком деятельным и бодрым. Я помню (хотя мне многие не верят, что это возможно) церемонию, когда он вступал в консульство. В отличие от нашей патрицианской семьи, он принадлежал к сословию всадников и, как плебей, не брезговал наживать деньги, он даже находил в этом особое удовольствие, которое никак нельзя был назвать жадностью. Он покупал толковых рабов, отпускал их на волю и заставлял уже как вольноотпущенников работать на себя. Эти люди, пребывая от него в зависимости, не нуждались при этом в постоянном надзоре и подстегивании. Он бывал в Карфагене, и в его доме любили поговорить о заклятом враге. Особенно красочно и в подробностях умел рассказывать про Карфаген один из его вольноотпущенников по имени Касип. Это был изощренный ловкач. Единственным богом, которому он поклонялся, являлось богатство. А превыше всего Касип ценил умение это богатство наживать, причем неважно как именно – умелым трудом, перепродажей или наглым плутовством. Про Касипа говорили, что он может обдурить десяток пунийцев зараз.
– Ты умеешь врать, Публий? – подмигивая, спрашивал меня Касип.
– Нет, – отвечал я простодушно. Мне было тогда лет восемь, и я в самом деле не умел толком врать, а если и пробовал от страха или по глупости, то тут же попадался.
– Тогда вот что я тебе скажу, Публий, – еще более доверительно подмигивал мне вольноотпущенник, – если ты не умеешь врать, никогда не связывайся с пунийцами – они тебя обманут, как младенца, а ты даже не поймешь, что тебя провели.
– А если я их обману?
– Нет, Публий, ты никогда не обманешь пунийца, просто потому что не сможешь.
– Скажи, Касип, если я совру – это будет ложью?
– Конечно, как же иначе?
– А если я совру еще раз – получится ли в итоге правда? Касип на миг опешил. Потом подмигнул мне:
– А ты умничка, парень!
– Я совру пунийцу дважды, – сказал я уверенно.
Эта фраза оказалась пророческой, я вспомнил ее много лет спустя, на африканских берегах.
* * *
Когда намечалось что-то важное в нашей семье, моя матушка без устали обходила храмы и обнимала алтари, выпрашивая милость богов к нашему роду. Верила она и во всяческие приметы. А когда ничего подходящего для знака не находилось, сама придумывала эти знаки. Так, она сочинила историю, что к ней в постель забрался огромный змей и что в гибком теле скрывался небожитель, именно его семя вошло в нее и даровало мне жизнь. Разумеется, матушка рассказывала, что она в этот момент спала, а гигантского змея в ее постели заметили слуги. В этой байке было много греческого, сразу вспоминалось рождение Геракла. Но проницательный слушатель невольно опускал глаза – в своей выдумке женщина признавалась, что не любила мужа. Не всякому дается радость такой любви, которая связала меня с Эмилией. Маний Помпоний отдал дочь замуж, не спрашивая, пришелся ли ей по сердцу жених. А отец был не из тех, кто умеет очаровывать женщин. Вскоре после моего рождения родители стали спать порознь. Отец находил наслаждение в объятиях юной рабыни, а мать – в своих фантазиях и рассказах о внимании небожителей, становясь год от года все экзальтированней.
Моя мать никогда не объясняла свои поступки. В отличие от прочих женщин, она мало говорила, но, казалось, о чем-то постоянно раздумывала. Была она необыкновенно честолюбива, и мне кажется, порой она мечтала о том, что сама будет управлять Городом. Почему бы и нет? Ведь, пока отец командовал войсками, она отлично справлялась с трудностями нашей фамилии. Дом наш был небольшим и небогатым, стоял на Тусской улице, что спускалась к Тибру, сразу за старыми лавками. От наших дверей рукой было подать до форума. Но как ни скромно мы жили, рабы требовали постоянного пригляда, записи виликов[16]16
Вилик – управляющий имением.
[Закрыть] – проверок, средства – экономии, а положение нашего рода – под держания дружеских отношений с аристократическими семьями, что числились нашими союзниками, и холодного достоинства при общении с теми, с кем мы годами враждовали.
В тот год, когда я был избран эдилом[17]17
Эдил – должность в магистратуре Рима. Эдил ведал общественными играми, надзирал за строительством храмов и др. общественных построек, отвечал за раздачу хлеба гражданам.
[Закрыть], я всегда советовался с нею по поводу своих решений. Ее замечания были оригинальны и дерзки, и уж конечно же, она куда больше знала о повседневной жизни Города и его нуждах, нежели недалекий Луций.
Мой старший брат был человеком бесцветным, не наделенным талантами, зато необыкновенно честолюбивым, как и положено римлянину патрицианского рода. Кстати, лицо его было так невыразительно, что многие не узнавали его на улице, разве что внимательный номенклатор[18]18
Номенклатор – раб, подсказывающий господину имена встреченных на улице людей или имена гостей на приеме. Что-то вроде живой записной книжки.
[Закрыть] подсказывал господину: смотри, доминус, вон идет Луций Корнелий Сципион, надо поприветствовать его.
Как-то мать сказала мне:
– Луций – сын своего отца. А на тебе, Публий, печать бога.
Вообще-то первенцем моего отца был не Луций, а рано умерший Публий, ведь личным именем отца должен нарекаться его первенец. Я никогда не видел того, другого, Публия: он ушел от нас еще до моего рождения, так что я, появившись на свет, унаследовал его имя – имя старшего сына, и это стало предметом постоянной зависти Луция и некоторой путаницы, когда меня принимали за старшего сына в семье.
По сути, таковым я и был и к Луцию с детских лет относился как к младшему.
* * *
Мой отец был избран консулом на тот год, когда Ганнибал вторгся в Италию. Так что в этой истории наши имена связала первым узлом эта прочная нить: в год консульства Публия Корнелия Сципиона Ганнибал начал военные действия против Рима – гласят фасты. Хотелось бы мне сказать, что отец был достойным противником Пунийца. Но я должен быть честным. Зачем писать воспоминания и при этом врать – это сделают за тебя вольноотпущенники-греки – они восславят доблесть любого господина, лишь бы заплатили золотой монетой.
Мой отец был хорошим полководцем, гораздо лучше многих, но не из тех, кому под силу тягаться с Ганнибалом. Отец мог побеждать восставшие племена или биться с галлами, против их ярости выставляя щитом дисциплину легионов. Но Ганнибал? Нет, его победить отец никогда бы не сумел. О, если бы отцу достало ума это понять и выбрать тактику Кунктатора[19]19
Кунктатор, дословно – медлитель, прозвище консула Квинта Фабия Максима, полученное им за тактику изматывания армии Ганнибала.
[Закрыть] – ускользать, не вступая в битву, нападать на союзников, злить испанцев, копить силы, убивать фуражиров, а не пытаться решить в большой битве исход войны. Увы, отец действовал так, как всегда поступали римляне, и потому в конце концов проиграл.
Мой брат Луций был старше меня на год и несколько дней. Но уже к четвертому лету своей жизни я догнал и опередил его и по силе, и по сообразительности, отныне в наших играх и занятиях он всегда оставался догоняющим. Еще два или три года он опережал меня в росте, но потом и это превосходство исчезло, и Луций во всем сделался моим младшим братом – я опекал его, руководил им, помогал ему. Читать и писать я научился гораздо быстрее и раньше брата, считал Луций всегда плохо, в греческом запинался, а писать на языке Гомера так и не научился. Мне же учение давалось с необыкновенной легкостью. Луций никогда и ничего не пытался делать по-своему, умел только подражать, следовать, копировать, я же во всем искал что-то особенное, даже внешне я желал отличаться от других и в молодости носил кудри до плеч, что мне необыкновенно шло, наряжался в греческое платье и надевал открытые греческие сандалии. Да и потом, много лет спустя, уже командуя армией, дома и по улицам Сиракуз я ходил в греческом платье, по этому поводу Катон без устали строчил на меня доносы в сенат.
Ни перед кем и никогда я не преклонялся, никого не ставил выше себя и полагал, что нет на свете человека, ни в прошлом, ни в настоящем, перед которым я должен благоговеть, никому, впрочем, не сообщая о своей гордой уверенности. Но многие догадывались, чувствовали мою тайную убежденность, попрекали высокомерием. Я не сомневался в любви и дружбе брата, но уже в зрелые годы с печалью убедился, что мое превосходство не всегда было Луцию по душе. Однажды ему захотелось утвердить свое старшинство, доказать, что он ничуть не ниже меня, что точно так же способен командовать армией и выигрывать битвы. Его желание едва не стоило жизни моему сыну, а нашему Городу – победы. Но об этом тоже в свое время. Если успею закончить свой долгий рассказ…
Что касается Гая Лелия, то мы сдружились с ним в школе – отец решил, что для нас с братом вполне подойдет учитель, что давал уроки письма и чтения детям из ближайших домов. Так вышло, что Лелий оказался во время занятий со мной на одной скамье. Гай был моим ровесником, учеба давалась ему почти так же легко, как и мне, и мы сошлись с ним, как будто именно он был моим родным братом, а не Луций. Всю жизнь потом я ощущал это родство. Не имело значения, что семья Гая не обладает ни богатством, ни знатностью, атрий в его доме не украшали маски достойных предков – прежних консулов и преторов. Наша с ним дружба завязалась на всю оставшуюся жизнь, и лишь однажды за десятилетия вышла у нас с ним размолвка, лишь однажды, выбирая между братом и другом, я предпочел брата и был наказан и унижен за этот выбор.
Когда подошло время, вместе с Гаем мы стали упражняться на Марсовом поле. Я был ловок и силен, Гай не так проворен, но искупал недостатки упорством. В пору юности нас иногда именовали Кастором и Поллуксом. И хотя об этом никогда не говорилось, но подразумевалось само собой, что бессмертный Поллукс из нас двоих – это я. Наши тренировки верхом собирали немало зрителей, и надо сказать, что на земле сброшенным с коня поначалу я оказывался куда чаще Лелия. Но потом, когда я пересел на Рыжего (тогда еще задорного куражливого двухлетку) и почувствовал небывалое прежде единство с конем, стал побеждать куда чаще. Это мое умение очень скоро мне пригодилось.
С Гаем пускались мы в дерзкие приключения, с ним вдвоем заглянули в гости к весьма легкомысленным сестрицам накануне отбытия в Испанию. Отец, полагавший, что я занимаюсь подготовкой оружия да присматриваю за слугами, пришел в ярость, явился за мной, вытащил из постели и вывел меня от подружки в одном плаще на голое тело. Я слышал эту историю в дурных стихах еще несколько лет назад и полагаю, что она переживет меня, а может быть, и рассказы обо всех моих подвигах.
* * *
В юности меня посещали необыкновенно яркие и странные сны. С годами они приходили все реже и реже, а, возвращаясь, становились все более загадочными и нелепыми.
Но ни одно сновидение не могло сравниться с тем, что привиделось мне после гибели отца в Испании. В тот день, когда пришла эта страшная весть, едва смежились мои горящие от слез веки, как тут же явился мне отец, входящий в наш дом. Он был в какой-то серой одежде – то ли из неотбеленной шерсти, то ли дорожная пыль покрыла его толстым коконом. Он вошел торопливо и сразу направился ко мне. Во сне я с кем-то беседовал (с управляющим или Луцием, не помню, кажется, я даже не различал лица человека, что стоял напротив, – так приковал мой взгляд входящий отец). Я знал, я помнил, что он погиб, и в то же время нисколько не сомневался, что вижу его живым. И это меня радовало и вселяло робкую надежду, которая может ощущаться только во сне. Отец скорым шагом подошел ко мне, взял меня за предплечье и сказал: «Публий, сын мой, отними Иберию у пунийцев». Я проснулся с громким криком. Во сне этом не было ничего пророческого – я и так целыми днями размышлял тогда, что нам предпринять, дабы разгромить Ганнибала. Но для размышлений нужна тишина, а в доме, в Городе всегда было слишком шумно: женщины ссорились или указывали на провинности рабам, в перистиле – беготня и крики детей, лай собаки у входа и шаги, шаги…
Чтобы уединиться, обычно я отправлялся вечером на закате в храм Юпитера Капитолийского. Еще подходя, видя его почти уродливый портик с сильно раздвинутыми посередине колоннами из туфа и терракотовые барельефы на фронтоне, созданные этрусским мастером[20]20
Этот храм позже погиб в огне и был заменен на построенный по греческому образцу храм Капитолийской триады – Юпитера, Юноны и Афины.
[Закрыть], освещенные закатными косыми лучами, я ощущал странное одиночество и причастность к тем, кто создает и рушит миры. Боги-этруски, чувственные и загадочные, выпуклыми глазами взирали на меня с высоты и молчаливо свидетельствовали: не было никакой закономерности в победе Рима над Этрурией – побежденные были мудрее и старше, но им не хватило для победы самой малости – упорства, которое граничит с упрямством. Они растворились в нас, как исчезает зерно в почве, и каждый знаменитый ныне род Рима, и мой в их числе, хранит в своих жилах частицу этрусской крови. Как был не похож этот храм на те, что довелось мне потом увидеть под солнцем Сицилии, где совершенство греческих пропорций раз за разом повторялось по установленному канону! Но только здесь, в целле Юпитерова храма, я ощущал связь с древностью мира, с его истоками, здесь посещали меня удивительные мысли, здесь я прозревал новое, выстраивая свой, непохожий на иные, путь.
Накануне я провел ночь в прохладе и полумраке храма, накинув на голову полу тоги, я размышлял над тем, чем смогу уязвить Ганнибала, как перехитрю того, кто сам является воплощением хитрости. А воротившись домой, получил известие о смерти отца и, сидя в таблинии, заснул после бессонной ночи – точь-в-точь как сегодня на скамье в саду, выронив стиль. И увидел во сне отца, и получил от него совет.
Я помню, что тогда меня разбудил Луций.
– Что тебе снилось? – спросил он.
– Финики. Горы фиников. Даже ты столько бы не съел за всю жизнь. – Надо сказать, что Луций обожал финики.
Потом, спустя несколько лет, я понял, что символично было само мое пробуждение, а не сон. Что именно такие люди, как Луций, будут противостоять мне на каждом шагу. И единственный способ отделаться от них – дать им то, чего они больше всего хотят – еду, славу или роскошь, но никогда не отдавать им главного, самого важного, не открывать перед ними свои планы, свои мысли.
Сегодня, когда я заснул, записывая, и стиль выпал из моих рук, мне опять, как прежде, приснился яркий и удивительно правдоподобный сон.
Я вернулся назад, в Город, в самую безмятежную юность, еще до войны с Ганнибалом. Во сне я чувствовал себя очень молодым – только-только надевшим тогу. Тогда, помнится, я часто выходил на форум, чтобы продемонстрировать свое новое взрослое состояние, показать всем, что не ношу более тогу-претексту[21]21
Тога-претекста – тога ребенка, сына гражданина. Такая тога украшалась узкой пурпурной каймой. Взрослому гражданину (не магистрату) полагалась белая (на самом деле сероватого оттенка) тога.
[Закрыть], положенную ребенку, вышагиваю в белой тоге взрослого гражданина. Я даже двигаться стал по-другому, степенно, уверенно, и голову держал иначе, и смотрел внимательнее. В те годы Рим был бедным полисом, еще не вкусившим соблазна восточных роскошеств, трудолюбивый, суетливый и тесный. Впрочем, теснота и сейчас осталась, а вот строгость и трудолюбие постепенно исчезали, смывались прибоем ярких диковин, обилием новых рабов, новых обычаев, новых яств и невиданных прежде развлечений.
В своем сне я шел по форуму – мимо ряда лавок, мимо торговцев, предлагающих всякую снедь, к храму Сатурна, где хранится казна и к дверям которого прибиты бронзовые доски с законами Двенадцати таблиц. А потом внезапно всё переменилось, и я увидел форум не маленькой базарной площадью, возникшей на месте засыпанного болота. Он вдруг вытянулся в длину и стал катящейся неведомо куда широкой дорогой. Не было предо мной ни курии, где собирался сенат, ни украшенной ростами трофейных кораблей трибуны, откуда ораторы обращались к волнующемуся народу, ни холмов вокруг. Исчезли Капитолийская круча и храм на ее вершине – остались только путь и клубящийся плотный туман. Я двинулся по этой дороге, чувствуя, как под ногами она медленно забирает вверх. Я знал, что вскоре поднимусь на вершину неведомого холма, тогда туман рассеется, и я окину взглядом Город подо мной, совсем не тот, к которому привык, а другой, новый, великолепный. И пойму…
Но меня кто-то окликнул, и я проснулся. Солнце садилось. В моей древесной ротонде воцарилась предвечерняя тень.
– Пора обедать, доминус, – сказал Диодокл. – Смеркается.
* * *
После скромной трапезы я переместился в таблиний, велел зажечь светильники и продолжил записи.
Разумеется, каждый школяр в возрасте лет десяти уже знает предание о начале нашей страшной войны, о клятве Ганнибала, каковую тот дал своему отцу Гамилькару Барке перед жертвенником. Говорят, Ганнибал обещал уничтожить Рим, то есть нас. Слова священной клятвы не так уж и важны, главное другое: Гамилькар Барка, после того как Карфаген проиграл Риму войну за Сицилию, внушил сыну Ганнибалу, что во второй грандиозной войне Карфаген обязан победить. Цель была поставлена, осталось найти средства, каковых у побежденного Карфагена не имелось. И тогда Баркиды обратили свои взоры к Испании, стране диких и воинственных племен; земле, чье тело пронизано серебряными и золотыми жилами. Ганнибал и его братья нашли здесь источник пополнения своей армии и своей казны, обильный хворост для будущей войны. Дело оставалось за малым – поджечь костер.
Начало кровавым годам положила осада несчастного Сагунта[22]22
Сагунт – город-союзник Рима, при этом Сагунт имел статус нейтрального полиса, Ганнибал осадил город, тем самым спровоцировав начало Второй Пунической войны, вынудив римлян объявить войну Карфагену.
[Закрыть]. Город был расположен на высоком холме, взять его приступом оказалось не так-то просто, недаром у Ганнибала ушло на это восемь месяцев. Но Рим еще не был готов воевать и вместо военной помощи отправил посольство[23]23
Посольство 219 года до н. э.
[Закрыть], что обернулось для нас позором – Ганнибал в своем лагере близ Сагунта просто отказался встречаться с римлянами, прислал через глашатая весть, что не может гарантировать послам безопасность, а потому гостям лучше убираться восвояси. Римляне издалека поглядели, как Ганнибалова армия штурмует несчастный город, повздыхали и отправились в Карфаген, потащив за собой сагунтийских послов, которым обещали защиту и помощь. Я здесь особенно краток, но все же стоит сказать – мы бросили нашего союзника на произвол судьбы. Могу представить, что чувствовали жители Сагунта, стоя на стенах и видя, как причаливает римский корабль, и наблюдая вскоре, как тот уходит в море. Но они не сдались в тот час и продолжили биться за свой город.
Не стоит отрицать, что Рим стремился к войне с Карфагеном. Мы знали, то борьба с могущественным соперником рано или поздно возобновится, ибо после первой тяжелой войны с пунийцами Рим-победитель мечтал усилиться еще больше, а Карфаген – взять реванш. Но в те дни Рим занимали иные хлопоты и другие войны, и потому мы всеми силами пытались отсрочить новую схватку. Нам некуда было спешить, в распоряжении Республики имелись годы и годы. А в распоряжении Ганнибала – только его короткая жизнь. Отсюда и эти долгие обсуждения в нашем сенате – что делать, отправлять ли снова послов в Карфаген или сразу начинать боевые действия.
Помню, как отец за обедом передразнивал сенаторов, копируя бесконечные споры в курии.
– У нас слишком много важных хлопот помимо Сагунта, – имитирует он старческий голос, в котором без труда можно узнать дребезжащие интонации Квинта Фабия Максима. – На самом деле Сагунт не наш союзник, а просто свободный город, и они свободны воевать с Ганнибалом или ему покориться.
– Пускай Ганнибал занимается Испанией, – басит отец, и мы с братом покатываемся с хохоту, ибо тут же узнаем Бебия, который вечно во всем вторит Максиму, – а мы займемся этими вредными галлами, которые нам так сильно досаждают.
– Нам некого послать воевать в Испанию!
– Придется набирать новые легионы! Сил на такую войну нет!
Этот хор рассудительной осторожности призван был прикрыть самое обычное нежелание оказывать помощь без явной выгоды. О, если бы речь шла о легком, пусть и небескровном завоевании, все эти радетели терпеливого ожидания выказали бы такую яростную свирепость!
– Зачем отправлять армию. Мы снова отправим послов, – передразнивает отец очередное выступление Квинта Фабия. – Потребуем, чтобы карфагенский сенат призвал Ганнибала к порядку.
– Да, да, потребуем, чтобы лиса не таскала кур из курятника! – вторю я отцу.
Второе посольство возглавил сам Квинт Фабий, а среди легатов, что его сопровождали, находился Эмилий Павел, мой будущий тесть. То, что в Карфаген отправили Квинта Фабия, сторонника осторожных действий, было своего рода посланием: несмотря на дерзость Ганнибала, Рим старался сохранить открытость для переговоров. Но пунийцы отказались отозвать своего полководца и на прямой вопрос: «Государством ли дано Ганнибалу полномочие осадить Сагунт?», карфагеняне, по своему обыкновению, озвучили кривой ответ: «Мы имеем право вести войну в Испании».
Квинт Фабий тогда свернул полу тоги и произнес: «Вот здесь я приношу вам войну и мир; выбирайте любое!»
Может, он надеялся, что сенаторы Карфагена в ужасе закричат: «Мир! Мир! Дай нам мир!»
Но пунийцы ответили: «Выбирай сам!»
И осторожный Квинт Фабий распустил полу тоги и произнес: «Я даю вам войну!»
И Карфаген эту войну принял.
Я помню, как узнав про возвращение послов, мы с Гаем Лелием помчались на форум узнавать новости. Война! – разнеслось по Городу. И первое, что я сказал Лелию: «Мой отец будет командовать армией, и мы отправимся с ним».
В другое время консулы стали бы кидать жребий – кому воевать, а кому остаться и блюсти порядок в Городе. Но эта новая война заставила обоих консулов собирать армии, а жребий должен был только определить, где кому воевать во главе легионов. Риму предстояло вести две войны одновременно – товарищ отца по консулату Тиберий Семпроний Лонг получил по жребию Африку, а мой отец – Испанию. Вместе с отцом легатом отправлялся его младший брат Гней. Я должен был сопровождать отца как командир конной разведки. В этот отряд конницы входил и Лелий как юноша из всаднического сословия.








