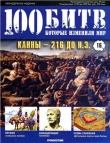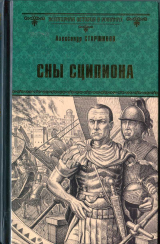
Текст книги "Сны Сципиона"
Автор книги: Александр Старшинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
На второй день после прибытия я призвал всех каннских изгнанников, кто бедствовал все эти годы на Сицилии. Пройдя перед строем, несмотря на миновавшие годы, я узнал солдат, с кем когда-то зимовал в Канузии.
Без всяких вступлений я объявил, что веду старых легионеров с собой в Африку.
– Мы ждали тебя, Сципион! – услышал я радостный возглас.
Это был Тит Карий, тот самый Карий, что отправился с отцом моим в Испанию, а потом сражался с нами при Тицине и Требии в долине Пада. Потом я видел его в армии, что расположилась на поле под Каннами. В Канузий он пришел вместе с другими беглецами и вместе с ними ушел на Сицилию.
Я обрадовался ему, как близкой родне, и поручил формировать центурии и манипулы из здешних ветеранов, отбирая подходящих людей и заменяя тех, кто уже не может служить, добровольцами. Вся беда была в том, что сенат в нелепом упрямстве не позволял им все эти годы сражаться – даже во время осады Сиракуз Марцелл не ставил их в строй. Так что для этих ветеранов по возрасту последним сражением оставались ужасные Канны. Теперь им наконец разрешили идти в бой и следовать со мной в Африку. Другой бы расценил такую милость как насмешку. Но я всем своим видом показывал, что ценю собратьев по каннскому несчастью, ни мгновения не презираю, ни на палец не унижаю и за службу отблагодарю.
Зачастую я сам расспрашивал ветеранов про их здешнюю жизнь. У каждого из них была своя история, почти у всех трагическая: они годами не видели дома, их родителей хоронили в далекой Италии без них, их жены жили с другими или умирали в безденежье, дети росли, не зная отцов. Все истории были похожи, но у каждого на сердце лежала своя беда. Вот история, что запомнилась мне особенно. Один из парней, что дослужился потом у меня до центуриона, уходя в армию, обручился с юной девицей. Ей было четырнадцать, и отец невесты решил, что она еще мала выходить замуж. Свадьбу решили сыграть через год, когда жених вернется домой с победой. Но жених не вернулся, а отправился служить на Сицилию. И вот все эти годы невеста его ждет. Иногда в случае оказии они пишут друг другу письма, иногда ему удается отослать ей немного денег из жалованья. Ей уже двадцать пять, время идет. А он даже не может выпросить у командира отпуск, чтобы съездить домой и жениться. И пускай Ганнибал давно уже не устраивает серьезных набегов, сидит в Бруттии вместе с остатками своего войска, несчастный жених все еще не может хоть на пару дней заглянуть домой.
– А почему бы тебе не позвать ее сюда и жениться? – спросил я.
Парень отрицательно покачал головой:
– Дороги слишком опасны, к тому же они бедны, чтобы тратиться на такую поездку.
– Они могут примкнуть к большому обозу. Хочешь, я сам напишу отцу твоей девушки?
– Нет, нет, ей нечего здесь делать, – еще более энергично стал упираться незадачливый жених.
После битвы при Заме, после победы и после того, как я устроил раздачи своим воинам, этот парень так и не поехал домой, а спустил в кабаках все до последнего асса.
Я не знаю, что сталось с его невестой – умерла ли она в безбрачии или вышла замуж за какого-нибудь отпущенника, но жениха своего она так и не дождалась.
* * *
Следующие месяцы прошли в хлопотах: я велел вытащить на берег новые корабли, на которых мы прибыли на Сицилию, – наскоро построенные из сырого леса, они нуждались в основательной просушке. Старые корабли, которые удалось найти на острове, ремонтировали и готовили к походу: мне предстояло переправить в Африку не только армию, но и запасы пищи и фуража на много дней вперед.
У меня не было припасов для большой армии, как и не было денег, чтобы их закупить. Так что недостачу пришлось восполнять сицилийцам. Я расквартировал по городам своих солдат, чтобы кормиться за счет местного населения и не тратить привезенного с собой зерна, оно должно было пригодиться мне в экспедиции. Каждый день и даже каждый час занятий моих солдат был расписан – как когда-то в Новом Карфагене, я чередовал тренировки с трудами по подготовке похода и отдыхом.
Квестором ко мне назначен был Марк Порций Катон, и с Сицилии началась наша с ним непримиримая вражда.
Здесь, на острове изобилия, на какое-то время охватила меня странная расслабленность – мне нравилось, проведя первую половину дня в трудах, затевать с друзьями состязания в палестре или устраивать вечерами симпозиумы на греческий манер – вести споры за чашей вина. В день, когда моим солдатам полагался отдых, я сам вместе с Лелием отправлялся в театр.
Каждый раз Катон корчил неодобрительную мину, видя меня дома в греческой одежде и открытых (кстати, очень удобных) греческих сандалиях. Отправляясь в город, я порой выходил все в той же домашней одежде, не брал с собой ликторов, и за мной следовали сыновья Тита Кария – быстрые ловкие парни, ставшие моими телохранителями. Каждый из них мог меня защитить в случае нападения куда лучше, нежели стадо надутых ликторов. Готовя экспедицию, я решил не тратить время на устройство ненужных процессий, которые только привлекут внимание и отнимут драгоценное время.
Греческие книги на моем столе казались Катону почти что святотатством. Но более всего поражен он был, когда, зайдя в гимнасий в моем доме, обнаружил меня, Гая Лелия и Племи-ния упражнявшимися в борьбе. И хотя мы были в набедренных повязках, а не полностью обнажены, как обычно поступают греки в своих гимнасиях, наши занятия атлетическими упражнениями произвели на него просто убийственное впечатление. Несколько мгновений Катон стоял недвижно, выпучив глаза, а когда Лелий подошел к нему и протянул кувшин с маслом, предлагая натереться и присоединиться к нам, он удалился с проклятиями, так и не сказав, по какому делу явился.
Та зима на Сицилии была одна из самых счастливых в моей жизни. Я предвкушал грядущие победы, строил планы. И хотя Судьба не обманула меня и всё сбылось, в воспоминаниях я почему-то чаще обращаюсь к тем зимним вечерам на Сицилии, когда, расположившись за столом, мы с Гаем Лелием и Луцием вели беседы о грядущем, попивая вино.
Моя главная победа, мой триумф и моя слава были еще впереди.
Глава 3
ЛОКРЫ
Утром я чувствовал себя почти сносно, выпил настойку и даже съел немного хлеба и сыра.
Я сидел в таблинии, раздумывая, с чего начать записи этого дня, как занавеска дернулась, и в щель просунулась голова Диодокла.
– Похоже, к нам кто-то едет, доминус, – пробормотал он извинительно.
Я покачал головой. О, как видно, прощальная церемония затянулась. Сначала моя Эмилия с девочками, потом Гракх. Их сменил Гай Лелий. Кто же теперь? Брат мой или мои сыновья?
Я велел принести тогу и красные сенаторские башмаки, оделся (вернее, меня одели), как подобает по рангу, и я вышел в атрий встречать гостя. Я намеренно уселся на скамью так, чтобы оставаться в тени и чтобы поток света, льющийся через отверстие в потолке, отделял меня, подобно прозрачному занавесу, от гостя.
Я сидел, опустив взгляд, и прислушивался к тяжелым шагам по каменным плиткам. Человек подошел и остановился. Я поднял голову. Предо мною стоял Катон.
Я так опешил, что не вымолвил ни слова.
Уж его-то я точно не ждал в гости. Человек этот выбрал меня в качестве жертвенного быка, дабы заполучить должность цензора, к которой он с такой страстью стремился. Он преследовал меня, травил, унижал. Чем еще он может мне досадить? Вычеркнуть из списка сената? Уж это конечно же слишком даже для него. А впрочем, какое мне дело до его фокусов? Вскоре мне станет уже совершенно все равно, что придумает этот борец за нравственность и обычаи предков.
– Будь здрав, Сципион Африканский! – он будто выкрикнул на поле команду.
– Будь здрав, Катон, – отвечал я тихо.
– Известно ли тебе, что Ганнибал умер?
– Мне донесли.
– Казнить его надо было давно. Не знаю, зачем ты его пощадил. – Он подошел и уселся на скамью напротив.
Я разглядывал его – он был полон сил и здоровья. Сделался еще шире в плечах, дороднее, увереннее (хотя куда уж больше). В рыжих волосах мелькала седина. Я никогда не считал его примитивным или бездарным. Судьба наделила его способностями и энергией – этого нельзя отрицать. Мне кажется, все дело в его происхождении: будучи новым человеком, он мучительно тяготился своим безродным плебейством, в отличие от того же Лелия. К должностям его продвигал аристократ Флакк, сосед по имению и покровитель-патриций, но этот патронат оскорблял честолюбивого плебея, и он всеми силами пытался доказать, что не только ровня аристократам, но и превосходит всех добродетелями.
– Знаю, что не зван, но я тут проездом, на обед не останусь, – предупредил он, давая понять, что не ищет ни дружбы, ни внимания.
– Зачем ты… – хотел сказать «приехал», но тошнота подкатила к горлу, и я принялся облизывать губы, пытаясь перебороть проклятые спазмы.
Он понял эту полуфразу – глупцом никогда не был, надо сказать.
– Напиши послание сенату, потребуй новой войны с Карфагеном и разрушения мерзкого города. – Его слова звучали как приказ.
Катон приказывает Сципиону? А если я не подчинюсь, что тогда?
– Зачем?
– Карфаген должен быть разрушен!
– Ты так уверен?
– Вполне. Они вновь богатеют и входят в силу.
– Пускай. – Как объяснить ему, что это благо, а не зло. Боюсь, никак. – Пускай вокруг будет много богатых городов. Но сильным останется лишь один – Рим. Наши союзники, наши клиенты будут доставлять нам богатство и мощь, как доставляют получившие свободу слуги своему патрону.
– Глупые мечты, Сципион! – Он резко подался вперед, и я уловил запах дорожного пота, запах непережеванного мяса изо рта, и меня опять затошнило. – Мы станем одним-единственным миром, вобравшим в себя всю ойкумену. Рабов надо приучать к повиновению и не давать им бездельничать. А все эти государства-союзники – обычные бездельники. Ты привлек в Рим эту пьянящую дух вредную восточную роскошь, эти гнусные новшества. Ты разрушил чистоту римских нравов. Корыстолюбие, тщеславие, бесстыдство, высокомерие – это все ты. Именно ты ополчился на обычаи предков и совершил ошибку, не разрушив Карфаген. Но я доведу дело до конца! – Он говорил таким тоном, будто был учителем, а я – нерадивым учеником, чье поведение надобно было немедленно исправлять. Однажды избрав этот тон, он уже не мог от него отказаться.
Я резко выпрямился. И внезапная боль пронзила бок сверху вниз. Я едва не закричал и вцепился пальцами в скамью.
– Илитургис… – прошептал я.
– Что? – мотнул головой Катон. – О чем ты?
– Я перебил их всех – женщин, стариков, младенцев. Не остановил резню. Кровавый хмель охватил солдат, и они вырезали жителей поголовно. Мне снится иногда, будто я подхожу к воротам истребленного городка и предо мной створы сами собой распахиваются. Я вхожу. Кругом кровь и мертвые тела. Они лежат, окоченевшие в вечном сне. А потом поднимаются, когда я прохожу мимо, и тащатся за мной, безмолвные, изувеченные, навсегда скрюченные предсмертной болью. Я выхожу через другие ворота, а они следом, я иду и иду, они не отстают… Я не хочу, чтобы в моих снах так же бродили мертвецы из Карфагена.
Катон фыркнул.
– Тебе всегда снились странные сны, Сципион. Энний, которого я привез в Рим, и тот не страдал подобным безумием. Так ты…
– Нет, я не стану писать обращение к сенату.
– Будущее за мною, Сципион. Римский мир должен быть правильным, цельным и сильным.
Он уехал, как и обещал, еще до обеда[87]87
Поскольку Катон начал вставлять во все свои речи в сенате фразу «А еще полагаю, что Карфаген должен быть разрушен» где-то около 153 года до н. э., сразу после своего посещения Карфагена, то, не исключено, что визит Катона Сципиону приснился.
[Закрыть].
А я вернулся к своим записям.
* * *
Я любил рассказывать эту историю за бокалом вина. Если во время обеда или после, во время возлияний, кто-нибудь просит меня поведать о прежнем, обычно я вспоминаю не битву при Заме или сражение при Илипе (кому охота за поглощением паштета выслушивать подробности диспозиции перед битвой), а в подробностях описываю, как мне удалось увести из-под носа Ганнибала Локры. Это тем более приятно, что победа не стоила крови и походила скорее на некую забаву, состязание в хитрости, розыгрыш с переодеваниями, почти невероятный, как и многие истории той поры.
Однако если начало локрийской истории я повторял время от времени на пирушках, то ее продолжение старался по возможности опустить. Именно из-за этого города я едва не лишился своего назначения на Сицилии и возможности одолеть Ганнибала. Была тут и моя вина – зачем оправдываться перед собою в последнем рассказе.
Поскольку история возвращения города под власть Рима хорошо известна, я опускаю ее и перехожу к той части рассказа, что не красит ни меня, ни моих солдат. Итак, когда Локры вернулись под руку Рима, я оставил в городе своего легата Квинта Племиния с тем самым отрядом, с которым он брал городок, и ему в придачу двоих военных трибунов, им была придана другая часть войска. Племиний, как я уже писал, проявлял необыкновенную храбрость, когда надо было идти на штурм, первым взбирался на осадную лестницу и один в схватке стоил дюжину. Но в покоренном городе он вел себя как дикий зверь, о чем мне было известно, и было ошибкой поручать ему гарнизон, как ставить стеречь отару овец матерого волка. Но я отмахнулся от здравых рассуждений, подумав прежде всего об интересах моего легата: Племиний – отличный воин, ему надо немного отдохнуть от ратных трудов. Я был заворожен геркулесовой силой этого человека, его звериной смелостью, его счастливой звездой – сколько раз доводилось ему первым кидаться в битву, впереди всех карабкаться на вышину во время осады, и всегда он оказывался удачливым в своих дерзких предприятиях.
О том, во что обойдется этот отдых несчастному городу, я не стал задумываться. И Племиний отдохнул, так отдохнул, что эхо локрийского веселья аукнулось в римском сенате.
История эта звучала особенно дурно еще и потому, что локрийцы способствовали возвращению своего города под власть Рима и встретили нас с радостью, надеясь на справедливость и милосердие. Ну а что они получили, расскажу ниже. К моей беде и беде горожан, военные трибуны Сергий и Матиен, которых я оставил вместе с легатом в Локрах, были полной противоположностью Племинию. Война с Ганнибалом требовала от нас постоянного напряжения. В армию шли все, кому едва исполнялось шестнадцать, и зачастую под знамена ставили когорты безусых необученных мальчишек. Обоим моим военным трибунам не было еще и двадцати. Мальчишки, мечтающие о добыче и женщинах, они ничем не прославились на полях сражений, но, поступив в войско, рассчитывали на скорую карьеру. В военных трудах они были ленивы, в подготовке флота – бесполезны, Сергий к тому же пользовался высоким положением своей семьи и даже пробовал мне указывать там, где я его совсем не просил. Потому я оставил этих двоих в Локрах, чтобы они не путались у меня под ногами.
Поскольку я удалился назад на Сицилию, чтобы готовиться к африканской экспедиции, Племиний с его отрядом и военные трибуны со своими людьми остались в Локрах полновластными хозяевами. Город этот хоть и не велик, но красив и богат, так что основным занятием гарнизона было рысканье по улицам и по домам в поисках добычи. Едва солнце садилось, как жители прятались в домах, запирали двери и дрожали без сна, прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Запоры не помогали: солдаты вламывались в жилища, хватали все, что им нравилось, – серебряные и бронзовые кубки, ткани, деньги, поросят, кур, то есть все, что попадалось под руку. На базаре люди боялись показываться даже с жалкими медяками и старались менять вещи – одежду на продукты, вино – на рыбу, припрятав монеты до лучших времен. Однако даже у бедняка есть что отнять: солдаты хватали любую женщину, что им нравилась, и тащили к себе для утех, да что там женщин – они похищали малых детей, девочек и мальчишек, а когда жители отправлялись жаловаться Племинию на притеснения, тот выгонял несчастных пинками. Римские солдаты в довершении всего ограбили святилище Прозерпины. Локрийцы потом рассказывали, что именно оскорбленная богиня в отместку стравила римлян друг с другом так, что дело дошло до смертоубийства.
Всего этого я в то время не знал, подробности стали известны позже из разбирательства дела Племиния.
Вернее, я просто не захотел знать и разобраться, ведь отдельные слухи доходили до моих ушей.
Несчастные локрийцы первым делом послали посольство ко мне с жалобой на притеснения. В свое оправдание могу сказать, что не они одни донимали меня в те дни многословными прошениями. Каждый день поутру, едва я вставал, Диодокл сообщал, что в атрий дворца пожаловало чуть ли не полсотни людей и у каждого при себе написанная на дощечках или на папирусе жалоба. Многие приходили по три или четыре раза. Выслушать всех я просто не мог. Одна, две фразы, скорее из вежливости, чем по существу дела, и секретарь забирал прошение. Потом, когда появлялось время, я разбирал дела. Сейчас не могу сказать точно, видел ли я жалобу на Племиния, или она так и осталась лежать непрочитанной среди прочих.
Я написал и остановился… Тут отчетливо вспомнил, что жалобу локрийцев я все-таки прочел. Вернее, прочитал ее мой секретарь. Чтобы не тратить попусту время, я велел зачитывать жалобы местных обитателей за обедом. Обедали мы вместе с Гаем Лелием и с моим братом Луцием.
Луций, услышав жалобы локрийцев, заявил:
– Я бы на их месте был только рад. В Локрах появится новое племя от Племиния – сильное, могучее, бесстрашное, – и он сам рассмеялся своей шутке.
Надо сказать, что в Луции проявилась одна очень неприятная черта, которую я приметил еще в Испании. Поначалу весьма незлобивый, готовый помиловать любого, не смевший отдать приказ убивать во время штурма людей на улицах захваченного города, с годами он сделался поразительно жесток. Жестокость проявлялась в нем как приступы лихорадки – в один день он мог быть милостивым и снисходительным, а в другой становился безжалостным, причем совершенно бездумно, без всякой пользы для дела, а даже чаще во вред. Кажется, эти приступы бессмысленной жестокости начались у него с той поры, как Племиний высмеял моего брата после взятия испанского Оронгония, осадой которого Луций командовал. Во время штурма Луций приказал щадить даже застигнутых на улицах, убивать только тех, кто будет с оружием вступать в бой. Проявивший милосердие и жестоко за это осмеянный, брат мой решил, что доблесть подтверждается кровью. И с тех пор, если Луций руководил осадой какого-нибудь городишки, побежденных он более не щадил.
– Локрийцам нужен именно такой человек, как Племиний, – отозвался я, – чтобы навсегда отбить охоту к мятежу. Прежде они передались Ганнибалу, не стоит забывать об этом. Уход от Пунийца не отменяет первую измену.
* * *
А меж тем в злополучном городе два наших отряда дошли до открытой вражды друг с другом. Началось все со ставшего обычным ночного грабежа. Один из солдат Племиния забрался в дом, похитил драгоценный кубок и пустился наутек, но хозяин дома с братом погнались за ним. Вряд ли они смогли бы отнять у солдата ворованное. Но столь беззастенчивый грабеж внезапно лишил локрийцев страха. Впрочем, погоня была недолгой – на свою беду (и не только на свою) солдат-воришка столкнулся на улице с отрядом, который вели оба военных трибуна. Выслушав потерпевших, Сергий и Матиен велели немедленно вернуть украденное. Но не тут-то было – на крики и брань сбежались дружки похитителя кубка, начался спор, и вскоре дело дошло до драки. Силы оказались не равны, Племиниевых солдат крепко побили, а многих даже ранили. Проходимцы кинулись к своему командиру, принялись жаловаться на трибунов и с удовольствием донесли, что во время уличной драки Сергий и Матиен поносили легата последними словами. Племиний взъярился, тут же собрал людей и отправился с ними к трибунам, приказал ликторам схватить их, раздеть и высечь розгами. Его люди, выполняя приказ, набросились на трибунов, стали срывать с юношей одежду и сечь. Те сопротивлялись, бились яростно, опять началась свалка, на крики подоспели солдаты из отряда трибунов. Племиний был куда выше рангом – легат с пропреторскими полномочиями, то есть как легат, представлявший особу консула и его власть в Локрах. Однако солдаты не просто отбили военных трибунов из рук ликторов, но и принялись бить этих самых ликторов, а потом набросились на самого Племиния, пустив в ход поначалу только кулаки. Легат сопротивлялся. И хотя меч у него отобрали, нападавшим долго не удавалось повалить силача на землю, и он, пожалуй, больше раздавал ударов, нежели получал. Нападавшие, сами избитые и окровавленные, обозлились до крайности из-за того, что толпой не могут справиться с одиноким бойцом. Военные трибуны подбадривали своих и, наверное, даже позабыли, что находятся в войске, а не на гладиаторских играх. Наконец люди военных трибунов сбили Племиния с ног и уж теперь разошлись на славу. Его не только избили так, что весь он был залит собственной кровью, но и отрезали ему нос и уши, и бросили так на улице, будто покалеченную собаку.
Об этом мне донесли в Мессану, где я в тот момент находился. Я немедленно прибыл на своей гексере[88]88
Гексера – шестипалубный корабль, флагманский корабль Сципиона.
[Закрыть] разбирать дело. Племиний, изуродованный и окровавленный, встретил меня в порту и взошел на корабль. Его вид был ужасен – черная рана на месте носа, все лицо тоже черное от синяков, голова обмотана, на месте ушей повязка набухла кровью – раны пока еще не закрылись. Он ничего не сказал мне про то, что велел высечь трибунов, как нерадивых солдат. Лишь пожаловался, что во время спора на него набросились люди Сергия и Матиена, избили его ликторов, избили его самого, а потом изуродовали. И при этом трибуны поносили не только самого Племиния, но и меня (что как потом выяснилось, оказалось враньем).
Я так торопился, что решил не сходить на берег, и вызвал трибунов к себе на корабль. Я сидел на палубе на курульном стуле, как и положено консулу, Племиний стоял у меня за спиной. Он снял свою нелепую повязку, похожую на те, что повязывают старики, когда у них по вечерам ноют зубы, так что черные раны, сочащиеся гноем и кровью на месте ушей, сделали его вид еще более жутким. Мальчишки-трибуны сообразили, что их обвиняют в мятеже, ибо легат, имеющий право на ликторов, представляет империй и власть Рима. Трибуны смешались, стали умолять о снисхождении, вместо того, чтобы изложить свою версию событий и оправдаться. Я махнул рукой, мол, недосуг мне их слушать, велел заковать их, посадить под арест до дальнейших разбирательств, а всю власть в Локрах предоставил Племинию.
В тот же день я отбыл назад в Мессану.
Мое пренебрежение стоило юным трибунам жизни. Едва мой корабль вышел из порта и взял курс на Мессану, как Племиний приказал подручным притащить к себе пленников, привязать к столбам и пытать всеми пытками, какие только придут на ум. Устав наблюдать за муками своих обидчиков, он подскакивал к нечастным и пускал в ход кулаки или собственноручно жег их раскаленным железом. Он замучил их до смерти, но не насытил свою ярость. Легат даже не позволил похоронить трибунов, а велел бросить тела в канаву, будто это были в самом деле изменники. После чего начал допытываться, кто из локрийцев ездил ко мне подавать жалобу. Составив список недовольных, Племиний с отрядом подручных лично врывался в их дома и уж тут буйствовал, будто ураган на море.
Без всякой надежды на умиротворение легата локрийцы отыскали каких-то тихих старичков, что сидели по домам и не попадались римлянам на глаза, записали все свои обиды, вручили посланцам свитки и тайком рано поутру отправили из города на торговом корабле – будто бы с товарами в Неаполь, а на самом деле с жалобой на Племиния в римский сенат.
Как раз в это время Катон, возмущенный моими действиями на Сицилии и прежде всего моими упражнениями в гимнасии и чтением греческих «книжонок», пылая праведным гневом и видя уже тогда себя защитником римских традиций, также отправился в Рим с донесением. Так что встреча локрийских послов и моего квестора едва не сделалась для меня роковой. Многие спросят, как мой квестор сумел уехать из лагеря без моего разрешения. Так в том-то и дело, что я не просто дал ему позволение ехать, я отправил его с поручением добыть мне денег на постройку кораблей и осадных машин для предстоящей экспедиции, а также продовольствие и одежду. Кое-кто мог подумать, что я собираюсь осаждать Карфаген. На самом деле речь шла о небольших крепостях – таких как Утика.
Вместо помощи Катон нажаловался на меня отцам-сенаторам.
Могу представить, что творилось в Риме. Как явились локрийские послы перед сенаторами – в темных скорбных одеждах, будто на похоронах, обвязав на греческий манер лбы шерстяными повязками, держа в руках масличные ветви. Как красочно несчастные локрийские старики расписывали злодеяния Племиния перед стариками-сенаторами. Какой поднялся крик, когда они были выслушаны, и какие проклятия посыпались на мою безрассудную голову. Самого Племиния почти что не обсуждали – его вина была очевидной, вряд ли у кого-то возникали сомнения в том, что легата ждет тюрьма, особенно после того как стало известно о казни военных трибунов. Сенаторов волновало другое – каково мое участие в этой истории, знал ли я злодеяниях Племиния, поощрял ли, или даже сам отдавал приказы о грабежах и убийствах? Локрийцы на все вопросы дипломатично отвечали, что моя роль им неизвестна, что они обращались ко мне, но ответа не получили; по какой причине, не ведают. Сенат тут же отрядил целую делегацию разбираться с Локрами и Племинием, ясно видя, что подобные бесчинства в городе, который сдался на нашу милость и чьи жители помогали нам против Ганнибала, могут оттолкнуть союзников от власти Рима.
Умница Эмилия, вызнавшая обо всем происходящем в сенате от своей родни, тут же прислала мне подробное письмо, передавая, что говорили локрийцы против меня, и подробно пересказала речи Катона, хотя знала их только из вторых рук. Письмо жены я получил заблаговременно, еще до того, как посольство добралось до Локр. Тогда-то я и понял, что совершил опасную ошибку, и поначалу не ведал, как ее исправить. Первым порывом было отправиться в Локры и немедленно взять Племиния и его подручных под стражу, назначить новых людей, то есть исправить немедленно то, что надобно было исправить намного раньше. Но это было первым и совершенно неверным порывом. Я понял, что мои запоздалые действия будут служить доказательствами моего пренебрежения и как бы признанием моей личной вины, к тому же я отниму у посланцев сената удовольствие навести порядок в несчастном городе. То есть это все равно, что отнять у собаки мясную кость – даже самый добродушный пес непременно вцепится в руку. Так что пускай посланцы сената сами наводят порядок в Локрах и исправляют мои ошибки. К тому же попытка опередить посланцев сената станет косвенным признанием не только вины (от этого не уйдешь), но и позорной слабости, низкого заискивания. Чего я как командующий позволить себе никак не мог.
Посему, вместо того чтобы обрушить свой запоздалый гнев на Племиния, я спешно занялся приготовлением к походу – то есть кораблями, припасами, войском, отменив всякий отдых и лично проверяя каждую центурию. Мне тем временем доносили, что претор и его спутники, присланные из Рима в Локры, взяли Племиния под арест и вместе с главным обвиняемым посажены в тюрьму еще тридцать два человека из окружения легата. Здесь же, в Локрах, претор провел предварительные слушания по делу. А затем послы начали наводить порядок. Солдат вывели из города и заставили разбить лагерь под стенами, а в город запретили соваться, приказав выставить караулы у городских ворот. Все награбленное велено было вернуть, женщин и детей, похищенных из семей, также постановили возвратить, ну а прежде всего – вновь наполнить сокровищницу храма Прозерпины. Настоящий суд над арестованными должен был состояться в Риме, так как судить их мог только римский народ.
Много лет спустя, уже во второе мое консульство[89]89
194 год до н. э.
[Закрыть] Племиний, все еще сидевший в тюрьме и так и не получивший приговора от римского народа, попробовал сбежать. У него были друзья и родня в городе – человек этот умел при всей своей свирепости и вспышках бездумной жестокости повсюду приобретать верных друзей и даже почитателей, – в итоге его люди сумели устроить что-то вроде бунта в Риме – там и здесь запалили пожары и даже попытались выломать ворота тюрьмы. По всей видимости, Племиний надеялся на мою помощь, пускай и совершенно необоснованно. Сбежать он не сумел – его спешно перевели в нижнюю часть Мамертинской тюрьмы, где он и умер вскоре. Хотя у меня есть подозрения, что охранники задушили его в ночь бунта, чтобы не дать вырваться на свободу.
* * *
Но вернусь к прерванному рассказу. Обеспокоенный делом Племиния, я принялся готовиться к предстоящему походу в Африку с таким рвением, будто уже завтра армия должна была садиться на корабли.
Когда претор и его спутники добрались до Сиракуз, все было готово к их встрече – роскошный обед во дворце в честь их прибытия, а на следующий день – смотр войск и примерное морское сражение в гавани. Посланцы сената были в восторге, в Рим они отбыли с донесением, что армия моя выше всяких похвал, а поражение Ганнибала неизбежно.
Опасность моего отстранения миновала.
* * *
Я отложил стиль и задумался. Как часто наша судьба зависит от чьего-то неверного решения. Не пошли я Племиния в Локры, а назначь его готовить оснащение к экспедиции, он бы отправился со мной в Африку и славно бы послужил мне под Замой или во время осады Утики. Многие люди остались бы живы, в том числе эти мальчишки – Сергий и Матиен, не говоря о локрийцах, которым бы не довелось претерпеть столько лишений. Одна нелепая ошибка, которую так легко можно было не совершать, но трудно оказалось исправить, сломала десятки, если не сотни судеб. Пожалуй, это был единственный случай, когда я мечтал вернуться назад и исправить содеянное.
Но потом я вспомнил об азиатской кампании и подумал, что нет, не единственный…
Времени до заката оставалось еще немало. Но мне вдруг расхотелось вести свои записи. Не позвать ли немедленно Ли-кия и приказать бросить в огонь папирус? Зачем людям знать об ошибках и промахах Сципиона, о его слабостях, о его растерянности, о его боли? Разве не должен я оставаться в глазах потомков полубогом?
И все же я не стал жечь папирус и решил продолжать свои записи.