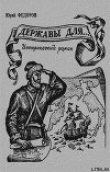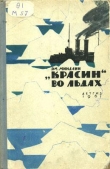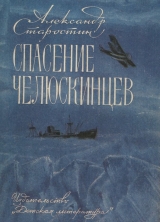
Текст книги "Спасение челюскинцев"
Автор книги: Александр Старостин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В ТО ВРЕМЯ когда, по словам журналистов, «коварный океан» затягивал «ледовую петлю» вокруг «Челюскина», в Москве в приемную начальника транспортной авиации вошел рослый, крепко сбитый молодой человек с несколько широковатым добродушным и веселым лицом, на которое служба в авиации наложила свои отметки – два розовых глянцевитых шрама и вставные фарфоровые зубы. Это был Михаил Васильевич Водопьянов, известный своим редким мужеством даже в то героическое время.
Он прекрасно знал условия работы на Севере, где довольно много летал и достаточно «падал», и решил сделать на своем аэроплане некоторые технические доработки: утеплить кое-где трубопроводы систем, установить дополнительные бензобаки, кабину сделать закрытой и поставить в ней электрическую печку – обогреватель. Со списком доработок и чертежами он и явился к командованию.
Между прочим, Михаил Васильевич был прекрасным механиком, как большинство летчиков того времени, и сам мог бы выполнить все эти работы. Но в авиации каждая мелочь требует всестороннего рассмотрения разными специалистами и визы высшего командования. И это правильно, так как на самолете нельзя допускать самодеятельности.
В приемной Водопьянов увидел другого молодого человека, на его взгляд, слишком элегантного. Впрочем, если приглядеться, то молодой человек был одет в обычную летную форму, но сидела она на нем как-то особенно ловко.
В тот момент, когда Водопьянов зашел в приемную, молодой человек сидел, уткнувшись в карту Арктики, и, казалось, не видел ничего вокруг.
– Маврикий Трофимович, приветствую вас, – поздоровался Водопьянов.
– А-а, – поднял голову Маврикий Слепнев и заулыбался, – как здоровье, дела, настроение?
– Здоровье так себе, дела ни к черту, а настроение отличное, – улыбнулся Водопьянов.
Маврикий Трофимович Слепнев, не менее известный летчик, чем Водопьянов, начинал службу в авиации еще до революции и дослужился до офицерского чина.
Потом служил в дивизии Чапаева, учил летать молодых летчиков. Он летал на английских «Ньюпорах» и «Сопвичах», французских «Фарманах» и «Блерио», на немецких «Альбатросах». Он воевал с басмачами на юге, избороздил небо Средней Азии, где мог летать даже без карты. Потом перебрался на Север и открыл множество новых трасс. Недавно разыскал погибший самолет известного американского летчика Бена Эйльсона. Он не раз видел смерть в глаза и при этом сохранял необыкновенное спокойствие и чувство юмора.
Иногда его называли летчиком «джеклондоновского» типа. Но это не совсем так. Однажды он по этому поводу сказал:
«В рассказах Джека Лондона частенько приводятся температуры в восемьдесят градусов мороза. Но это все градусы по шкале Фаренгейта. Если перевести эти морозы на нашу шкалу Цельсия, то тут, пожалуй, и страдать от морозов особо нечего, А что касается «белого безмолвия» и всяких прочих американских ужасов, то тут нельзя забывать, что и мы, русские люди, тоже ведь осваивали Арктику. Но только американцы осваивали Север во имя золота, а мы и наши предки – во имя Отечества. Кроме того, я считаю, что наш неказистый сибирский мужичок в своей повседневной жизни преодолевает не меньше трудностей, чем «белокурые бестии» при своих эпизодических набегах на Север»…
– Над чем это ты колдуешь? – спросил Водопьянов, пристраиваясь рядом со Слепневым и тоже заглядывая в карту.
– Понимаешь, Миша… Вот тут сейчас дрейфует «Челюскин». Неизвестно, выберутся ли они на чистую воду. А потом у них сейчас на судне самовозгорание угля.
– Да, положение у них, видать, не больно-то веселое, – согласился Водопьянов.
– А борьба с огнем… своему врагу не пожелаешь такого удовольствия. Это ведь надо перекидать сотни тонн угля. А уголь горит. Лопатой его, значит, ковыряешь, водой заливаешь и на новое место перебрасываешь. Дышать нечем. В аду, наверное, воздух посвежее будет. И так день, другой, третий… И опять же можно взлететь на воздух – кругом бочки с бензином и соляркой. А освобождать пароход изо льда? Заложил, понимаешь, тротилловую шашку, рванул – во льду только дырка, а долгожданных трещин – нуль. Только выломаешь одну льдину, а на ее место, в полынью, лезет уже другая. Словом, там сейчас не сладко.
– Да, – согласился Водопьянов, – там теперь не до смеху.
– Трудности каждый день, и всё разные. И попахивает зимовкой. А зимовка для «Челюскина» – гроб. Разве что успеют заскочить в какую-нибудь бухточку, где тихо и нет подвижки льдов. Но сейчас они, кажется, не имеют собственного хода.
– Я думаю, пробьются. Не впервой ведь. Там такие орлы – Шмидт, Воронин, Бабушкин, в экипаже много сибиряковцев, красинцев. На «Сибирякове» пробились, и тут пробьются. И пожар, я слышал, загасили.
– В этом году обстановочка похуже. И вышли в море поздновато. Льды в Чукотском море пребывают в постоянной подвижке. А ведь льдам раздавить что стальное судно, что бумажный кораблик – всё едино. А ты-то сюда по какому вопросу?
– Доработочки.
Водопьянов показал Слепневу свои бумаги и чертежи. Тот внимательно посмотрел их и сказал:
– Неплохо. Как раз на переоборудованном ероплане и полетишь… На Север. Если понадобится, конечно. Как себя чувствуешь после катастрофы?
– Да вот пара шрамов да семь новых зубов. Челюсть подтянута винтиками. Ногу сломал. Но сейчас как будто все в норме. Боялся медкомиссии как черт ладана. Однако обошлось. А сейчас готов выполнить любой приказ Родины и партии.
– Ты уж, Миша, летай поаккуратнее. Не рискуй.
– Постараюсь. Да и ты особенно-то не лезь на рожон.
Двадцатипятилетний пилот Анатолий Васильевич Ляпидевский в это время находился на Чукотке, в бухте Провидения, куда был доставлен на пароходе вместе с двумя разобранными самолетами АНТ-4.
Ляпидевский занимался сборкой самолетов и между делом подумывал, что скоро увидит красавец-пароход и легендарных полярников: ведь «Челюскин» никак не минует бухты Провидения.
«Надо сделать так, чтоб самолеты были в полной боевой готовности, – думал он. – На всякий случай. Вдруг что-нибудь случится с самолетом Бабушкина, тогда придется мне помогать. Ну, а если зазимуют, кому ж вывозить на материк женщин, детей, больных? Только мне».
Анатолий Васильевич – красивый, стройный, голубоглазый молодой человек – даже в своем меховом неуклюжем комбинезоне выглядел подчеркнуто молодцевато. И это не удивительно. Он был потомственным казаком из станицы Белоглинской, а как известно, у казака, представителя военного сословия России, привыкшего к оружию и осознавшему с детства, что он – опора отечества, – даже походка и осанка особые. Не говоря уж о врожденной и воспитанной склонности к риску и удальству.
Анатолий Васильевич Ляпидевский еще совсем недавно осваивал новые трассы на Дальнем Востоке – очень рискованное Дело, особенно когда сопки и море в тумане, а мотор дает перебои. Но рассказы бывалых полярников, в том числе Водопьянова и Молокова, сделали свое дело: душа, требующая простора, потянула Анатолия Васильевича в Арктику. И он, подобно своим предкам, казакам Ермаку, Дежнёву, Хабарову, устремился на освоение новых пространств во имя Отечества.
Он был ближе всех к «Челюскину», но дальше всех отстоял от аэропортов, где можно разжиться запчастями, топливом, инструментом и приспособлениями.
Самолеты были, наконец, собраны, но обязательно что-то отказывало или при запуске мотора, или при контрольном облете. Впрочем, следовало сперва запустить мотор – задача почти невыполнимая. А что делать, если нет то одного, то другого? Что делать, если любой агрегат может отказать в любую минуту, хорошо, если не в воздухе. Ляпидевский и его товарищи буквально на каждом шагу вынуждены были проявлять так называемую русскую сметку и самодеятельность.
«Челюскин» дрейфовал уже где-то в районе Колючинской губы. Никто не знал, удастся ли ему выйти в Берингов пролив. Ведь опыт старых капитанов говорил, что если до 15 сентября не удалось попасть в Тихий океан, то позже и не попадешь. Значит, зимовка? Но не верилось, что челюскинцы не пройдут. Победа казалась такой близкой.
Ляпидевский почти ежедневно, если позволяла погода, производил или пытался произвести контрольные облеты аэропланов, малопригодных для полетов на Севере. И обнаруживал всякий раз какие-то неполадки: то затрясет мотор, то приборы откажут, то давление масла упадет, то трубопровод замерзнет.
Промерзнув насквозь на бодрящем ветерке аэродрома, а потом в открытой кабине, Анатолий Васильевич буквально с ног валился. Но казалось, что он не ведает усталости. Ведь настоящий казак прежде умрет, чем покажет слабость.
С Арктикой он знакомился не по учебнику. Он уже знал, что такое запуск мотора в мороз, когда нет обогревателя. Знал, как замерзает масло в трубопроводе. Знал, как трудно увидеть с воздуха неровности «аэродрома», особенно в светлые сумерки, когда нет теней. И каждый день приносил ему все новый и новый урок жизни на Севере. Каждый из которых мог бы стать и последним в его жизни.
– Да, с такой матчастью не соскучишься, – улыбался Ляпидевский и принимался отдирать со щек отмороженную кожу. – Я думаю, нам надо сшить на маслобаки тулупы из оленьего меха. А трубопроводы чем-то утеплить. Чем?
Анатолий Васильевич и его механик задумались: в самом деле, чем?
Положение «Челюскина» делалось день ото дня все более тяжелым. Ляпидевскому было предписано при первой же возможности отыскать судно и забрать на материк женщин и детей.
Были уже совершены десятки полетов в сторону моря, но всякий раз приходилось возвращаться или из-за плохой погоды, или из-за отказа техники, которая никак не хотела работать на морозе.
Ляпидевский злился. Более того, он считал свое бездействие преступным. Однажды он так и сказал своему механику Руновскому:
– Я чувствую себя преступником оттого, что не могу долететь до «Челюскина».
– Но ведь мы делаем все, что в наших силах, и даже сверх того, – возразил тот.
– Оно, конечно, так. Наши обмороженные лики служат как бы доказательством нашей деятельности. Но все это, в сущности, никого не интересует. От нас ждут не «напряжения всех сил», а дела. Как заставить матчасть работать бесперебойно? И светлого времени в обрез. В темноте при минус сорока пока еще никто не садился на лед. Даже сам Молоков, Галышев и Водопьянов.
– Может быть, челюскинцы пробьются?
– Может, и пробьются. Но нам надо быть наготове. Хорошо бы перебраться к ним поближе, в поселок Уэлен.
– Хорошо бы, – согласился механик. – Пойдем тогда на матчасть ероплана гайки крутить.
Наконец, удалось вылететь в Уэлен.
Это был первый удачный полет.
Как только утихло – стоял прозрачный день, моторы удалось запустить засветло – Ляпидевский вылетел из Уэлена в район «Челюскина». И тут вспомнил, что оставил свою меховую самодельную маску на культбазе. Терять драгоценное, столь ограниченное светлое время не хотелось, и он решил лететь без маски.
Холодный воздух обжигал лицо, ресницы покрылись инеем даже под очками. Ляпидевский моргал, таращил глаза и почти ничего не видел: ресницы склеивались и даже как будто поскрипывали. Он приложил к лицу перчатку, но ее тут же вырвало набегающим потоком и унесло за борт. Голыми руками особенно не поработаешь, но Ляпидевский решил лететь дальше. И полетел бы, да левый мотор стал давать перебои.
Стиснув зубы, проклиная мороз, Арктику, климат, авиационную технику и собственную забывчивость, он повел самолет назад в «аэропорт» вылета.
Но еще большими проклятьями он разразился из-за баллонов, в которых кончился сжатый воздух, необходимый для запуска двигателей. Без сжатого воздуха самолеты превращались в музейные экспонаты.
Ляпидевский пошел к врачу, попросил забинтовать обмороженное и уже начавшее кровоточить лицо и в тот же день поехал на собаках назад, в бухту Провидения, где еще были баллоны. Правильнее скажем, не поехал, а его повезли.
Вот тут-то, в пути, он впервые по-настоящему познакомился и подружился с чукчами.
Он окончательно разболелся в пути, что не мешало ему, однако, сверять свой маршрут с летной картой и делать отметки: «Здесь надо иметь в виду сопку», «Тут нет ни единого места, где можно было бы не разбиться при посадке».
Даже будучи больным, он соблюдал все правила хорошего тона, принятые на Чукотке. Промерзнув насквозь и едва не теряя сознание, он не стремился тотчас в тепло, а начинал беседу у входа в ярангу – так принято. Разумеется, трудно назвать разговором те несколько русских и английских слов (береговые чукчи умеют объясняться по-английски) и рисунки на снежном насте, сделанные ножом. И в то время, пока шла беседа, Ляпидевский слышал, как внутри жилища спешно наводили порядок: что-то убирали, подметали пол.
Понимая, что в яранге уже готовы к приему гостя, он нырял под рэтэм – покрышку. Хозяева выражали высшую степень удивления и радости, хотя прекрасно знали, что гость у яранги, и произносили свое приветствие:
– Еттык! (Пришел!)
И Ляпидевский отвечал на чистейшем чукотском языке:
– И-и. (Да.)
Со временем он оценил чукотское приветствие, когда первым здоровается не гость, а хозяин: ведь гость может растеряться и не сразу сообразить, что сказать. И тут хозяин или хозяйка произносят свое «еттык» с оттенком доброжелательности и радости.
При рукопожатии следовало неизменное: «Каккумэй!» – возглас радостного удивления. Надо думать, что удивление всегда бывало искренним, так как не каждый день увидишь нового человека да еще и с забинтованным лицом.
Собачий поход длился неделю.
В бухте Провидения, несмотря на усталость и болезнь, Ляпидевский приступил сразу же к подготовке второго самолета. Он рассчитывал перегнать и этот самолет поближе к «Челюскину» и на нем же перевезти в Уэлен баллоны.
В пустой железной бочке из-под бензина он вырубил зубилом квадратную дыру. Этот квадратный кусок пошел на дверцу. Дверцу навесил на петли, отодранные от чемодана. На полученную таким образом «печь» поставил другую бочку, а в верхнюю бочку положил лед. Так был сооружен титан для подогрева воды. Мотор на АНТ-4 был, к сожалению, водяного охлаждения и требовал воды, которую на Чукотке зимой добыть не так уж и просто.
И тут замело. И замело по-настоящему. На Чукотке может дуть неделю, две, три. И с этим уж ничего не поделаешь: надо ждать.
А «Челюскин» в это время двигался на восток.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
А ПОЛОЖЕНИЕ «Челюскина» было не из самых лучших. То есть положение было таким, что только чудо могло освободить судно, намертво впаянное в ледяные поля.
Стоял мороз, завывала метель. А в стороне шел битый лед, как по реке в ледоход, и в нужном направлении – на восток. Нет, челюскинцы не надеялись на чудо. Авралы следовали один за другим. Лед кололи, взрывали, но на освободившееся место с шипением лезла новая льдина. В этом упорстве бездушной стихии было что-то гнетущее.
Но чудо тем не менее наступило: ветер изменил направление, ледяные поля растрескались, появились широкие разводья, а на разводья неведомо откуда налетело множество водоплавающей птицы, которая успела наголодаться за несколько дней пурги. Судно обрело способность двигаться самостоятельно. Впрочем, ненадолго.
А ночью вымотанной до предела команде «Челюскина» Арктика подарила редкое северное сияние.
Огненный мост в виде арки, увешанный разноцветными полотнищами, дрожал, словно отражение в неспокойной воде. Складки полотнищ перекатывались взад-вперед, как будто их беспокоил ветер, и меняли цвета от красного, желтого, зеленого до фиолетового. Но вот мост разнялся посередине, и одна половина приподнялась. Под аркой возникла розовая полоса, составленная из вертикальных штрихов. Все это буйство и игра света длились несколько часов. Временами через небо проносились огненные стрелы, вспыхивали искры и появлялись широкие лучи. Такие лучи могли бы получаться, если б в прожектор ставили по очереди то зеленые, то красные, то фиолетовые стекла.
Казалось, небо звучало. Все вслушивались, как завороженные, в эти звуки неба, из которых и складывалась эта яркая, прекрасная и жутковатая тишина.
Небо отражалось в торосах, иногда вспыхивало в иллюминаторах, судовом колоколе и сосульках.
Судно, вмерзшее в лед, двигалось. Не своим, правда, ходом, но в нужном для челюскинцев направлении – на восток.
Из телеграмм, отправляемых с борта «Челюскина» в Москву:
«Челюскин» впаян в колоссальную льдину площадью до трех с половиной тысяч квадратных миль… Льдина дрейфует по воле ветра и течений. До двадцать шестого октября дрейф нам не благоприятствовал: уносил… на норд-вест. Двадцать шестого дрейф сменился на зюйд-ост… Вчера, тридцать первого октября, наша льдина… вошла в Берингов пролив. Мы у цели. На «Челюскине» праздник!»
«Первого ноября «Челюскин» пересек мередиан мыса Дежнёва… На горизонте открытые воды Тихого океана. Севморпуть фактически пройден за одну навигацию, но не ледоколом, как «Сибиряков», а судном полуледокольного типа, коммерчески вполне рентабельным. Завтра-послезавтра челюскинцы смогут официально рапортовать партии и правительству о выполнении возложенного на них задания… Ближайшая боевая задача «Челюскина» – освободиться из тисков льдины. Пятые сутки вся деятельность на корабле подчинена этой важнейшей задаче. Воронин не спит ночей, не сходит с мостика… За пять дней титанической работы Воронин провел судно вперед на четыреста метров… Утром третьего ноября возобновились сильные нордовые ветры… Сильные ветры буквально проталкивают льдину сквозь самое узкое место пролива… После полудня – даже для невооруженного глаза – впереди заблестела на солнце чистая вода – это вода Тихого океана. На чистой воде нашу льдину очень скоро разрушит волною и ветром… С палубы…. виден яркий берег, уходящий на юго-запад. Это тихоокеанский берег Чукотского полуострова. Пустынные скалы неудержимо притягивают взгляды и мысли. Они, эти скалы, воплощают для нас конец пути, выполнение задания партии и правительства, окончательное решение задачи Северного морского пути».
Итак, был прекрасный солнечный день 4 ноября. Стояла розовая дымка. Прямо по курсу был Тихий океан и чистая вода. На галечной косе расположился небольшой поселок Уэлен, а напротив – горы Аляски. Казалось, что они отлиты из фиолетового стекла. Позади остались тысячи миль пути. Поход заканчивали сильные, закаленные, хотя и несколько уставшие люди – челюскинцы. Судно, правда, не имело собственного хода и, вмерзшее в лед, двигалось кормой вперед к Тихому океану. Вот-вот ледовые поля должны были проскочить через самое узкое место пролива. Это означало бы победу. Настроение у всех было праздничным.
– Это даже как-то неприлично – идти задом, – пошутил кто-то. – Тихий океан может обидеться и не принять.
Завхозу Могилевичу сказали:
– Зря ты убил первого медведя, вот Арктика и не выпускает нас.
Стоял такой штиль, что дым папиросы неподвижно висел в воздухе.
Надо было каким-то образом освободиться от «ледовой петли». Оставалось пройти только четверть мили. Правда, через лед.
И тут был объявлен аврал, по сравнению с которым все предыдущие могли показаться детской забавой. По крайней мере, так считали сами челюскинцы.
Капитан, глядя на сверкающие воды Тихого океана, ворчал:
– Близок локоток, да не укусишь.
На лед вышли все, включая женщин и камбузную команду. Даже двухлетняя Алла Буйко, которая за время похода научилась ходить и говорить, вышла на лед со своей лопаткой и приняла участие в общем аврале. Ее отец, Петр Буйко, так и не стал «губернатором острова»: Врангель оказался неприступным для «Челюскина».
Впрочем, один участник похода не принимал участия в аврале – это Карина Васильева. Она лежала в своей корзине из-под огурцов и могла слышать взрывы, что ее вряд ли особенно волновало.
Петр Буйко, долбя твердый, как камень, лед, зорко следил, как бы его помощница не оказалась в зоне взрыва.
На лед спускались тонны аммонала, и долбились дыры в шахматном порядке в направлении Тихого океана. Все без исключения дрались за свое освобождение, хотя в душе и понимали, что это напрасный труд. И последняя надежда. Гремели взрывы, сыпался ледяной град, а льдина даже не вздрагивала. Дыры от взрывов располагались довольно близко друг от друга, но трещин между ними не появлялось.
Во время одного взрыва вылетели два иллюминатора на судне, старый морской волк Гудин чуть не заплакал и отогнал взрывников подальше. И высказал все, что о них думает.
Пошли разговоры о том, что следовало бы вызвать на помощь ледорез «Литке», который находился в бухте Провидения. Ведь было ясно, что льдину не одолеть в одиночку. О чем думает капитан? Может, ему при виде сверкающей чешуи Тихого океана вдруг изменило чувство реального? А может, капитан не пожелал разделить славу с «Литке»?
И тут начался дрейф в обратную сторону.
5 ноября дул северный ветер, а льдина двигалась в противоположную сторону. Это казалось невероятным.
Скорость дрейфа достигала сорока метров в минуту. 6 ноября скорость достигала уже восьмидесяти трех метров в минуту. С 7-го по 9-е дули ветры разной силы и различных румбов, а дрейф сохранял неизменно норд-остовое направление.
«Челюскина» несло уже мимо берегов Аляски, в ту область Арктики, которая на карте обозначалась как «полюс неизвестности». В неумолимости движения было что-то гнетущее, хотя пока еще никто не терял надежды на выход в Тихий океан.
Во время этого сумасшедшего дрейфа льдина значительно разрушилась. Кромка чистой воды отстояла в пяти милях. Капитан полагал, что ближайший нордовый ветер разрушит льдину, как это было у Колючина.
Пока ни у кого не было предчувствия гибели. Поэтому праздник семнадцатой годовщины Октябрьской революции прошел весело. А то, что судно вытолкнуло из пролива, словно пробку, воспринималось всеми как очередное приключение. Сколько уж их было!
Только «наука» не была настроена благодушно. Хмызников и Гаккель понимали, что перед судном встала угроза вынужденной зимовки не в какой-нибудь тихой бухте, а в дрейфующих льдах. В довершение всего ударил крепкий мороз, и разводья сковало льдом. Это, наконец, подействовало на всех отрезвляюще.
В каюте Шмидта собрался командный состав. Выло устроено совещание. Следовало решить, надо ли вызывать «Литке» или ждать изменения ледовой обстановки.
Капитан был мрачен, как никогда. Он словно чувствовал себя в чем-то виноватым.
– Единственное, что могло бы разрушить льдину, – сказал ои, – это волны. А волн нет. Значит, ждать. Но когда глянешь на календарь, то скажешь: десятое ноября – ждать поздно.
О «Литке» он не сказал ни слова.
– Отчего возник дрейф? – спросил кто-то, обращаясь к «науке» Гаккелю. – Почему нас несло против ветра?
– В районе Японии сильнейший тайфун, – нехотя отозвался тот. – Тихий океан как бы переполнился, вода перетекала в Чукотское море.
И тут заговорил Хмызников. Ему показалось, что капитан топчется вокруг да около, а о главном умалчивает. А молчать тут нельзя.
– Теперь нас тащит мощное течение, – сказал Хмызников, – давно зарегистрированное наукой. У мыса Хоп течение разделяется на две ветки: одна идет к островам Геральда и Врангеля, другая направляется к мысу Барроу. Но о дальнейшем ее направлении в науке данных нет. В этом смысле дрейф «Челюскина», несомненно, мог бы дать науке ценные сведения. Это одна сторона дела. Другая сторона – на спокойную зимовку и благополучный выход изо льдов весной рассчитывать не приходится. Надеяться на то, что льдину разломает, также не следует. Если мы окажемся вовлеченными в общеполярный дрейф, положение станет катастрофическим… Через несколько лет нас, то есть то, что от нас останется, вынесет где-нибудь у берегов Гренландии, как остатки погибшей экспедиции американца Де-Лонга. На борту – женщины, дети. Единственная надежда пока на «Литке».
Наступило молчание.
– Владимир Иванович, – обратились к капитану, – сколько дней потребуется «Литке» выколоть нас из льдины?
– Не знаю, – ответил капитан, – кабы прежний был «Литке», я б знал ему цену. Прежнему – час работы. Но теперь он сам в аварийном состоянии. Если б не круглосуточная работа насосов, откачивающих воду, он бы давно утонул.
Слово взял старший механик и доложил о состоянии судна:
– Вмятины на скулах корпуса и корме. В носовой части пробоина. Много шпангоутов сломано, еще больше помято. Скручен руль. В переднем отсеке течь. В отсеке номер два по левому борту воды сто восемьдесят сантиметров. Надо срочно выкачивать весь водяной балласт, тогда судно станет легче. Однако мало-мальски серьезного сжатия льда «Челюскин» не выдержит. Он на это не рассчитан. Ему в самый раз плавать по южным морям.
Совещание закончилось. Отто Юльевич сел за телеграмму на «Литке».
После совещания все вышли на палубу. Свет из иллюминаторов падал на лед и освещал торосы. Вдали мерцал торос в виде гриба, который использовался в качестве фотоателье – там снимались на память. К «ателье» шла хорошо заметная в сумраке тропинка.
Отто Юльевич отправил капитану «Литке» Бочеку телеграмму:
«Зная о трудной работе, проводимой «Литке», имеющихся повреждениях, мы с тяжелой душой посылаем эту телеграмму, однако обстановка в данный момент более благоприятна для подхода «Литке» к нам, чем когда бы то ни было… Мы надеемся, что «Литке» сломает льдину, в которую вмерз «Челюскин», при совместной работе «Челюскина» и взрывов. В крайнем случае, если разломать не удастся, мы перебросим по льду на «Литке» большую часть людей для передачи на «Смоленск», что значительно облегчило бы нам зимовку. При необходимости «Челюскин» может дать «Литке» уголь. Просим вашего ответа. Шмидт. Воронин. 10 ноября».

Ледокол «Челюскин».

Ленинградцы пришли проводить челюскинцев в трудный поход Северным морским путем во Владивосток.

Трудящиеся датской столицы приветствуют участников похода.

Плотный лед мешает продвижению «Челюскина».

Команда пытается очистить пространство около носа судна.

Льды крепко обступили «Челюскин» со всех сторон.

Во время похода челюскинцам не раз приходилось участвовать в авралах. Летчик М. С. Бабушкин на разгрузке угля.

Началось сжатие льда. Челюскинцы приступили к выгрузке всех аварийных запасов.

Капитан «Челюскина» Владимир Иванович Воронин – один ил опытнейших полярных капитанов.

Радисту Эрнсту Кренкелю удалось еще во время гибели «Челюскина» связаться с радиостанцией в Уэлене.

Радистка Уэлена Людмила Шрадер поддерживала бесперебойную связь с лагерем Шмидта.

В первые дни на льдине.

Там, где раньше стоял «Челюскин», всплыли строительные материалы и топливо.

Вытащенные из полыньи бревна и доски пошли на строительство барака.

Продовольствие, спасенное челюскинцами, было сложено в одно место.

Для того чтобы жить, приходилось все делать своими руками без обычных материалов и инструмента. Топливная бочка была приспособлена для выпечки лепешек.

Одновременно с бараком построили в лагере кухню.
Ледокол «Литке» во главе со своим умным и талантливым капитаном А. П. Бочеком закончил свое весьма нелегкое плавание – провел суда от Чукотки до Колымы, вернулся назад и, разумеется, не мог не пострадать. Он держался на плаву только благодаря беспрерывной работе всех помп, откачивающих воду. К тому же у него были повреждены винты и руль.
«Литке» вышел из бухты Провидения 12 ноября.
Задним умом все крепки. Кое-кто из команды считал, что надо было вызывать подмогу гораздо раньше, еще на подходе к Берингову проливу.
14 ноября «Литке» находился в тридцати пяти милях от «Челюскина».
Составлялись списки тех, кому зимовка совсем не обязательна. Это в первую очередь женщины, дети, плотники, часть команды. Родители Карины Васильевой и Аллы Буйко готовили санки и шили заплечные мешки, в которых можно было бы переносить своих помощниц при походе через торосы.
Доктор Никитин составил список тех, кто по состоянию здоровья не мог остаться на зимовку. В этот «черный» список попал и «наука» Гаккель.
Интеллигентный, всегда выдержанный, Яков Яковлевич пришел в бешенство.
– Что же это такое получается! – накинулся он на доктора. – От угольных авралов вы меня по состоянию здоровья не освобождали, а теперь у меня оказалось больное сердце? Этот номер не пройдет!
И он побежал к Шмидту жаловаться.
На судне происходили сборы в путь. Но сколько отъезжающие ни вглядывались в горизонт, даже намека на дым «Литке» не было видно. Отправлять по дрейфующим льдам группу в сорок человек никто не рискнул. Вариант пешего перехода отпал сам собой.
Тем временем Бабушкин готовил самолет для ледовой разведки. Колеса с амфибии были сняты, и на оси поставлены лыжи. Все свободные от вахты готовили взлетную полосу – сшибали неровности.
Бабушкин понимал, что сейчас вся надежда на него. Только с воздуха можно узнать состояние льдов и отыскать «Литке».
Через два дня аэродром был готов.
Бабушкин сказал Воронину:
– Сперва я сделаю контрольный облет, а потом уж мы полетим вместе.
Затарахтел мотор, начался взлет. Но где-то на середине полосы гул мотора изменил свой тон, раздалось чихание и стрельба, обороты упали. Лыжа зацепилась за торос и отлетела в сторону. Аэропланчик беззвучно ударился о следующий торос, и только через секунду послышался удар и звук раскалываемой сухой лучины. Шмидт побледнел и отвернулся.
Когда челюскинцы подбежали к месту падения аэроплана, Бабушкин сидел в кабине искореженной машины и, казалось, о чем-то думал.
– Жив! Ну, слава богу! – выдохнул механик Валавин.
Бабушкин медленно вылез из кабины.
– Что случилось, Михаил Сергеевич? – спросил механик.
– Техника подвела, обороты срезало на взлете, – отозвался тот и медленно пошел к «Челюскину».
Итак, надежды на помощь авиации рухнули вместе с аэропланчиком.
17 ноября «Челюскин» принял правительственную телеграмму. Зампред Совнаркома В. В. Куйбышев официально передавал «Литке» в полное распоряжение Шмидта. А через некоторое время капитан Бочек передал Шмидту следующую телеграмму:
«Приветствую распоряжение… Куйбышева. Для себя считаю честью быть в вашем распоряжении. Прошу вашего срочного согласия на немедленный вывод «Литке» из льдов. В течение нескольких часов с большими усилиями «Литке» пробирается на ост в надежде встретить открытую воду. Быстрое образование молодого льда, его торошение создали угрозу невыхода «Литке» из льдов, что приведет к неминуемой катастрофе. Горячо и искренне стремились помочь «Челюскину». Опасаемся, что сами скоро будем в положении бедствующего судна. Бочек».
Положение Шмидта было сложным. Теперь на нем лежала ответственность за два судна.
В этот же день произошло очередное совещание командного состава.
Капитан, казалось, постарел на несколько лет. Все выглядели также не слишком хорошо. Только Шмидта не покидало его обычное спокойствие и уверенность в благополучном исходе экспедиции. По крайней мере, так всем казалось.