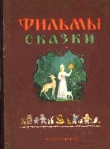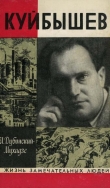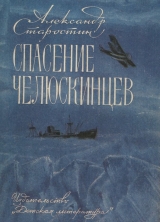
Текст книги "Спасение челюскинцев"
Автор книги: Александр Старостин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПОДХОДИЛИ к берегам Кольской губы. Стояла светлая, мглистая, неотличимая от дня ночь. Холодный воздух заволакивал голубизной и серебром скалы, кое-где побелевшие от птичьего помета. Крики чаек заглушали все судовые звуки и удары ярко-зеленых волн о борт.
Воронин заметно повеселел, увидев родные места, его речь сделалась подчеркнуто поморской – плавной и окающей. Когда его спросили о поморах, он заговорил несколько нараспев:
– Поморы, правду сказать, народ отважный, отчаянный. Диву даешься, как на этаких своих посудинках выходят они в море. И то сказать: редкий из них в беде не побывал, каждый горя хватил достаточно и смерти в глаза поглядел… Отцы плавали на промысел рыбы и зверя, деды плавали и, слава богу, сыты бывали. А смерть каждому на роду написана своя. Потому и бояться нечего.
Шмидт улыбнулся:
– Как это так вы диву даетесь? Ведь вы сами помор.
Воронин смутился.
Разукрашенный флагами расцвечивания, «Челюскин» вошел в Мурманск – последний город на пути следования в Арктику.
Воронин думал о том, что «Сибиряков» 12 августа уже успел открыть новый остров у Северной Земли, а тут, если и повезет, раньше 10 числа не выйдешь из Мурманска. Сроки, пожалуй, все вышли.
В Мурманске прибыло и пополнение: плотницкая артель – народ все крепкогрудый, отборный – и «летное подразделение» – сорокалетний пилот Бабушкин, рослый, статный, с выправкой гвардейского офицера, и механик Валавин, здоровый и веселый малый.
Тут же на борт поступили быки и йоркширские поросята – будущие жители острова Врангеля. Причем быки не хотели идти на судно своим ходом, и их приходилось, зацепив широкими лентами под живот, поднимать на борт судовыми подъемными кранами. Ну и реву же было!
Началась авральная круглосуточная дозагрузка «Челюскина». Плотники в спешном порядке сооружали стойла на носовой палубе.
Михаилу Сергеевичу Бабушкину, старому приятелю Воронина, пароход понравился, а каюта, отведенная командиру «летного подразделения», привела в восторг – уютно, просторно, пружинная койка, шкаф, письменный стол с лампой, шерстяные с тканым узором темно-зеленые занавески. Такого Бабушкин никогда и не видывал, он привык ютиться в тесноватых и темных закоулках зверобойных судов, провонявших насквозь тошнотворным запахом ворвани и рыбы.
– Не красна изба углами – красна пирогами, – проворчал Воронин в ответ на его восторги.
Бабушкин горячо возразил:
– Доколе ж мы будем начисто пренебрегать внутренним устройством судна? Безопасность судна – это хорошо. Но важен еще и комфорт, чтоб можно было иногда позволить себе углубиться в собственные думы, не опасаясь, что тебе на голову свалится какой-нибудь предмет. Безопасность судна – это, конечно, главное, но не надо забывать и об удобствах.
Воронин в ответ снисходительно улыбнулся: он не был уверен в безопасности судна.
Бабушкин решил познакомиться со своим гидропланом поближе и сделать контрольный облет. Но несколько оскандалился: неожиданным порывом ветра крошечный гидроплан бросило в сторону, на баржу, – деревянный пропеллер разлетелся в щепки.
Что же из себя представляла летающая лодка «Ш-2», созданная молодым конструктором Вадимом Борисовичем Шавровым?
Это был трехместный полутораплан с мотором «М-11» мощностью в сто лошадиных сил и скоростью 80 километров в час. Верхнее крыло можно было отсоединить от центроплана и полукрылья завести назад, как у мухи. Это делалось для удобства хранения. На нижнем, маленьком крыле, имелись поплавки, которые могли удержать аэроплан на плаву. В разобранном виде аэропланчик занимал места не больше, чем шлюпка.
Между прочим, первую свою лодку «Ш-1» Шавров сделал У себя в комнате. Она была в единственном экземпляре. И разбил ее при испытании в воздухе молодой, никому еще не известный летчик Валерий Чкалов. Он зацепился крылом за семафор на железной дороге.
Итак, летающую лодку подцепили судовым подъемным краном и установили на шлюпочной палубе среди шлюпок.
Воронин и Шмидт поглядывали, как швартуется гидроплан. Когда все было закончено и к ним подошел Бабушкин, Отто Юльевич сказал:
– Вот теперь у вас, Владимир Иванович, появилось как бы второе зрение.
– У нас уже было «второе зрение» на «Саше», – так бывшие сибиряковцы называли «Александра Сибирякова».
Бабушкин, памятуя свой неудачный полет, весь внутренне напрягся и, стараясь сохранить внешнее спокойствие, подумал: «Погодите, товарищ капитан, я вам еще пригожусь».
– Что-то, Михаил Сергеевич, – сказал Воронин, – птаха у тебя какая-то несерьезная, ровно воробей. Ее, боюсь, в море сдует.
– Ничего, – отозвался Бабушкин, – мы ее закрепили нормально. Ее не сдует. Если, конечно, не вырвет во время шторма болты на вашем роскошном судне.
Воронин слегка поморщился.
– Роскошном! – проворчал он.
Заметив его гримасу, Шмидт сказал:
– Морской поход в любом случае – риск, независимо от корабля. Корабли все хороши, но они не совсем такие, какими их хотели бы видеть капитаны… А самолет нам может пригодиться. Вот увидите.
Воронин промолчал, оставаясь при своем мнении, что авиация – дело весьма ненадежное. Особенно при низких температурах.
Впрочем, он в этом был не одинок. Великий Амундсен, «рыцарь двадцатого века», которому приходилось летать в Арктику одним из первых[3]3
Первым был русский летчик Я. И. Нагурский. В 1914 году он занимался поисками с воздуха пропавших экспедиций Седова и Брусилова.
[Закрыть], в 1925 году сказал:
«Небольшая течь или ослабленная гайка ведет к вынужденной посадке, а она более чем рискованна во льдах Арктики… В случае же тумана такая посадка – верная смерть».
Такого же мнения придерживались все крупнейшие полярники мира.
Знакомство Бабушкина с Ворониным состоялось так. Однажды рыболовецкую артель оторвало от берега на ледяном припае и носило по морю несколько дней. Бабушкин разыскал льдину с воздуха и вывел на нее ледокол «Седов», капитаном которого был Воронин. Потом они вместе участвовали в спасении итальянцев и в поисках исчезнувшего самолета, на борту которого был Амундсен.
И Бабушкин и Воронин были похожи: оба прочны, добротны, добродушны, оба умели в трудную минуту сохранять чувство юмора.
Итак, Бабушкин имел великолепную выправку. Нет, он не служил в гвардии до революции. Он служил в авиационных частях, где шагистика никогда не почиталась высшей воинской доблестью. Впрочем, до революции офицеры – а Бабушкин дослужился до прапорщика – бывали так вымуштрованы, что военного человека можно было узнать и в рогожке.
На заре авиации, когда начинал Бабушкин, полеты требовали редчайшего мужества и высоты духа. К примеру, в 1910 году на каждые тридцать два километра полета приходилась одна человеческая жертва. Во время войны количество жертв, конечно, возрастало.
Аэроплан того времени представлял собой нечто среднее между этажеркой и птичьей клеткой. Посреди расчалок, растяжек и подкосов между крыльями находилось сиденье, похожее на стул с низкой спинкой. Справа от сиденья – ручка управления. Французские летчики называли ее «ручкой метлы», а себя приравнивали к ведьмам, которые, как известно, всем видам транспорта предпочитают помело. Ноги летчика упирались в планку, посреди которой болт – это руль направления. За спиной тарахтел мотор. Пилот сидел как бы в пустоте, открытый всем ветрам, а далеко внизу проплывала земля.
10 августа в 4 часа 30 минут утра после девяти суток работы всего экспедиционного состава, независимо от положения и возраста, «Челюскин» поднял, наконец, якоря.
На стоящих у причала судах были вывешены флажные сигналы: «Желаем благополучного плавания и скорого возвращения!» «Челюскин» ответил: «Благодарю!»
Вот так описал начало похода журналист, участник экспедиции:
«Рассекая стальным форштевнем[4]4
Форштевень – передняя часть судового набора, образующая нос корабля.
[Закрыть] изумрудно-зеленые волны моря Баренца, точно по паркету, мчится ледокол к выходу в Ледовитый океан.
В густой нависшей мгле, время от времени оглашая воздух хриплым ревом гудка, пробирается наш ледокол к Канину Носу. Кругом, куда ни кинешь взор, – вода, бесконечные разливы тумана.
Завтра утром будем также рассекать синие волны полярного моря…»
А на вторые сутки по выходе из Мурманска на судне был обнаружен новый пассажир. Старпом Гудин, осматривая трюмы, поймал «зайца», который оказался матросом рыболовного тральщика.
Будучи представленным пред грозны очи капитана, он, переминаясь с ноги на ногу, с виноватой улыбкой на чумазом лице затараторил:
– Уж больно охота в Арктику. Я ведь знал, что у вас полный комплект, на судно меня б не приняли… И вот я решил…
Воронин, который терпеть не мог, когда за него «решают», сказал:
– Чтоб даром хлеб не ел – ступай в трюм. Будешь работать угольщиком.
– Есть! Идти в трюм! – бодро отозвался «заяц».
Капитан по-человечески ничего не имел против разного рода «романтиков моря». Тем более, данный заяц был, видимо, стойким парнем, если сумел провести двое суток в трюме, в темноте, среди ящиков и крыс. И не вылез бы, если б его не поймали. Но нельзя было допустить на судне и разгильдяйства. О какой дисциплине может идти речь, если в поход отправляется человек не проверенный, этакий кот в мешке? Экспедиция – это не увлекательная и увеселительная прогулка за город.
– Но знай, – добавил капитан, – с первым же встречным пароходом отправлю назад.
Сто тринадцатый пассажир с трудом подавил улыбку: он считал, что встречного парохода не будет.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ИТАК, «Челюскин» взял курс на Новую Землю. На борту 113 человек: 53 – экипаж, 29 – экспедиционный состав, 18 – зимовщики Врангеля, 12 – строители, 1 – «заяц».
«Заяц» вполне освоился на судне и, входя в кают-компанию несколько разболтанной, как ему самому казалось, «морской» походкой, принимался стучать по тарелке и требовать:
– Эй, кто там дневальный! Давай-ка пошамать кочегару!
Работы по креплению грузов «по-походному», чтоб во время шторма не произошло нежелательного перемещения грузов и соответственно нежелательного крена судна, были, наконец, закончены.
Команда, свободная от вахты, теперь могла немножко и отдохнуть.
На верхнем открытом мостике вахтенный помощник передавал команды рулевому:
– Три градуса лево! На румбе! Так держать!
Каждые четыре часа били склянки и сменялись вахты. «Склянки», то есть стеклянные песочные часы, на флоте уже давно не в употреблении, но вахтенный матрос по-прежнему отбивает в судовой колокол положенное число ударов через каждые четыре часа – «бьет склянки».
Плотники устраивали кормушки для бычков и поросят и вспоминали свое крестьянское прошлое.
Занятые на вахте наводили чистоту и порядок. Впрочем, судовой работы никогда не переделать.
На горизонте время от времени проходили рыболовные тральщики. Иногда на поверхности, рассекая волны, показывался высокий гребень косатки или из-под самого носа, громко хлопая крыльями об воду, кидалась наутек отяжелевшая кайра, но, так и не сумев оторваться от воды, ныряла, воображая, наверное, что на нее охотятся.
Когда дела идут более или менее гладко, все свободные от вахты или научных работ развлекаются кто как может. Иногда отыскивается объект для розыгрышей: чаще всего это бывает товарищ, не понимающий шуток.
На сей раз изнывающие от безделья журналисты – этим действительно пока нечего было делать – придумали, а все с восторгом подхватили идею «крещения» новичков при переходе через Полярный круг.
Существовала, конечно, у моряков традиция – устраивать при пересечении экватора праздник Нептуна и окунать новичков в воду. Тут же, у Полярного круга, купание несколько осложнялось.
Жертву розыгрыша, товарища Н., подвели к борту, с которого свисал тонкий канатик – фалинь, и предложили самому убедиться в его крепости.
– Попробуй, какой фалинь, крепкий, – сказали ему. – Когда ты, значит, спрыгнешь за борт, мы тебя перетянем под судном и вытащим с другого борта. И тут ты будешь уже самым настоящим полярником.
Товарищ Н. подергал фалинь, глянул за борт в изумрудные волны и вдруг с необыкновенной резвостью скатился по трапу и заперся в своей каюте.
Шутники принялись колотить в запертую дверь и требовать:
– Вылезай! Нельзя нарушать святых морских традиций.
– Убирайтесь! Креститься отказываюсь! – огрызнулся товарищ Н. из-за двери. – Не буду, пока не прикажет Отто Юльевич.
Шмидт оказался на высоте положения и сам принял участие в шутке.
– Ну что вы боитесь? – сказал он через дверь, еле сдерживая смех. – Соблюдайте уж, пожалуйста, морские традиции.
А надо сказать, что на судне все без исключения, даже плотники, чувствовали себя моряками, щеголяли в тельняшках, употребляли, часто не к месту, морские словечки и соблюдали все морские традиции и суеверия.
– Хорошо, Отто Юльевич, я иду, – сказал товарищ Н. упавшим голосом, раскрывая дверь.
Шутники почтительно расступились перед ним. Тот решительно подошел к борту и так лихо перекинул ногу через фальшборт, что Отто Юльевич сообразил: товарищ Н. шутить не собирается. И серьезным тоном приказал:
– Спускание за борт на сей раз отменяю!
Товарища Н. облили забортной водой и произвели в полярники.
…Показались скалистые заснеженные берега Новой Земли.
У полярной станции на Новой Земле было встречено торговое судно «Аркос».
Машина на «Челюскине» замерла, наступила тишина, и только волны лениво шлепались о борт.
Воронин обратился к капитану «Аркоса»:
– Возьмите у меня одного пассажира до Мурманска.
– Не могу, Владимир Иванович.
– Что так?
– У нас нет подходящего места. Нет комфорта.
– Ничего. Наш пассажир – человек непривередливый. Он отдельной каюты не требует.
Челюскинцы развеселились, понимая, о ком идет речь.
– Ну, если ваш пассажир не будет в обиде…
«Заяц», белобрысый молодой человек, ловко перекинулся через борт и сошел по штормтрапу в шлюпку. За ним спустили в мешочке консервы и хлеб.
– До свидания, товарищи! – сказал «заяц». – Еще пожалеете, что ссадили меня.
– Из-за этих романтиков теряем драгоценное время, – проворчал капитан.
– Зря вы так против романтики, – улыбнулся Шмидт. – С нее начинаются все великие дела.
Воронин задумался.
– А что такое романтика?
Шмидт помолчал. Потом сказал:
– Тут точного определения, пожалуй, не отыщешь. Писатель Жуковский говорил так: «Романтика – это душа». Если вкладывать в свое дело душу – это и есть романтика. «Заяц» наш, возможно, очень неплохой малый.
– Я ничего не имею против его романтических устремлений. Но пусть он сперва заслужит право участвовать в таком походе.
Некоторое время шли в узком проливе при полном спокойствии воды. С гор, кажущихся издали фиолетовыми, скатывались клубящиеся облака. Ход судна казался быстрым из-за близости берегов и тишины.
Журналисты ждали встречи со льдами, чтоб послать очередное сообщение в свои газеты.
У Белужьей губы показался характерный силуэт «Красина» и стоящий рядом с ним транспорт.
Не бросая хода, суда поприветствовали друг друга, и «Челюскин» прошел вперед, так как имел большую скорость.
Впереди раскрывались просторы Карского моря. Вдали, на темной линии горизонта, появилась белая полоса – льды.
Первые ледяные поля, сильно подтаявшие и основательно поклеванные солнечными лучами, «Челюскин» дробил так легко, что судовой врач сказал:
– Не так страшен черт… Кто говорил, что «Челюскин» не годится для борьбы со льдами?
Кое-кто из знатоков не без удовольствия отметил, что битый лед не тянет под судно, а разбрасывает в стороны.
И только Воронин проворчал себе под нос:
– Это не льды, а пена. А раскидывает их оттого, что есть свободное пространство. Настоящий лед впереди.
Днем капитан потянул носом и сказал:
– Через восемь часов попадем в сильный туман… Это хорошо.
– Как вы определили? – спросил Бабушкин, который оказался на мостике.
– Неужели не чувствуете, как спереди по курсу тянет сыростью?
Те товарищи, которые слышали слова капитана, стали принюхиваться.
– А чего ж хорошего – туман? Ведь это как будто плохо для судовождения.
– Для судовождения плохо. А для ледокола в самый раз. Туман – это значит большое пространство чистой воды.
И в самом деле, через восемь часов хода вышли на чистую воду и погрузились в густейший туман.
По открытой воде шли, однако, недолго. Через три часа оказались снова в зоне льда.
И хотя «Челюскин», обходя ледяные поля с севера, двигался довольно уверенно, перспективы плавания были неважными.
Профессор В. Ю. Визе, находясь в это время на борту «Александра Сибирякова», сообщил, что его судно попало в тяжелые льды и вынуждено пробиваться на юг.
Потом стало известно, что летчик Молоков, который базировался со своим гидропланом на мысе Челюскин, вылетел на ледовую разведку, чтоб вывести «Сибирякова» из западни. А когда узнали, что вывел, Бабушкин поглядел на капитана: что теперь тот скажет об авиации. Но ответа не дождался.
– Скоро опять войдем во льды, – сказал Воронин.
– Что есть главное в ледовом плавании? – спросил Бабушкин. Он никогда не упускал возможности пополнить свои знания в любом деле.
– Главное дело – избегать льдов. А форсировать их только в самом крайнем случае. Иначе корпус повредишь и вызовешь опасное сотрясение машины. Самое же плохое дело – неопределенность. То есть легко оказаться в ледовой ловушке, из которой и не выберешься… Конечно, надо налаживать ледовую службу по всему пути, чтоб знать состояние льдов. Хорошо бы иметь и точные карты. Наши, теперешние, никуда не годятся. Впрочем, мы и занимаемся уточнением карт: работаем на будущее.
Капитан поднял к глазам бинокль. Потом передал его Бабушкину.
– Видите темные пятна? Это или разводья, или майны.
– Ничего не вижу, – признался Бабушкин.
– Это у вас просто глаз не поставлен на разводья. У каждого человека глаз поставлен на свое дело.
Воронин пошел в штурманскую и записал: «14 августа в 5 часов 40 минут… Лед крупнобитый – восемь баллов».
И началось испытание судна.
– Полный вперед! – скомандовал Воронин.
Послышался звон сигналов в машинном отделении. Тихий, умиротворенный гул малого хода сменился грохотом полного – судно рванулось вперед. Капитан, перегнувшись через борт, стал глядеть под форштевень. «Челюскин» вздрогнул от удара и медленно, как бы нехотя, задрал нос кверху, лед, не выдержав веса судна, со вздохом переломился. С него скатились потоки натаявшей воды. Судно осело носом, и его бока раздвинули льдины в стороны.
Капитан недовольно морщился: «Сибиряков» такие льды форсировал с легкостью необыкновенной.
Те, кому надоело смотреть на «ледовое крещение» судна, спустились в свои каюты. Но лед и тут давал о себе знать – льдины скреблись о корпус, шуршали и стонали.
В трюмах, где нет внутренней обшивки, стоял неистовый грохот. Морская качка превратилась в ледовую.
Удары бывали настолько сильны, что кое-кто стал поговаривать:
– Есть один шпангоут![5]5
Шпангоуты являются как бы ребрами судна, к которым крепится обшивка.
[Закрыть]
– А вот и второй полетел.
В три часа дня на капитанский мостик вихрем влетел старпом Гудин и что-то шепнул на ухо Воронину. Оба скрылись во мраке трюма. И скоро всем стало известно: «Челюскин» получил первые серьезные повреждения. По правому борту разъехался шов и срезались заклепки.
В судовом журнале Воронин записал: «14 авг. в 15 час. обнаружена течь корпуса в межпалубном пространстве трюма № 1 с правого и левого борта. Легли на компасный курс вест. Лед крупнобитый – восемь баллов».
Журналисты собирали на память о первом повреждении срезанные заклепки толщиной с водопроводную трубу.
– Начались приключения, – процедил сквозь зубы Воронин. – Впрочем, я это знал.
– Все не так плохо, как вы полагаете, – возразил Шмидт. – «Челюскин» форсирует льды самым слабым своим местом. Ведь вы знаете, что пароход перегружен и сидит низко в воде. Вот отгрузим уголь, судно поднимется и будем бить лед уже укрепленным поясом. Вызовем «Красина» – он и уголь у нас возьмет, и потом выведет нас на чистую воду.
Воронин глядел за борт и о чем-то размышлял. Шмидту показалось, что капитан несколько осунулся и поскучнел.
«Он повреждения судна воспринимает, как повреждения собственного тела», – подумал Шмидт и продолжал бодрым голосом, каким говорят обычно с больным: – Все будет хорошо, Владимир Иванович. Кругом столько мощных ледоколов – помогут.
– Дальше не пойдем, – сказал Воронин, поворачиваясь к Шмидту, и пояснил: – Самостоятельное движение без посторонней помощи только даром расшатает корпус судна. Надо ждать «Красина».
– Как только разгрузимся, дела пойдут лучше. Вот увидите.
– Да, лучше, – согласился Воронин.
Оптимизм начальника экспедиции передался и остальным челюскинцам.
Гидролог Хмызников спустился в кают-компанию и сел за пианино. Тут же подоспели музыканты с балалайками и гитарами, и был устроен самый настоящий концерт. Играли «Светит месяц», «Стеньку Разина», «Вот мчится тройка почтовая».
«Отдыхайте, товарищи, – сказал капитан мысленно, – скоро вам предстоит аврал. И не один, а сотни. Вы еще не видели настоящих авралов».
17 августа стоял тихий, ясный день. Надо льдами плыло и дрожало марево, словно там, вдали, – открытая вода. Но если приглядеться, то можно было видеть, что огненные точки не плывут, а остаются на месте.
Обидно терять время в такую погоду. Но делать нечего.
И вот на горизонте показался легендарный «Красин», похожий на утюг.
Он шел, разбрасывая льды, как осенние листья. Подходя к «Челюскину», он навел такую волну, что треснули льды.
До 17 августа на «Челюскине» еще не все знали друг друга. В пути, конечно, происходили знакомства, разговоры, совместные трапезы, хоровое пение. Но разнородный коллектив, который впоследствии именовали челюскинцами, стал единым только после встречи с «Красиным».
«Почему же так?» – спросите вы.
Да потому, что был объявлен первый настоящий аврал, на котором стало ясно, кто есть кто.
Команда «аврал» относится ко всем без исключения. Тут уж нет ни ученых, ни моряков, ни плотников. Нет ни сильных, ни слабых, ни старых, ни молодых. Нет ни сердечников, ни язвенников. Эта команда требует равного участия всех, кто на корабле. Выстоять против стихии и победить невозможно, если не объединиться.
А что делать, если не нравится таскать тяжелейшие мешки и дышать угольной пылью? Есть только один выход – работать честно и весело. Ни в коем случае не страдать и не думать: «Я – ученый (плотник, журналист, художник, штурман) и не обязан дышать этой проклятой угольной пылью и таскать это проклятое «черное золото».
Широко раскрылись трюмы с углем.
Загремела лебедка, вытягивая связки по четыре мешка. И тут «грузчики» в брезентовых робах подхватывали каждый свой мешок и бежали на нижнюю палубу, чтоб передать груз на «Красин». И так четыре часа подряд, пока не отобьют склянки и не явится смена.
Аврал длился двое суток.
Облегченный «Челюскин» поднялся над водой на три фута.
Героизм в Арктике – это не встреча один на один с медведем. Это не шторм и мороз. Героизм – это тяжелая работа на пределе возможного.
И вот через двое суток в кают-компании собрались чистенькие, розовенькие после бани не люди разных профессий и возраста, а единый коллектив челюскинцев.
Был устроен вечер с красинцами.
Челюскинцы похвастались, что убили медведя.
– Первого нельзя было убивать, – сказал один из старых красинцев. – Вон Мальмгрен с «Италии» убил первого медведя, а потом и сам погиб. С первым медведем надо почтительно.
Завхоз Могилевич, сразивший медведя с борта судна, сказал, что медведь сам умер со смеху, когда увидел неуклюжий корпус «Челюскина».
20 августа в 9 часов 30 минут тронулись в путь. Впереди пошел «Красин», а за ним «Челюскин». Но двигаться даже сзади было не так уж и просто: широкий и длинный «Челюскин» застревал в извилистых каналах, продавленных «Красиным». Кроме того, льды после прохождения «Красина» возвращались на прежние места.
Оба судна беспрерывно перекликались хриплыми гудками, подавая сигналы о своем ходе и маневрах.
К утру, наконец, вышли на чистую воду. И только тут капитан Воронин почувствовал, что его спина взмокла. У него было такое ощущение, словно он сам, своими руками и грудью распихивал льдины.
«Даже после аврала так не болят кости и мускулы», – подумал он.
Несмотря на то что «Красин» прокладывал дорогу, в носовом отсеке «Челюскина» были обнаружены две новые течи.
Здесь, на чистой воде, «Красин» и «Челюскин» распрощались гудками: «Красин» пошел на Диксон – провожать судна Ленской экспедиции, «Челюскин» остался один.
День и ночь шли уверенно, изредка встречая разрозненные ледовые поля. Но к пяти утра следующего дня появились сплошные льды.
Капитан долго принюхивался к ветру, потом сказал:
– Чую, что где-то там опять вода. Но тут не дай бог ошибиться – окажемся в ловушке. Были б крылья…