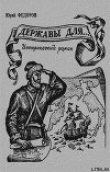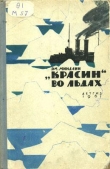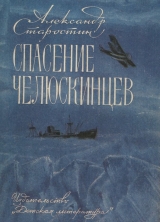
Текст книги "Спасение челюскинцев"
Автор книги: Александр Старостин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
ГЛАВА ПЯТАЯ
БАБУШКИНУ давно уже хотелось развеять предубеждение Воронина против авиации, да все не подворачивалось подходящего случая. Однако он понимал, что тут слова не имеют никакого веса. И потому молчал.
«Удивительное дело, – думал он, направляясь на шлюпочную палубу, где механик Валавин разложил сумку с инструментом и приготовился ставить снятые, отведенные назад крылья. – Мы можем поддерживать связь с материком, с судами, затертыми во льдах, перевозить на материк больных, обследовать с воздуха острова, на которые не пройдешь на корабле… Я уж не говорю о ледовой разведке. Впрочем, все это хорошо, если… – Бабушкин невесело улыбнулся. – Если самолет не упадет. А Воронину с летчиками просто не везло».
Валавин, который изнывал от скуки и от погрузочно-разгрузочных авральных работ, даже помолодел, прикоснувшись к матчасти аэроплана.
Он установил плоскости, потом проверил, как закреплены тросы, и сказал одному из многих добровольных помощников на лебедке:
– Вира! Помалу! То есть вверх.
Когда тросы натянулись и самолетик уже готов был оторваться от палубы, он крикнул:
– Стоп! Еще раз обегу.
Он пошел вокруг аэроплана, внимательно оглядывая каждый микрон обшивки на крыле и фюзеляже, и нечаянно столкнулся с Бабушкиным.
– Извините! Не заметил.
– Это ничего, – отозвался Бабушкин. – Как дела?
– Сейчас поедем. Все готово.
Бабушкин заговорил шепотом, оглядываясь на любителей авиации:
– Нам сейчас никак нельзя ударить лицом в грязь. Малейшая ошибка – и серьезное, важное дело будет скомпрометировано.
– Вас понял, – отозвался Валавин также шепотом.
Когда гидроплан опустили на лед судовой паровой лебедкой, Валавин вытер измазанные руки о снег и успел поймать нижнюю плоскость, удерживая машину от раскачивания.
Нагретый мотор довольно легко запустился. Потом Бабушкин хорошенько прогрел его и дал газ, поднялся искрящийся на солнце снежный поток.
Гидроплан соскользнул со льдины на разводье и уже с открытой воды произвел взлет.
Через некоторое время самолетик растворился в желтоватом небе.
Через полчаса послышался гул, и вот гидроплан уже сидел позади «Челюскина» на воде и его слегка покачивало на волне, как чайку.
– Сейчас, возможно, подплывет на шлюпке и капитан для ледовой разведки, – сказал Бабушкин Валавину. – Если, конечно, захочет.
– Может, боится?
– Да как же тут не бояться? – улыбнулся Бабушкин. – Техника ненадежная. А у него на глазах Иванов гробанулся, да и мы в Мурманске малость опозорились. Все это не больно-то подняло престиж воздушного флота в его глазах.
Бабушкин и Валавин поглядели на «Челюскин» снизу вверх.
– Что ни говори, а до чего ж красив наш корабль! – сказал Бабушкин. – Есть в нем величие.
– Вот спустили шлюпку. Плывут к нам, – сказал Валавин. – В летном обмундировании капитана и не узнать. Видите, он стоит в шлюпке?
– Вижу. Итак, нам надо показать товар лицом. Кто, как не Воронин, способен оценить прелести воздушной разведки. Если, конечно, все обойдется благополучно.
– Вас понял.
Подошла шлюпка. Воронин, одетый в меховой комбинезон, летный шлем и очки бабочкой, сдвинутые на лоб, со свертками карт под мышкой, перешагнул в лодку гидроплана и занял место рядом с Бабушкиным. Вид у него был озабоченный.
Валавин выбрался из кабины, стал коленями на площадку позади кабины, обитую для жесткости резиной и планочками, и взялся за лопасть винта.
– Погоди, – сказал Воронин, – а куда же ты денешься, когда мотор закрутится? Ведь этак тебе может и голову снести пропеллером.
– На юге я, Владимир Иванович, нырял с борта и отплывал, – заулыбался Валавин.
– Здесь вроде бы не юг.
– Прыгну в шлюпку, на которой вы прибыли.
– Повнимательнее, – посоветовал Бабушкин. – «Хорошо бы взял с первой попытки», – подумал он.
– Контакт! – крикнул Валавин и рванул винт.
– От винта! – Бабушкин закрутил ручку зажигания.
Валавин уже сидел в шлюпке. Мотор два раза чихнул и пошел.
Бабушкин опустил очки на глаза и дал газ. Мотор взревел, и амфибия все быстрее и быстрее пошла на взлет. Сзади вскипел пенный вал, по ветрозащитному козырьку спереди поползли капли, похожие на шустрых насекомых. Но вот пенный вал исчез, машина была в воздухе.
Бабушкин повел аэроплан к «Челюскину» и дал над ним круг.
Воронин внимательно поглядел вниз на кажущийся игрушечным пароход и дымящуюся, как папироса, трубу.
Море и волны сверху походили на стиральную доску.
Бабушкин знал, что Воронин впервые в воздухе, и, слегка покосившись, посмотрел, каково ему, но тот, опустив голову, уже уткнулся в разложенный на коленях нужный квадрат карты и показал Бабушкину направление полета.
Бабушкина несколько разочаровало спокойствие Воронина: новички ведут себя в воздухе несколько иначе – храбрятся, ерзают, стараются не показать страха.
«Наверное, чем-то недоволен», – подумал он.
Капитан так увлекся своими картами и льдами, которые расстилались внизу, словно находился у себя в штурманской и между ним и водой не было сотен метров высоты. Он отмечал на карте расположение льдов, жестом просил Бабушкина менять курс, глядел снова за борт и снова делал отметки па карте.
«Поворачивай назад», – показал он жестом.
«Чем-то недоволен», – решил Бабушкин.
Во время посадки Воронин аккуратно увязывал свои карты. Его словно не интересовало, как произойдет посадка, – самый сложный маневр, который далеко не всегда заканчивается благополучно.
Уже на борту судна Воронин сквозь зубы процедил:
– Наверху мороз. Щеки задубели, говорить не могу.
– Как общее впечатление? – поинтересовался Отто Юльевич.
– Спереди, по курсу норд-ост, – еле шевеля губами продолжал Воронин, – чистая вода. Туда пойдем. Нам надо преодолеть небольшую перемычку – и мы на свободе.
Бабушкин настороженно поглядел на него. Тот, заметив этот взгляд, сказал:
– Был бы помоложе, Михаил Сергеевич, ей-богу, научился бы летать. У авиации большое будущее в освоении Севера. Вот увидите.
– Охотно верю, – улыбнулся Бабушкин.
– Между прочим, – сказал Шмидт, – в истории полярного мореплавания использование самолета, стартующего с корабля, произведено впервые. Это, так сказать, историческая ледовая разведка.
– Неужели так? – удивился Бабушкин. – Я об этом и не подумал.
Пароход «Челюскин», преодолев перемычку, вышел на чистую воду.
Повеселевший капитан даже запел себе что-то под нос. Это была старинная поморская песня:
Грумант-батюшка страшон,
Кругом льдами обнесен
И горами обвышен…
К вечеру появилось множество птиц: чаек, кайр, люриков. Они низко кружили над судном, а потом вдруг стремительно падали в волны и взлетали уже с рыбешкой в клюве.
На одинокой льдине развалился огромный лахтак. Услышав грохот машины, он приподнял свою круглую морду и долго глядел вслед «Челюскину».
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МЫ СОВСЕМ ничего не рассказали о «науке» – так для краткости именовали ученых.
Павел Константинович Хмызников и Яков Яковлевич Гаккель тихо, скромно и планомерно проводили свои гидрографические и гидрологические работы. Через каждые десять миль пути судно бросало ход и начинались промеры глубин.
Гидробиолог Петр Петрович Ширшов в это время занимался своими делами – планктоном и прочей живностью.
Остановка судна, особенно когда не мешают льды, действовала некоторым товарищам на нервы. Кое-кто даже ворчал на «науку», которая, как казалось, ради собственного удовольствия отнимала драгоценное время у всех.
Окоченевшими от холода руками Хмызников и Гаккель «для собственного удовольствия» брали пробы воды на разных глубинах и проводили исследования. Кожа на их пальцах сделалась гофрированной, как у прачек. А они все останавливали и останавливали судно.
Ширшов, как бы оправдывая остановки, говорил:
– Товарищи! Для того чтобы знать, есть ли в районе рыба и в каком она количестве, совсем не обязательно ловить ее, достаточно поймать планктон. Планктон нам и подскажет, выгоден ли район для эксплуатации рыбных богатств или нет. Это, товарищи, очень важно, так сказать, в народнохозяйственном плане. Прошу это учесть. И не возмущаться.
Вошли в густейший туман. Тут и по палубе приходилось двигаться, как в темноте, – с вытянутыми руками.
Только изредка в белизне тумана можно было видеть блеснувшую волну. Временами шел сырой снег.
«Челюскин» давал частые гудки. Нет, он не предупреждал встречные суда о возможности столкновения – здесь не могло быть никаких судов. Сигналы давались с другой целью: гудок, отраженный от какого-нибудь встречного препятствия, давал эхо. Сигналы были в некотором роде щупальцами корабля.
И вдруг к вечеру 23 августа «наукой» было замечено постепенное понижение глубины.
– 18 метров, 16, 14,5!
Об этом было немедленно доложено капитану.
– Стоп! Задний ход! – приказал Воронин.
Встали на якорь и решили ждать прояснения погоды.
– А по карте тут нет и намека на мелководье, – проворчал Воронин. – В чем дело? Может, карта врет?
Хмызников и Гаккель, пользуясь вынужденной остановкой, всю ночь проводили свои исследования.
«Наука» иногда может по состоянию льда, по течениям, солености воды и по другим признакам предсказать существование неоткрытого еще острова. Так при помощи расчетов был открыт, к примеру, профессором Визе остров, названный потом его именем. А Кропоткин П. А., крупный ученый и революционер, сидя за столом, сумел предсказать существование земли, обнаруженной через два года и названной Землей Франца-Иосифа. Ну конечно же, земля эта должна носить имя нашего выдающегося ученого, а не австрийского императора, который к открытию не имел никакого отношения.
К утру Хмызников, подражая Воронину, потянул носом и сказал:
– Чую остров.
– Он самый, – согласился Гаккель. – Рядышком. Сейчас рассеется туман – и увидим. Я думаю, что это остров Уединения, хотя на карте он обозначен в пятидесяти милях от этого места.
– Видимо, так. Проверим.
В это время в их каюту вкатился маленький, толстый и очень шустрый фотограф Новицкий и воскликнул:
– Вы тут сидите и ничего не знаете, а я открыл остров!
– Поздравляю, Петя, – сказал Хмызников.
Новицкого несколько разочаровало равнодушие ученых к его открытию, и он продолжал:
– Я вышел на палубу. Туман поднялся, и я увидел остров в четырех, примерно, милях от «Челюскина». Каково? А-а?
– Недурно, – спокойно произнес Гаккель. – Ты молодец, Петя.
– По существу, я имею право требовать, чтоб остров назвали моим именем. Ведь я его заметил первым. Как вы думаете? Ведь вы, ученые, должны знать, как это делается.
– Ладно, будем называть остров твоим именем, – легко согласился Хмызников, – не жалко.
На воду немедленно были спущены шлюпки, и «наука» двинулась изучать остров.
Установили его точное местоположение, произвели геологические, ботанические и магнитные наблюдения, определили астрономический пункт. В гурий, сложенный из камней, замуровали бутылку с данными об астрономическом пункте и с фамилиями прибывших.
Авиация и тут пригодилась: Отто Юльевич облетел с Бабушкиным остров и сделал с воздуха фотоснимки. Обследовали с воздуха и весь район.
После выполнения работ Шмидт связался с Визе, который плавал на «Сибирякове», и рассказал об «открытии» острова.
– Это остров Уединения, – ответил профессор, – открытый Иогансеном. Дело в том, что норвежец ошибся в определении астрономического пункта. Потому его остров оказался в стороне.
Впрочем, так думали Хмызников, Гаккель и сам Шмидт.
Хмызников, столкнувшись с Новицким, развел руками.
– Извини, Петя.
Гаккель тоже «посочувствовал» фотографу.
Петр Карлович Новицкий был замечательным полярным фотографом. Он всегда оказывался в самых неожиданных местах, чтоб сделать снимок поинтереснее. Он говорил о себе:
– Я – глаза миллионов! Я останавливаю мгновенья!
В суровом Карском море в счислимой широте 75°46,5' норд и долготе 91°06′ ост появился новый участник экспедиции. Нет, не «заяц». Об этом событии вахтенный штурман записал в судовом журнале так: «Во время плавания парохода «Челюскин» рейсом Мурманск – Владивосток, 31 августа 1933 года в 5 часов 30 минут в Карском море в счислимых 75°46,5' и 91°06′ у едущих на остров Врангеля на зимовку супругов Васильевых родился ребенок женского пола. Девочке присвоено имя Карина».
День рождения Карины, названной так в честь места рождения – Карского моря, праздновали всем дружным коллективом.
Назойливо сыпал дождь, на палубе блестели лужи, похожие на расплавленное олово, блестел, как лакированный, судовой колокол. Казалось, даже металлические части судна пропитались насквозь влагой.
Воронин в своем видавшем виды теплом пальто, серой кепке, сапогах, с биноклем на ремешке, расхаживал взад-вперед по верхнему мостику и напевал себе что-то под нос. Такая погода его вполне устраивала.
И вот показался каменистый берег самой северной оконечности Азии – мыс Челюскин.
В бинокль сквозь сетку дождя можно было видеть размытые контуры зимовочной станции – длинного одноэтажного строения – и гору консервных банок, похожих издали на елочные игрушки.
К «Челюскину» подошла лодка с дымящейся трубой, похожей на самоварную, и на борт судна взошел высокий, широкоплечий, костлявый человек с темным лицом и голубыми глазами.
Это был известный по всему Северу промысловик Журавлев, участник героической экспедиции Ушакова-Урванцева, которая обследовала самое большое «белое пятно» на карте XX века – Северную Землю.
Ему хотелось увидеть старых знакомцев, рассказать о своих делах и похвастаться успехами.
Заметив проходящего мимо биолога Ширшова, он пробасил:
– А-а, «наука»! В кишках дохлой рыбы правду ищете! Здорово-здорово!
– Не нападай на «науку», – сказал радист Кренкель, появляясь из своей рубки, – без нее мы бы врезались в остров Уединения: вовремя заметили мель.
Челюскинцы спускали шлюпки – собирались посетить мыс Челюскин.
К вечеру в радиорубку вошел спецкор «Правды» и попросил отправить очередное сообщение на материк.
– Скажите честно, – ухмыльнулся Кренкель, – в вашей депеше фигурирует «одинокая чайка» и «изумрудная волна», которую «режет форштевнем красавец – «Челюскин»?
– Иронизируете?
– Я уже отправил на материк сотни одиноких чаек и изумрудных волн. Поражает однообразие. Ну, давайте, что там у вас.
«В 4 часа дня впереди нас в тумане возникли очертания кораблей. «Челюскин» подошел к мысу Челюскин. Это была великолепная минута. За всю историю овладения Арктикой челюскинский меридиан пересекло всего девять судов, и вот сегодня шесть советских пароходов бросили якоря у самой северной точки самого обширного материка мира. «Красин», «Сибиряков», «Сталин», «Русанов», «Челюскин» и «Седов», совершив трудный ледовый поход, троекратно приветствовали друг друга простуженными голосами…»
– Простуженными? – переспросил Кренкель.
– Простуженными.
– Ладно. Если они простудились.
«В десять минут спущена моторка, и мы во главе со Шмидтом стали объезжать корабли. Это был праздник советского арктического флота. Песни, хохот, шутки, возгласы, хоровые приветствия по слогам, как бывало дома, на демонстрациях. Заплаканные снежные утесы выпрыгивали из сурового тумана…»
– Заплаканные? А где у них глазки? – съехидничал Кренкель. – А как они выпрыгивают? И отчего это туман суров?
– Товарищ Кренкель, я не лезу в вашу аппаратуру, попрошу не лезть и в мою…
– Ладно. Не буду трогать вашу аппаратуру.
«…и, мерцая, уходили в серую муть, а меж них, треща моторами, проносились люди… Какие люди!»
– Где же у людей моторы? А-а, ясно! Вместо сердца пламенный мотор. А вместо души аппаратура.
– Товарищ Кренкель!
– Извините. Просто мне обидно за «русского языка».
«Во писатели! – подумал Эрнст Теодорович. – И слова в простоте не скажут».
Встреча с «простым» человеком, великим охотником Журавлевым не прошла для Кренкеля бесследно: его стало раздражать все, что высокопарно и фальшиво.
«Такие люди, такие люди! – передразнил он. – Люди как люди. И нет у них никаких моторов».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ТРИДЦАТИВОСЬМИЛЕТНИЙ пилот Василий Сергеевич Молоков, человек скромный, молчаливый, если не сказать застенчивый, произвел разведку на своем гидроплане и вывел «Александра Сибирякова» из ледовой ловушки.
Возвратившись на базу, мыс Челюскин, Молоков поставил свой «Дорнье-Валь» на якоря и двинулся к зимовочной станции.
Василий Сергеевич говорить не любил. Он словно старался избегать всяких разговоров. Нет, совсем не оттого, что болтливость в авиации никак не поощряется, просто он мог выразить всего себя в кабине самолета. Как-то он сказал:
– В воздухе я делаюсь самим собой. На земле всё не то. Много суеты. И мне легче выполнить самый сложный рейс, чем произнести самую простую речь. Да и о чем говорить-то?
Едва добравшись до койки, он завалился спать и, засыпая, слышал гул мотора, который продолжал стоять в его ушах.
Его разбудили разговоры, хотя беседа велась шепотом.
Василий Сергеевич открыл глаза и увидел Шмидта, хорошо знакомого по фотографиям в газетах, и рядом с ним зимовщиков.
Когда Молоков заворочался, Шмидт замолчал и поглядел на него.
– Простите, мы, кажется, разбудили вас, – сказал Отто Юльевич. – Мы старались говорить тихо.
– Я сам проснулся, – отозвался Молоков и, поднявшись, оделся и молча пошел поглядеть, как себя чувствует аэроплан. Вдруг в бухту нагнало льда? Тогда придется просить помощи у моряков и разгонять льды.
Рано утром «Челюскин», пройдя пролив Вилькицкого, очутился в море Лаптевых и попал в шторм.
Столовая опустела. У многих пропал интерес к домино и разговорам. Камбузная команда полностью вышла из строя. Теперь вместо обеда выдавалась банка консервов и хлеб. За борт смыло часть запаса огурцов и несколько ящиков с лимонами. В коровнике один бычок сломал себе рог. Новому челюскинцу Карине сделали колыбель из корзины. Крен судна достигал пятидесяти семи градусов.
«И все равно это лучше, чем льды», – думал Воронин.
А эфир сообщал все новые и новые неприятные известия: «Красин» сломал один из трех валов, в полуаварийном состоянии ледорез «Литке».
И тут ударили заморозки.
Ученик Молокова, пилот Сигизмунд Александрович Леваневский, пребывал по долгу службы на Дальнем Востоке и собирался лететь на Север, на ледовую разведку.
В то время, когда «Челюскин» совершал свой рейс, произошла такая история.
Знаменитый американский летчик, «король воздуха» Джемс Маттерн, совершал свой героический кругосветный перелет на аэроплане «Век прогресса». Маршрут Маттерна пролегал и через нашу страну.
На московском аэродроме героя Маттерна встречали наши корреспонденты и кое-кто из летчиков.
Американец отвечал на вопросы корреспондентов, улыбался своей американской улыбкой, но не трудно было видеть, что полет дается ему нелегко. Лицо Маттерна пожелтело, под глазами легли тени.
Дело в том, что Маттерн ни на минуту не отходил от своего аэроплана и ел продукты, закупленные в Америке. Он не доверял никому и даже сам заправлял самолет и менял вышедшие из строя агрегаты. Он категорически отказался и от бескорыстной помощи наших механиков и летчиков. Впрочем, на Западе Маттерну могли и в самом деле подстроить какую-нибудь гадость, чтоб сорвать рейс.
И вот в то время, когда «Челюскин» шел через Карское море, отважный американец вылетел и пропал где-то в необъятных просторах Арктики.
Иностранная печать обвинила в исчезновении Маттерна Советский Союз. Ему, якобы, дали заведомо непроходимый маршрут. В японских газетах появилось сообщение, что Маттерна съели русские.
И вот Сигизмунд Леваневский получил приказ оказать помощь американскому рекордсмену.
Наш летчик вылетел из Хабаровска, прошел по непреодолимому для американца маршруту и отыскал Маттерна и его разбитый самолет в районе Анадыря.
В тот же день летающая лодка Леваневского с Маттерном на борту стартовала на Аляску.
Через полтора часа полета аэроплан очутился в сплошном молоке. Маттерн переполошился: приближалось время посадки, а как садиться в тумане, если не видно земли? И стал привязываться. Потом закрыл глаза и развел руками: вслепую, мол, не сядешь, а гробанешься.
Леваневский благополучно приземлился в Номе, на Аляске. Мировому рекордсмену, «королю воздуха», преподал урок летного мастерства наш никому еще не известный летчик.
В это же время молодой, но уже весьма опытный военный летчик Николай Петрович Каманин ежедневно, а точнее, еженощно, отрабатывал ночное бомбометание. Что же это такое – ночное бомбометание? Тут, по-видимому, следует остановиться и рассказать, как это происходит.
Представим, что мы находимся в кабине легкого бомбардировщика. Стоит ночь. Стартер делает флажком отмашку – «Взлет разрешаю!»
Мы даем моторам взлетный режим. Самолет с грузом цементных бомб сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее идет на взлет. О скорости движения мы можем судить только по приборам и стартовым огням, которые бегут назад все быстрее и быстрее. Их словно тянут и тянут назад с сильным ускорением. Мы берем штурвал на себя, цепочка огней как бы наклоняется – мы в воздухе. Нам кажется, что мы очутились в темном коридоре, и только еле-еле светятся зеленоватые стрелки приборов.
«Там сопка, там радиомачта, – напоминаем мы себе. – Не столкнуться бы».
Некоторое время мы испытываем такое чувство, словно движемся в темноте, вытянув руки. Но, глянув на приборы, понимаем, что набрали приличную высоту, и слегка успокаиваемся.
«Запас высоты имеется», – думаем мы, оборачиваемся и глядим на своих товарищей, которые слева и справа.
Воздух нам кажется густым, как сироп.
Голубоватый луч стартового прожектора движется через черное поле аэродрома и выхватывает на мгновение будку радиостанции, потом выгоревшую на солнце брезентовую палатку и людей.
Мы на всякий случай отмечаем все, что видим, и ложимся на курс.
Вот огни железной дороги, сигнальные огни разъездов. Порой в темноте угадываются блеснувшие змейки рельсов. На горизонте растет и пухнет красноватое зарево – это город. Его огни пропитали воздух, как вода губку. Но вот зарево превращается в россыпи огней, в которых мы видим улицы и вспышки проходящих трамваев. А вот и летний парк и танцплощадка. Танцующие пары крутятся как бы в тишине – гул собственных моторов не в счет.
«Хорошо, наверное, сейчас в парке», – думаем мы. Но надо уточнить курс. Думать о постороннем некогда. Мы оглядываем приборы.
«Так… температурка воды в норме, давление масла в норме».
Вот входим в зону «противника», теперь повнимательнее.
И вдруг кабина наполняется таким светом, как будто сверкнула растянутая по времени молния, – это мы попадаем в луч прожектора. Предметы теряют очертания. Мы ничего не видим. «Противник» ведет но нас «огонь».
Мы швыряем машину то вверх, то вниз, стараясь избавиться от этого беспощадного света.
«Маневр, маневр, уходим… Нет, не ушли… Вот, кажется, удрали. На курсе!»
Мы сбрасываем на «противника» бомбы, которые, разумеется, не взрываются: ведь они цементные. И возвращаемся домой.
В зоне аэродрома мы «подсказываем» себе: «Повнимательнее. Как бы не начать гоняться за звездами». Иногда звезды можно принять за огни аэродрома.
Итак, Николай Каманин отрабатывал ночное бомбометание, выполняя за ночь один, а то и два вылета. А днем, когда положено отдыхать, отмечал флажками на карте продвижение «Челюскина».
А «Челюскину» в это время было трудно, как никогда.
«Одна беда – не беда, – говорит наш народ, – беды вереницами ходят».
И пошла, значит, полоса невезения. «Челюскин» получил вмятины по правому и по левому бортам. Лопнул шпангоут, усилилась течь. У Русских островов застрял трудяга «Сибиряков», открывший совсем недавно новые острова. Через пролив Вилькицкого с трудом пробивался «Красин». В Колючинской губе застряли во льдах пароходы «Свердловск» и «Лейтенант Шмидт», которые шли из Лены в Берингов пролив. У мыса Биллингса зазимовали три парохода Колымской экспедиции с грузами для золотых промыслов. «Челюскин», затертый льдами, не имел собственного хода. Журналисты говорили, что судно оказалось в «ледовой петле» коварной Колючинской губы. Той самой губы, где «Сибиряков» в прошлом году потерял гребной винт, а Норденшельд при весьма благоприятной ледовой обстановке остановился на зимовку.
Воронин, осматривая льды в бинокль, ворчал:
– Воды… хоть бы курице напиться.
Вечером в каюте начальника экспедиции было проведено совещание командного состава и партийного актива. Следовало решить, что делать: оставаться ли на зимовку, или идти дальше. Если уж зимовать, так здесь, в губе, где можно отыскать подходящую тихую бухту.
Когда все споры, доводы в пользу того или иного плана дошли до наивысшей степени накала, слово взял Отто Юльевич и спокойно подвел итоги:
– Трудно? Да. Но будем пробиваться. Мы обязаны сделать все, чтобы выполнить задание, – пройти весь Севморпуть.