Я человек эпохи Миннезанга: Стихотворения
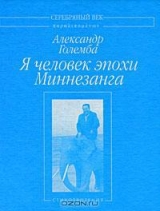
Текст книги "Я человек эпохи Миннезанга: Стихотворения"
Автор книги: Александр Големба
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
ВОЛНИСТЫЕ ТУМАНЫ
Был человек таинственный и странный,
хотя имел и паспорт он, и чин.
Он написал «волнистые туманы»
и опочил. Нет следствий без причин.
Когда в него стреляли бонвиваны,
он умирал в снегу. Как честь мужчин.
И лапотные черные Иваны
торчали над ошметками кручин.
Брел русский стих, ломая балаганы.
А труп в гробу бледней, чем лунный свет.
И на заре листал другой поэт
самодержавья темные кораны.
И облака. Они нежней руна.
Рунические призрачные станы.
В метелях воплощались Оссианы,
и обнажалась круглая луна.
О, если бы она могла сойти
с пути, остаться шаром невоспетым!
Свети, луна проклятая, свети
во цвете лет загубленным поэтам!
О воздух века! Если дело дрянь,
когда скрипят погибельные сосны,
сгустись в комок, сияньем ночи стань
иль мертвецов покровом жизненосным!
Стань Пушкиным, стань Фетом, наконец,
стань Аполлоном или кантонистом,
объяв недолетающий свинец
своим туманом, снежным и волнистым.
Пергамент. Папироска. Пепел. Медь.
Стеклянный воздух светопреставленья.
Поэзия не может умереть…
Блюстители, валитесь на колени!
«В синем небе…»
В синем небе, в синем небе
пролетает вертолет, –
на задворках, на задворках
воскресает Дон Кихот, –
ах, в чердачной амбразуре
клок июньской синевы, –
что за мельницы в лазури
над кварталами Москвы?
Звенья труб в мерцаньи цинка,
точно звенья новых лат, –
целый день идет починка,
мир тревожен и крылат.
Если б взвиться, если б взвиться
выше грусти и забав, –
если б с мельницей сразиться,
исполина в ней узнав!
Вертолеты улетели,
люди строят переход.
Третий день на бюллетене
престарелый сумасброд…
Говоря! ему: останьтесь
в нашем юроде, сеньор,
ну указ ли вам Сервантес,
коль Сервантес мелет вздор?!
Что там мельницы мололи?
Улетели: хвать-похвать!
Ну доколе, ну доколе
с ветряками воевать?
«В переулке имени Пантофель…»
В переулке имени Пантофель,
где узка асфальтная река
(понимаешь?), есть на камне профиль
неуживчивого чудака.
Бритвовидный профиль чудака,
абрис эпитафий и утопий, —
в переулке имени Пантофель
на стене. Изваян с кондачка!
Беспределен лик его чудацкий,
мертвеца отчетливый постой,
там, где шествует (живой) Завадский
элегантной ленточной глистой.
Странный фарс. Беспечная минута.
Время – будто петли на воде.
Вековечный доктор Даппергутто,
Всеволод Эмильевич Эм-де [1]1
Мемориальная лоска с профилем В. Э. Мейерхольда сооружена отнюдь не в переулке имени Пантофель (само существование которого проблематично), а на улиц Неждановой (б. Брюсовский пер.). Примечание позднейшего исследователя.
[Закрыть].
«Вальтер фон дер Фогельвейде…»
Вальтер фон дер Фогельвейде,
бренный образ человека,
австрияк, всего вернее,
из тринадцатого века,
певший гимн в честь милой дамы,
пахарь стихотворной нивы,
сочинявший эпиграммы
и слагавший инвективы, —
женщин он любил, конечно,
искренне и любострастно,
удивительно беспечно
и пленительно прекрасно.
Ну а птички на привале,
что на них весьма похожи,
хоть не сеяли, не жали,
а бывали сыты всё же.
Ну а птички на привале,
благостны и деловиты,
хоть не сеяли, не жали,
а бывали всё же сыты.
Он лугами и полями
шел, вздымая тост заздравный.
С птицами и королями
он беседовал как равный –
австрияк, всего вернее,
из тринадцатого века,
Вальтер фон дер Фогельвейде,
вечный образ человека.
Ну а птички на привале,
вроде вальтеровой свиты,
хоть не сеяли, не жали,
а бывали всё же сыты.
Ну а птички на привале
хоть не лезли вон из кожи,
хоть не сеяли, не жали,
а бывали сыты всё же.
Ну а пташки на привале –
Певуны, не паразиты!
Хоть не сеяли, не жали,
а бывали всё же сыты.
А что с голоду не помер
Вальтер – было просто чудом,
потому что не был Вальтер
кесаревым лизоблюдом.
ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ
I. «В тишине печальных буден…»II. «В сугробах, в сугробах, в сугробах…»
В тишине печальных буден,
где судьба играет в кости,
я хочу оставить людям
строки нежности и злости.
Не всегда ведь, не всегда ведь
попадаешь прямо в точку, –
людям я хочу оставить,
как Франциск, одни цветочки.
Не ищу пустого блеска,
обращаясь к яснолицым, –
я хочу, как тот Франческо,
обратиться к певчим птицам.
Проповедовать за дверью
некой самой высшей лиги
мудрость высшего доверья,
как романтики-расстриги.
Я хотел бы, небезвестен,
причастившись горней тайне,
обернуться КНИГОЙ ПЕСЕН
в духе истинного Гяйне.
Мы о людях скверно судим
и о тех, что яснолобы;
я хочу оставить людям
строки нежности и злобы!
III. «Душою старайся постичь…»
В сугробах, в сугробах, в сугробах
осталась судьба бытия, –
в тех северных снежных
утробах тревога и вечность моя.
И всё, что мечталось и пелось,
и всё, что звенело в былом,
отвага, любовь и несмелость,
и – в шалую тьму напролом!
В таинственном шуме и блеске
судьба омрачилась моя, —
студеных ночей арабески
на стеклах былого литья.
Я в темном эфире витаю,
дышу неземной тишиной –
не таю, не таю, не таю
и этой безгласной весной.
На этой асфальтовой корке,
на этой студеной земле
глаза мои мстительно-зорки,
как некогда, в дивном тепле.
В забытые комнаты эти
мы входим с морозной черты,
усталые взрослые дети
ушедшей во тьму красоты!
IV.Ференц-Йожеф
Душою старайся постичь
всё то, что в судьбе промелькнуло:
прислушайся к отзвукам гула,
его темноту возвеличь.
Как свет, превратившийся в слух,
взметнись изобильями блеска,
метнись, будто алая феска
в оконце ночных повитух.
Будь верен весны колыханью,
плыви – удивленно-сутул –
туда, где возносит Стамбул
над синей босфорской лоханью
свои минареты. Впервые
душою смятенно ответь,
что славная вышла мечеть
из греческой Айя-Софии!
Будь весь как волшебная страсть,
старайся в немыслимой смуте,
клубясь словно Облако сути,
душой к Византии припасть!
V. «Мы помним всё то, что ушло…»
Время лезет вон из кожи, –
где ж ты, бедный истукан,
Ференц-Йожеф, Ференц-Йожеф,
благородный старикан?
В день Гоморры и Содома
ты влачишь (или зачах?)
бремя Габсбургского Дома
на худых своих плечах!
Все мы, все мы постояльцы
благодушных поварих…
Не собьет в таперах пальцы
звучный Кальман Эммерих!
Где же нынче молодежь их
в доломанах тех времен?!
Ференц-Йожеф, Ференц-Йожеф,
облетевший старый клен!
Где же, где же, где же, где же
русских троек бубенцы,
галицийские манежи,
будапештские дворцы?
Кем он будет подытожен,
век, ушедший в тишину,
там, где Лемберг, там, где Пожонь
и не знают про войну?
Ярко блещут магазины
массой бемского стекла, –
прут мадьяры и русины
в ночь медвежьего угла.
Не цветною кинопленкой
в синема полуживом –
въявь, былое время, мондкай,
говоря мне, время, мондкай
о величии самом!
Время спит в масонских ложах
(снится новая скрижаль!), –
Ференц-Йожеф, Ференц-Йожеф,
от души тебя мне жаль!
Мир взрывается, пригожих
сонаследников гоня…
Бедный Йорик, Снежный Ежик, —
четверть царства за коня!
VI. «Как передать невозвратимость мига…»
Мы помним всё то, что ушло,
а будущего не забудем, –
когда на душе отлегло,
мы время по-новому судим.
Мы внемлем шагам босяков
былой романтической складки,
покорно глотаем облатки,
играем с печалями в прятки, —
мы входим (лирически-шатки)
в сецессион особняков.
Прелестнейшим прошлым измерьте
грядущих скитаний маршрут,
когда по фасадам плывут
сильфиды, наяды и черти;
потом побывайте в концерте,
где тенор прижимисто-крут…
Но всё расточилось, как сон, –
и вы никогда б не сказали,
что очень грустит Стефенсон
во мгле на Восточном Вокзале.
Созвездий высокая утварь,
реклам световых беготня…
О, Келети Палья удвар,
ты в Киев доставишь меня!
Летит на колесах лачуга,
везет нас напористый гунн
на Ньюгат, на Ньюгат, на Ньюгат,
на Запад, на Запад, на Ньюгат,
в край венецианских лагун.
VII. «Не кляните непонятность…»
Как передать невозвратимость мига
и как войти в былых утрат семью?
Что – Прошлое? А будущее – книга,
известно, за печатями семью!
А то полумгновение, в котором
нам жить на этом свете суждено,
кладет предел ненужным разговорам,
и недомолвкам всяческим, и вздорам, –
оно непогрешимо, как зерно.
Так верен будь полумгновенью счастья
и не пытайся позабыть урон,
который был святой вселенской страстью
тебе в годину гнева нанесен!
VIII. «Потом – ушами финт…»
Не кляните непонятность,
не спешите глаз отвесть, –
в мире нелицеприятность
справедливейшая есть.
Подчинитесь всем раздумьям,
может, даже скудоумьям, –
повторяйте всякий раз:
это правда не про нас!
Потом – ушами финт,
и тихий, будто помер, –
как в лотерее СПРИНТ,
безвыигрышный номер…
«Геся Гельфман, храбрец Рысаков и Кибальчич…»
Он выслал Русакова…
П.В.Шумахер
Геся Гельфман, храбрец Рысаков и Кибальчич,
иль совсем уж какой-нибудь сбрендивший мальчик —
и монарху в подусниках, в общем хана!
В СПб, где рассвет над канавками розов,
где сперва Карамазов, потом Каракозов
пренаивно спешат подстегнуть времена,
где чухонская плесень на черствых баранках
и гремит динамит в монпасьешных жестянках,
либеральный властитель встречает весну:
отпевает его голубая столица,
и в сугроб государь умерщвленный валится,
обреченный мученью и вечному сну.
Разлетается он на куски, вот кошмар-то!
Это все называется Первое Марта,
это казнь, причисления к лику взамен.
И в сознаньи предсмертном бегут вереницей
сам Василий Андреич над первой страницей
и Простак за Границей – беспечный Марк Твен.
Встань над кровлями Питера, Дева-Обида,
в огорченьях Саула-царя и Давида!
Император уже в православном раю,
а за ним, в обстоятельном ритме повтора,
оба Кеннеди и отставной Альдо Моро
неминучую гибель встречают свою.
Александр II, либеральный правитель,
реформатор, воитель и освободитель,
все земное свершил и почил и усоп.
Погребально звучал перезвон колоколен,
но, однако же, был браконьерам дозволен
внесезонный отстрел венценосных особ.
С Делом можно ли отождествлять человека?
Может, в этом ошибка жестокого века,
что творил он расправу, символыказня?
Ох, напали на козлика серые волки,
после ж – народовольцы и народоволки,
и густых мемуаров пустая возня!
Коль железо в живое впивается мясо,
это вовсе не значит, что темная масса
в этом факте прозрела рассвета лучи…
Ибо может признать всеблагая отчизна
эти факты издержками волюнтаризма, —
но молчи, ошалелое сердце, молчи!
АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА
Так некогда безумствовал Антоний,
забыв о парусах своих трирем,
у Клеопатры розовых ладоней,
у маяков, на удивленье всем.
И там, где крепдешин и чернобурки,
где чесанки сдаются в гардероб,
в былом сугробном Екатеринбурге
актерской декламации сироп!
Гудит Урал. Гудят холмы Урала.
Таится в недрах темная руда.
Ложится на папаху генерала
снежинки самоцветная звезда.
Уютно и тепло ему в мышиной
шинели. Снег летит на все лады.
Ложатся за директорской машиной
протекторов упрямые следы.
И, на потеху славным свердловчанам,
прожекторами жаркими багрим,
раскланивается актер Молчанов,
и на свету нелеп актерский грим!
БАЛЛАДА О ПРИЗВАНИИ АКТРИСЫ
Есть призвание актрисы,
отрицать его изволь:
шелестящие кулисы,
недоученная роль,
испытующие взгляды,
нервно скомканный платок,
запах пудры и помады,
отчужденья холодок…
Не вздыхаю, не тужу я:
ты понять меня сумей,
я вступаю в жизнь чужую,
как беглянка из своей.
И в каком-то сновиденьи
забываю всё вокруг –
чьи-то мненья, чьи-то деньги
и тебя, мой милый друг!
Закуток какой-то вздорный
вдруг становится моим:
это зеркальце в гримерной,
эта лампочка под ним, –
и, когда все кошки серы,
в предвечерний темный час,
что за стены из фанеры
вдруг охватывают нас!
Мне прославиться не к спеху,
мы безвестны до поры;
что за дань полууспеху
в грешных вывертах игры, —
Катерины и Ларисы,
вашей правды не предам…
Мы – бродячие актрисы,
героини новых драм.
И, хотя теперь в почете
телевизор и кино,
нашей правде, нашей плоти
петь по-старому дано…
Порасклеены афиши,
наведен веселый грим;
тише, тише, тише, тише, –
перед вами мы творим!
Так в восторге несусветном
мы играем налегке
в нашем все-таки заветном,
заповедном уголке.
И охота, и забота,
и – судилось на роду! –
и страданья для кого-то
в восемнадцатом ряду…
Есть призвание актрисы,
отрицать его изволь:
шелестящие кулисы,
недоученная роль,
испытующие взгляды,
нервно скомканный платок,
запах пудры и помады,
отчужденья холодок!
«Один актер хотел сыграть…»
Один актер хотел сыграть,
как дерево растет,
как осеняет благодать
его листву и плод,
как от верхушки до корней,
от кроны до ствола
оно становится смирней
кухонного стола.
Как дождь шуршит в его ветвях
и в трещинах коры
и оставляет впопыхах
хрустальные дары,
и как пичуги гнезда вьют
среди ночных рулад,
и как стальные звезды шьют
ему большой халат,
как хлопья покрывают торс,
и плечи, и бока,
и как мерцает снежный ворс
на пальцах чудака.
Актер сыграл сто пять ролей
и помер сгоряча, –
играл он юных королей
и старого хрыча,
играл погонщиков коров
и герцогов играл,
играл седых профессоров,
игравших в интеграл,
играл без меры, без числа:
такое ремесло!
И рампа смерть ему несла,
а дерево росло –
оно расправило до звезд
свой исполинский рост,
широкошумною листвой
пугая звездный рой.
Росло, не зная для чего,
снося чужую боль, –
его последняя, его
несыгранная роль.
«Как «Чайка» Треплева и Дорна…»
Как «Чайка» Треплева и Дорна,
как банки лопнувшей удар,
материальность иллюзорна, –
таков уж этот Божий дар.
Уныла, как поэт без денег,
пиеса в актах четырех,
где моложавый неврастеник
казнит презрением дурех.
О монументе-истукане
не думай, праздный человек,
о пыльной Чайке в складках ткани,
летящей уж который век.
Пока выбалтывают губы
в заветном шелесте души:
«Попить. С вареньицем. Чайку бы.
С баранками. Попить. Чайку бы».
Испей. Но драмы не пиши!
«Прости меня. Я говорю с тобой…»
Памяти В. Луговского
Прости меня. Я говорю с тобой
на языке дешевых аллегорий,
на языке холодных эпитафий,
кладбищенской травы, надменных туч!
Ты – словно вспышка магния. Лицо
в венце. Как рот кладбищенской мадонны.
В 4.20 прибыл самолет,
и в цинковом гробу въезжает в гибель
тот, кто моим врагом от века не был,
хотя, быть может, был не вовсе другом.
Прости меня. Я свет иного дня
и не лишен надежд и упований,
и ежели из мертвых выпал рук
не светоч, нет, а так – светильник малый,
то кто-нибудь обязан подхватить
и этот малый, этот слабый светец,
хотя потом придется дуть на пальцы.
Я чту тебя. Боюсь шумливых слов,
и всё же – чту. Прости меня, учитель.
НА СМЕРТЬ ПОЭТА
Трудно душе говорить об ушедшем
в столпотвореньи отрад и печалей,
в космосе, в вихре его сумасшедшем,
трудно, как трудно не плакать ночами,
вспомнив, что добрые веки сомкнулись,
вспомнив, что он не увидит рассвета,
вспомнив, что кружево праздничных улиц
больше не встретит живого поэта.
А у судьбы не прямая дорога,
а у поэта нет права на жалость:
много любил он и сетовал много,
много невысказанного осталось –
невоплощенных тревог и желаний,
замыслов, не превратившихся в слово, –
юность жила в седине его ранней,
нежность – в улыбке поэта седого.
Трубы столетья поэту трубили,
зори столетья поэту сияли,
женщины крепко поэта любили,
юноши чутко поэту внимали, –
что же тогда называется счастьем,
если не эта святая влюбленность,
сердце, охваченное всеучастьем,
жизни ликующей неугомонность?
Шашка стоит у его изголовья,
тяжкие книги не сдвинуты с полок,
смерть заглянула под прочную кровлю,
друг мой в отъезде – а путь его долог.
Долог иль нет – мы тебя не забудем,
мы – твои песни, сыны, побратимы:
слово твое устремляется к людям,
Смерть и Поэзия – несовместимы!
ПАМЯТИ ПОЭТА
Порою проза мне внушает страх.
Так вот, перенимая эстафету,
я буду говорить о нем в стихах,
как это и положено поэту.
Что остается в памяти людской?
Какие-то черты, приметы, краски…
Конечно же, не гипс холодной маски,
а огненного сердца непокой.
Проходит и уходит человек,
а хрупкий голос остается с нами.
Чуть барственный. За строгими словами
нам слышится дыханье горных рек.
Слова опять ложатся на весы.
Суровые. И кроткие, как дети.
Медлительные движутся часы
в его пустом рабочем кабинете.
Что было с ним? В нем клокотала кровь
стремительно, тревожно и устало,
в нем плакала вселенская любовь, –
стыдиться этой рифмы не пристало.
Его судьбу поэзия прожгла,
оледенили синие метели, –
младенческая нежность в нем жила,
нежданная в таком гигантском теле.
Патетика вступала на порог
и оступалась, мудро и нежданно…
В нем юмор жил. Не жалкий юморок,
а добродушный юмор великана.
А благодушный юмор. Без затей.
Не вытесненный ни хандрой, ни сплином…
Он остается в памяти моей
седым сорокалетним исполином.
Как замыслы рождаются в тиши!
Луна в окне повисла тонкой льдинкой.
Он, сгорбившись, чинил карандаши
какой-то хитроумною машинкой.
Потом в гроссбух ложилась строчек вязь,
итоги размышлений, и видений,
и в идений. Ночных бессонных бдений.
Так новая поэма началась.
Он знал, что в ней немногого достиг.
И, карандаш сжимая цепкой хваткой,
вел дальше речь. Особою повадкой
порою отличался белый стих.
Он возвещал о сердце молодом,
шел в бестолочь лирического сплава,
но внешне сдержан был. Так подо льдом
в Исландии еще клокочет лава.
Какой он был мудрец и фантазер
в сединах цвета пепельного дыма…
Он иногда листал МОРСКОЙ ОБЗОР
ИТАЛИИ – РИВИСТА МАРИТТИМА.
Он был земной. Он был душой земли,
в былинном, прочном, богатырском стиле.
Но как его манили корабли,
как пароходы стройные манили!
Потом поэма поднимает флаг,
и он листков исписанную груду
укладывает в «Папку для бумаг»
(«К чему здесь надпись “Папка для бумаг”,
ведь я носки совать в нее не буду?!»).
Пусть белый, раскаленный добела,
стих поостынет в ящике стола.
Пусть пожелтеет по краям бумага.
Ну хоть чуть-чуть. Не очень, а слегка.
Пускай поэма не спускает флага,
ведь, может быть, она войдет в века,
а может быть, умрет в столичном шуме;
пусть огненное сердце плавил лед, –
итоги всех терзаний и раздумий
тебе, читатель, он передает.
В твои музеи и библиотеки
он входит с каждой новою строкой,
но не забудь о странном человеке,
ведь был на свете человек такой,
бесспорно, с недостатками своими,
а вот – не выносил сладчайшей лжи;
и, неподкупной истины во имя,
спасибо современникам скажи.
За то, что тщательно оберегали
его от пышных званий и регалий,
за то, что не кадили фимиам,
что в горечь не подмешивали сладость,
а он – а он всю грусть свою и радость
дарил своим клокочущим словам!
Не сладость. Не елей скороговорок.
Не соловьиных трелей перелив.
Он был поэт. Как вечность, дальнозорок.
А сердцем не речист. Не говорлив.
И всё ж не мог остаться пантомимой
бунтарских строф ликующий накал,
и – образный, великолепный, зримый,
внезапный мир пред нами возникал!
Он возникал – оформлен и оритмен,
линейно-четок и грозово-синь, —
вот так воспел бы розы и полынь
двадцатого столетия Уитмен.
Колдуя, торжествуя и греша,
ликуя, шарлатаня и шаманя,
он был как призрак на киноэкране,
Солнцеворота звонкая душа!
Когда в душе поселится талант,
уют не осеняет человека.
Он поднял – поэтический Атлант –
живое бремя Середины Века,
он эту ношу на себя взвалил,
большой, широкогрудый, крепкоплечий, –
груз разочарований и увечий,
смятений, расставаний и могил.
Груз радостей, надежд. Печалей бремя.
Спортсмен, и книгочей, и эрудит,
чьим голосом заговорило Время,
кого само Забвенье пощадит.
Приходит ночь и тихо лампы тушит
на старомодном письменном столе;
душа живет не в ерунде частушек –
в поэмах строгих, в горном хрустале.
Душа живет в ямбическом походе.
В нейтронах. В атомах. В любом из нас.
О, на каком прозрачном пароходе
плывет она в Грядущее сейчас?
Она, запечатленная в граните,
к нам, к людям обращается окрест:
«Запомните – во мгле не затемните
мой краткий облик, мимолетный жест!»
Темнеют строф шершавые поковки,
меня он призывает на совет,
и на стеклянной крыше Третьяковки
горит самосожженческий рассвет.
И я, прозаик с тусклых побережий
(гори, рассвет, гори и розовей!),
ловлю его застенчиво-медвежий,
дремучий взгляд из-под ночных бровей.
Рассвет всей глыбой впаян в четкость линий,
махиной всей вмурован в грозный быт.
В рубахе трикотажной темно-синей
передо мной Поэзия сидит.
Рассветным алым пламенем багрима
и все-таки белее полотна,
вдруг Мастером становится она,
раскуривая сигарету «Прима»
у настежь растворенного окна.
«Есть у каждой поры свой особенный норов…»
Есть у каждой поры свой особенный норов.
Между тем об заклад я побиться готов:
это было в Эпоху Чернильных Приборов,
на исходе тридцатых, разъятых годов,
где цвели виршеплеты, экстазы надергав,
рифмы сложные выстроив в поте лица…
Сколько было, друзья, не английских Георгов,
а восторгов по поводу выеденного яйца!
Подымала эпоха на флаг свой планшайбы –
усмотри некий блюминг и вмиг опупей!
И из каждой, трагически тонущей, лайбы
сорок тысяч вымучивалось эпопей.
Жизнь и смерть отошли на потребу зевакам,
с разужасных плакатов глядел супостат, –
с высочайших небес леденеющим знаком,
восклицательным знаком летел стратостат.
Сотворяли Дейнеки постыдные фрески, –
наперед уже было всё как есть решено, –
и в отчаянном шорохе, громе и треске
звуковое, как ересь, рождалось кино.
И звучали акафисты столь велегласно,
что и вчуже того устыдиться не грех, –
до того уж всё было трагически ясно, –
что и слезы не в слезы, и хохот не в смех!
Саблезубая летопись дачных заборов, –
и – сегодня, сейчас – торопливо воспеть…
Это было в эпоху Чернильных Приборов,
где роскошный нефрит и постылая медь.
Всё как есть превзошли мы. Не в банковском сейфе
наше счастье, а в сжатьях медлительных льдов.
И в каком-то там полупридуманном дрейфе
целый год изгилялся «Георгий Седов».
Паровоз наш летел. И на чахлой дрезине
догонял его вечный лирический слог…
Эти девушки в тапках на белой резине, –
эпилога не сыщешь – всё вечный пролог!
Надо было хоть чуточку приостановиться, –
поумнеть, хоть на миг, – оглядеться во мгле.
Но в державной тоске воздымалась десница
Единицей Восторга на грешной земле.
Где ж ты, девочка? Где ж ты, девчонка, беглянка?
Может, век для тебя был нетворчески груб?
Белый дым, как Дух Банко над кровлей Госбанка, –
белый призрак зимы над флотильями труб!
Мой державный корабль! О каком карнавале
стихотворцы поют в бедном ЦПКиО,
Если наш разъединственный лирик в опале, –
окромя же него не сыскать никого!
Что ж! На смену надрывным «Вы жертвою пали…»
Дунаевский явился с мажором его!
Так Дух Банко витает над спящим Госбанком,
над угрюмым Макбетом, зарезавшим сон, –
и на смену былым пулеметчицам Анкам
Карла Доннер приходит и ейный шансон.
Это смена формаций, где новые предки,
где гоняет коней Ипподром Мелодрам, –
где в отчаянно модной пуховой беретке
вдруг сверкнул синевой шалый блеск монограмм.
Обрывалась эпоха с паденьем Парижа,
чтоб четыре десятилетья спустя
обернуться бесстыжею Эрой Престижа,
жигуленкомв размытом окне колеся.
Снег ложился на тонкую жесть лимузинов.
(Отчего ж ты таких прохиндеев растишь,
губошлепые чванные пасти разинув,
Лживый Сертификат, Безгаражный Престиж?!)
Век свое отшагал. По венкам и котурнам,
несомненно проехал каток паровой.
Мы ликуем, объяты катаньем фигурным,
мы ликуем, богаты катаньем фигурным,
это наш общий тодес: ко льду головой!
Мы ликуем. Всего нам на свете дороже
олимпийских реляций возвышенный дух,
хоккеистов разъевшихся сытые рожи,
романтический бред разбитных показух.
И вгоняют коньки свою сталь ножевую
в идиллический студень, в искусственный лед.
Кто же, кто же безмерную душу живую
в эти папье-машёвые торсы вдохнет?..
Где-то в самом изломе, в излете, в исходе,
где на Пресне – в проеме – ротаций валы, –
дым белесый расцвел на ночном небосводе,
в наслоеньях морозной ликующей мглы.
Там, свершая свою золотую крюизу
в заколдованном, в дивном, в безгрешном кругу,
вновь ПОГОДА НА ЗАВТРА бежит по карнизу,
обещая нам оттепель или пургу.








