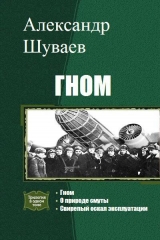
Текст книги "Гном. Трилогия (СИ)"
Автор книги: Александр Шуваев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 79 страниц) [доступный отрывок для чтения: 28 страниц]
– Неужели, товарищ Берович, заменяет совсем?
– Откровенно говоря, – не вполне, товарищ Сталин. У лампы характеристики лучше. Но вот она в сто раз больше по объему, и в пятьдесят раз тяжелее. А если ее, одну, заменить четырьмя‑пятью такими приборами, надлежаще их соединив, то уже они обеспечат лучшее качество. Кроме того, это изделие не бьется и не выскакивает из гнезда. Оно неизмеримо надежнее, требует в десятки раз меньше электричества и позволяет дублировать каждый контур, а прибор все равно будет меньше и легче, чем на лампах.
Сталин молчал, наклонив голову несколько вбок, а потом медленно сказал:
– Интересно. Только ви нэ тарапитэсь. Проведите тщательные сравнительные испытания.
А вот так подставляться не следует. Даже если ты Вождь и Учитель. Что‑что, а запустить полномасштабную серию под соусом испытаний Саня умел. Уж этому‑то он научился! Если и был в чем профессионалом, так в этом. Он вздохнул, набираясь смелости, и, наконец, приступил.
– Товарищ Сталин, я ведь здесь не только от себя. Я здесь как представитель коллектива.
– В чем еще дело?
– Коллектив просит утвердить за ним право на особое клеймо для выпускаемой продукции. – Саня развел руками. – Людям нужны такие вот игрушки. Полку – знамя, а мастерам – клеймо.
– Боевое знамя – Сталин уперся ему в лицо тяжелым взглядом – нэ игрушка. Передайте коллективу, – от моего имени, что особое клеймо – большая честь, но и большая ответственность. Кстати – а почему именно "косичка"?
Если ему и удалось удивить Беровича, то, разве что, на какое‑то мгновение. Было бы куда удивительнее, если бы вождь, так внимательно наблюдавший за комбинатом, ничего не знал бы об этом казусе. Так что он только чуть‑чуть обозначил удивление, чтобы доставить собеседнику маленькое, невинное удовольствие.
– Я наводил справки, товарищ Сталин. Оказалось, древний, еще языческий обычай, связанный с особым значением косы. Ее отрезали, выходя замуж, в первую брачную ночь. Положить отрезанную косу в могилу жениха или мужа значило обязательство не нарушать девства или, соответственно, вдовства. Отдать отрезанную косу жениху, уходящему в поход значило обещание ждать вопреки всему, до конца. Что‑то в этом роде. Женский коллектив, сами понимаете.
– Знаете, что? Ми не будем разрешать. Ми просто перестанем искать и с пристрастием пресекать. Пусть думают, что это по их воле, на свой страх и риск, от души, а нэ по приказу.
– Мне кажется, за качество можно будет больше не опасаться. Хотя… У нас и так с халтурщиками расправляются по‑свойски. А потом, понятное дело, никто ничего не видел и не слышал.
"Косичка" здесь была и на грузовиках, и на "мельнице", и на цистернах. И уж, тем более, на самих генераторах. Ее не было на молчаливых, тощих работягах из ЗГС, появлявшихся и исчезавших, как призраки, на позициях готовящихся к рывку частей, но казалось, что "косичка" намертво отпечатана у них прямо на лбу. Они‑то и установили на технике генераторных частей пулеметы, уже потом, когда оборона была прорвана и части ушли в глубокий прорыв. Как всегда, появились ниоткуда, и пропали почти без следа. "Почти" – потому что один работник находился при установках постоянно и с самого начала. Обслуживать таинственную начинку генераторов, брать пробы горючки, вытаскивать блоки, заменять на восстановленные, ставить на восстановление, менять фильтры, когда надо, не раньше, но и не позже, – это было, конечно, делом для настоящего специалиста, а не для вчерашних зэ‑ка с незаконченным средним в лучшем случае. Специалист представлял собой малорослое, тщедушное существо, по самые глаза упакованное в ватные штаны, треух, клетчатый шарф, серые валенки непонятного размера и собственно ватник, доходивший существу до колен. Им всем было ни до чего все время формирования и подготовки, тем более потом, в ходе самой компании, но, тем не менее, к концу первых же суток знакомства даже до самых непонятливых дошло: специалист некоторым образом относится к женскому полу и пребывал в довольно‑таки нежном возрасте. Валечка, как, не сговариваясь, назвали специалистку, оказалась на диво деловитой, серьезной, абсолютно добросовестной, исправной по части выполнения возложенных на нее обязанностей, но совершенно писклявый голос портил – или исправлял? – впечатление: во всяком случае, топора и пилы ей в руки не давали категорически, даже тогда, когда "на щепу" становились все, в том числе товарищ Трофимов, который из СМЕРШа и подчиненные ему автоматчики в числе пяти человек.
Если с самого начала взять с собой полные баки солярки и горючку по норме, то генераторная рота[5] увеличивала автономность полнокровной танковой бригады по горючему раза в полтора, это если марш почти без остановок и бои, а боле ничего. Если случались остановки, оборона, закрепление плацдарма, то тогда и говорить нечего: успевали пополнить запас почти до полного без поставок из тыла. Как это бывает и всегда с появлением нового средства борьбы, тем более – такого серьезного, тут же начали появляться такие способы применения новой техники, которые и в голову не приходили создателям. Очень‑очень быстро могучие транспортеры с двухсотпятидесятисильным дизелем в рейдах оказывались буквально обвешаны десантом, располагавшимся и на генераторах, и поверх цистерн, и на выпуклых крышках "мельниц", глухо гудевших на ходу. Генераторными частями насыщали передовые танковые группы, уходившие далеко вперед от основных сил, снабжаемых по преимуществу традиционным способом. После ряда очень неприятных инцидентов первых двух суток наступления на технике генераторных рот спешно начали устанавливать пулеметы, включая тяжелые. Последующий опыт показал, что это, помимо прочего, существенно повысило боевые возможности подвижных групп во встречных боях, когда они, размозжив в кровавые брызги передовое охранение, как волки, налетали вдруг на идущие маршем колонны немцев.
Капитан Иванов, кадровый командир, в армии с 39‑го, до войны командовавший авторотой, улучив момент, сказал тихо, но твердо:
– Будет кто силком лезть – расстреляю. Распалитесь, помнете, а то еще придушите сдуру, если начнет дергаться! Другой не дадут, а нам без нее делать нечего…
И товарищ Трофимов, который из СМЕРШа, тоже очень серьезно предупредил личный состав, пояснив, что специалист не просто так, а секретный. Поэтому оберегать, а также контролировать его, как носителя секретной информации, равно как и ликвидировать при возникновении опасности попадания в плен, входит в его, Трофимова, прямые служебные обязанности.
Федька Чика, он же Чикмарев Федор Иванович, 1921 года рождения, до войны работал конюхом в колхозе, и сел в 39‑м за хищение колхозного имущества, но имел явные задатки незаурядного юриста и казуистический склад ума. Было сказано про "силком". А вот насчет договорится по‑хорошему никто ничего не говорил! Поэтому он улучил‑таки подходящий момент в укромном месте и приступил к переговорам, слегка, чисто символически и вроде как в шутку притиснув ее у сосенки. Надо сказать, что при том количестве одежек, в которые она была упакована, это было не таким уж очевидным и технически простым мероприятием. Протеста не последовало, и он увлек ее на маскировочный чехол, брошенный поверх лапника. До того, что заменяло специалисту бюст, достать оказалось практически нереально, и поэтому он, взволнованно дыша, залез рукой к ней в штаны. Удивительно неудобно изогнувшись, рука эта нащупала мокренькую щелочку, плоскую, простенькую, без всяких архитектурных излишеств и окруженную довольно‑таки скудной растительностью. Соблазняемая – ничего, только дрожала мелкой дрожью и дышала, чуть посвистывая носом, чаще обычного, а Чика вдруг со смущением почувствовал, что не слишком‑то представляет, как будет развиваться дальнейшее. Чтобы как‑то заполнить неловкую паузу в боевых действиях, он шепотом спросил:
– Хочешь?
– Хочу, – едва слышно пропищало на ухо, – только страшно. И знаешь, – голос ее был полон неподдельного отчаяния, – я ж немытая больше недели! Так что давай как‑нибудь потом…
Вот так, порой, не начавшись, умирает любовь. "Потом" в данных условиях означало, примерно, то же, что и "при коммунизме", поскольку шансов уцелеть у них практически не было. А если бы и уцелели, то, по окончании операции, жизнь и война неизбежно должны были раскидать их в разные стороны. Но чудеса все‑таки бывают, а "порой" не значит "всегда". Когда, спустя два месяца, часть отводили на переформирование, во время неизбежной неразберихи, они‑таки выкроили время, и она – без обману! – дала ему первому. Правда, на радостях, что осталась жива, не ему одному, но ему все‑таки первому. Он и вообще был у нее первым мужчиной, потому что там, где она была прежде, мужчин хватало далеко‑о не на всех. Интересно, что в этом современном аналоге женского монастыря даже онанизм был распространен далеко не так широко, как можно было бы ожидать. И нельзя сказать, чтобы новое занятие оказалось для нее таким уж приятным, ощущения были скорее необычными, нежели сладостными, но чувствовать, что все кругом хотят от тебя этого, было та‑ак интересно! Так волновало!
Справедливости ради надо сказать, что ее мужчины и сами не говорили о ней дурно, и другим не давали, поскольку видели ее и за работой, и под пулями, а оттого знали ей истинную цену, понимали, насколько существенна была причина, по которой она дала себе волю, и признавали за ней право вести себя так, как ей захочется. Свой брат, заслужила.
Прототип III: образца 36 года
Конструктор, получив опытное производство на новеньком с иголочки, только что построенном заводе, как водится, невообразимо бестолковом, очень быстро почувствовал себя инвалидом. Как будто у него, дотоле вполне здорового, отпилили руку или ногу, а он, забываясь, продолжает рассчитывать на них, забыв, что теперь ловкие и эффективные движения не для него, и что это, скорее всего, навсегда. Что его удел отныне – медленно и неуклюже. Все указания шли через множество ненужных передаточных звеньев, каждое из которых замедляло сроки и хоть малость, но искажало, так что на выходе получалось и вовсе печально. Выходом было за всем следить самому, но это явно превосходило любые человеческие силы. Ему совершенно очевидно не хватало Сани Беровича, но признаться в этом он не мог бы даже самому себе. Только спустя несколько мучительных недель гибкое и изворотливое человеческое подсознание, наконец, подсказало ему выход. Привычка. Ну конечно. Ба, да как же это он раньше не подумал! Он просто‑напросто привык к особенностям одного удобного порученца, можно сказать – посыльного «за все», но, по преимуществу, по части деталей. Поэтому он без тени сомнений вытребовал Беровича к себе. Было это не так уж очевидно, и не так просто, как хотелось бы, и начальство вовсе не жаждало Саню куда‑то там отдавать. Скорее всего – с концами. Владимир Яковлевич почти в совершенстве постиг нелегкое и опасное искусство шантажировать начальство, и в конце концов добился‑таки нужной меры взаимопонимания. И директор, который и тянул, и волынил, и «включал дурака», и пускался на рискованные трюки, был, в конце концов, поставлен перед ультиматумом, причем ему напомнили о революционной трудовой дисциплине и о том, что бывает с ее нарушителями. Сломавшись, директор немедленно начал убеждать себя, что так оно, в конце концов, и правильно. Понятное дело – убедил. Для него, для масштабов завода, отдельно взятый Саня Берович был, в конце концов, не так уж значим.
– Ты, Валентин Трофимович, меня не убеждай, не надо. Тут ни тебя не спросили, ни меня. Приказали, – и баста! Да и то сказать: парень как специально под опытное производство заточен… Может, человеком станет, а у тебя слесаря его водку пить научат, а более – ничего.
– Не пьет он.
– Тем более, – с характерной логичностью ответил директор, – не уживется, значит, с коллективом…
Попав на новое место и поселившись в общежитии, Саня, наученный горьким опытом, перестал высовываться с новыми материалами, делал, что скажут и, вроде бы, из чего скажут, а на то, что детали его работы почти не изнашиваются и никогда не ломаются, внимания, понятное дело, никто не обращал. Оставалось проследить, чтобы в соединении были только эти детали. С другими материалами он занимался сам, в свободное от работы время. Делал, смотрел, как греется, как расширяется при этом, как проводит тепло, и потихоньку прикидывал, каким образом это могло бы работать в том же двигателе. Получалось не очень. Начал прикидывать, что будет, если охлаждать, но и тем более запутался. Времени между тем и вообще перестало хватать, так что собственные экзерсисы он бросил. Нечто при этом отложилось, не без того, и, как у него бывало всегда, отложилось прочно, но в те поры не показалось ему чем‑то важным.
Дело в том, что любая махинация, даже предпринятая бескорыстно и с самыми благими целями, отчасти напоминает наркотик: чем больше врешь, тем больше вранья требуется для того, чтобы прикрыть возросший объем вранья. В данном случае основой всего был тот непреложный факт, что для роскошного двигателя Владимира Яковлевича годились только те детали, которые по‑своему, кустарно делал Саня. Остальные не годились никак, и то, что требовалось, в нужном количестве не мог сделать никто. Поэтому, пока шли варианты, Берович поспевал. Когда шла опытная партия "на слом", еще успевал кое‑как. Когда пошла предсерийная партия, Саня то, что называется, "зашился". Разумеется, ему и в голову не пришло пожаловаться, что работы невпроворот: не то воспитание и не тот замес. Просто начал ночевать в цеху, отменил ночной сон, и однажды, когда глаза его ясно видели только впереди, а по бокам виделась завлекательная, радужная чушь, когда в ушах мерно плескалось море, которое он видел раз в жизни, а мысли, начавшись с самого простого дела норовили незаметно улететь в какие‑то надоблачные дали, он чуть не угодил в приводные ремни древних станков единственного старого цеха, что оставался в новом заводе. Еле успели оттащить. Угодив в чьи‑то руки, организм Сани сам по себе снял с него всякую ответственность и мягко обвис в этих руках, и не реагировал, как его ни трясли. Проснуться он смог не вот, а только часа через полтора, и то не сразу, а в несколько приемов, просыпаясь от криков знакомого ему голоса, успевая удивиться, сделать пару‑тройку спасительных выводов и заснуть снова.
– Саня! Саня! Ты поднимайся давай, некогда спать… – У‑у‑у‑у. – Ах, ты, гос‑споди, да что же это…
Владимир Яковлевич буквально готов был плакать, потому что мерзавец Саня бессовестно спал, а без него как раз сегодня, – на самом деле каждый день, но об этом конструктор привычно не задумывался, было никак нельзя. Грубо выдранный из мертвого, как от дурмана, сна, Берович не вот еще начал соображать, где он, кто он, что вокруг, и на каком он свете. Достоверно только, что именно в тот момент, в один из просоночных эпизодов, ему в голову пришла Великая Организационная Идея, имевшая самые, что ни на есть, серьезные и важные последствия. Если точнее, то идей было аж целых две. Во‑первых, ему пришло в голову, что, когда человек не справляется один, ему может очень пригодиться подручный для дел не самых сложных, но требующих времени. Оригинально, не правда ли? Второй компонент идеи был куда как более революционным по сути и последствиям:
– Слышь, Владимир Яковлевич, – спросил он голосом, еще невнятным и сиплым со сна, – у тебя на примете какой‑нибудь аккуратной девушки нет?
Конструктор, которому идея с подручным тоже как‑то не приходила в голову, был настолько ошеломлен диким вопросом, что выпучился на Саню, как на привидение и отреагировал вполне здраво:
– Чев‑во?!!
– Девушки, говорю, нет на примете? Аккуратистки. Такой, знаешь, у которой в тетрадке ни единой помарочки, почерк красивый и одни пятерки? Учебники обернуты, и на столе порядок не от мира сего?
Дело в том, что кандидатура, идеально соответствующая этим строгим требованиям, у него, как ни странно, была. Другое дело, что он искренне не понимал, о чем идет речь и сомневался, не бредит ли Саня спросонок.
– Зачем тебе?
– Отмерить. Взвесить. Смешать. Заложить. Проверить. При этом не ошибиться и не понебрежничать. Пока я другими делами занимаюсь. Понимаете, тут ума не надо, а у меня на эти все дела большая часть времени уходит.
Это меняло дело. Более того, на самом деле решало даже не одну, а сразу несколько проблем. К Владимиру Яковлевичу явилась младшая сестра, школьная учительница, мужа которой, толстовца с идеями аж дореволюционной закваски, забрали с концами, а из дому – выгнали. Нельзя сказать, чтобы он был так уж счастлив этим обстоятельством, а уж о жене даже и говорить не хочется, но в те времена родством еще считались. Вот у сестры была дочка пятнадцати лет, как раз то, что надо. Тихая до бесшумности аккуратистка и чистюля, круглая отличница сразу после восьмилетки. Вот и пристроим заодно, чай не медаль, чтобы на шее‑то висеть. Заодно биография рабочая будет, не подкопаешься.
Результаты от привлечения к делу Карины превзошли все ожидания. Те рутинные операции, требовавшие, тем не менее, предельной точности и педантизма, и которые отнимали у него больше всего времени, она выполняла попросту лучше него. Меньше делала ошибок. А еще она очень многое делала гораздо, гораздо быстрее. В итоге такого разделения труда они теперь успевали сделать не в два, не в три, а чуть ли не в четыре раза больше, и со временем этот показатель только рос. Он – придумывал и ладил оснастку под все большие разовые закладки, потихоньку увеличивал количество емкостей, размножал Кое‑Что, исходя из многократно возросших потребностей, составлял рецептуры и мог больше ни о чем не беспокоиться. Некоторое время он размышлял на тему: не залезть ли ей под юбку? Но, по зрелом размышлении, решил воздержаться, поскольку девка весьма устраивала его как напарник, для дела, но была непонятной, не похожей на слободских, насквозь изученных, так что Саня не знал, чего ждать в ответ на его посягательства. Впоследствии такого рода расчетливость, умение не делать глупостей из пустого каприза, стало одним из основных его качеств, выделившим его из многих и многих. Кроме того, она не шибко ему понравилась, как девка. Худосочные малолетки были не в его вкусе, а в те времена, на дешевых харчах, да впроголодь, девушки созревали куда позже, чем в иные эпохи. Поэтому держал себя Саня с Кариной до крайности сдержано, даже сурово, а в разговорах с ней был предельно немногословен и говорил только по делу. Тут они сошлись, поскольку Карина Сергеевна, мягко говоря, тоже не была болтушкой
Сам того не замечая, он вел себя с подручной так же, как конструктор вел себя с ним, то есть как с вещью, но с некоторым различием: он отдавал ей должное, понимая, что полноценную замену этому оборудованию сыскать будет не так уж просто.
Предсерийная партия двигателей прошла эксплуатационные испытания, получив самую лестную оценку пилотов и техников на аэродромах. При этом тот факт, что моторы эти не ломались, по сути, никогда, опять‑таки не заметил никто. В том же ряду психологических явлений лежит и тот факт, что, когда в ходе испытаний случайно избранных моторов партии на предельную длительность штатной работы ресурса определить так и не удалось, его нарисовали с потолка, записав в паспорт цифру в высшей степени достойную, но все‑таки вероятную. А вовсе не то, что получилось на самом деле, когда испытания "при нормальной эксплуатации на максимальном режиме" пришлось остановить, поскольку был израсходован весь лимит горючего, отведенного на испытания: с поразительной простотой нравов выставили именно то время, за которое выработали горючее. К этому времени на Саню работали уже три девочки: одна – бывшая одноклассница Карины, Аня, другая из параллельного класса, и звали ее Катя. В результате такого, достаточно радикального расширения коллектива, у Сани возникла неприятная по его складу и ненужная проблема: как быстро обучить хороших, старательных, аккуратных, но совершенно не умеющих ничего девок? В те времена из Александра Ивановича был еще тот педагог: к тому, что он вовсе не понимал, какие именно трудности могут возникнуть у обучаемого, добавлялся еще и возраст, ну не способен серьезный, ответственный двадцатилетний человек поучать тех, кто на два‑три года моложе! Для этого нужна изрядная доля цинизма, а этого пока не было и в помине. Просто неоткуда взять. Потом он, понятно, научился учить, но это произошло много позднее, когда он осознал, что любая учеба тоже есть следование Инструкции, и если человеку, особенно нестарому, дать нужный кусочек ее, то дольше может пойти само собой.
Пока же он, не зная, как справиться с затруднениями, напряженно мыслил, и однажды спросонок у него промелькнул, вроде бы, намек на решение. В памяти его всплыл некий образ времен незабываемой поездки с отцом в Николаев. Он, как мог, объяснил руководству, какого рода специалист нужен ему позарез. Там смутились и даже усомнились, но Родине были нужны моторы, и, отметив где надо, идеологически неправильный запрос, извлекли из поселения в Южном Казахстане то, что требовалось. Яков Израилевич Саблер как раз и был тем потомственным, в четвертом поколении провизором, который был нужен Сане. С приходом этого улыбчивого старичка проблемы с обучением закладчиц ушли навсегда. Наряду со многими, многими другими. Безнадежный скептик, Яков Израилевич довольно быстро округлился после ссылки и, одновременно с этим, вполне восстановил столь присущее ему бесцеремонное благодушие манер.
Тем временем, Владимир Яковлевич, попав в элиту советских двигателистов (тогда было принято говорить попросту "в обойму" – довольно многозначительный термин, не так ли?), обладал теперь куда большими правами и перестал заморачиваться формальными ограничениями. Опытное производство исподволь стало "Опытно‑Поточным" (в просторечии "опытно‑пыточным", что бы ни значило это загадочное название. Берович стандартизировал производство теперь уже оснастки своей выдумки, убедил начальство раскассировать по другим производствам ставшие ненужными станки, пронумеровал и упорядочил рецептуры, а номенклатуру довел до полной. Когда перестало хватать электричества, просто сделал новый генератор, очень хороший, потому что на сердечники пошло не простое железо. Припомнив прошлые штудии и уточнив в новых занятиях с Кое‑Чем, он узнал, какое именно. И, в общем, не ошибся. И еще – подходящее генератору горючее из деревянного "швырка", которого на стройке хватало.
De profundis
Следующим и, пожалуй, последним этапом его своеобразного младенчества стало освоение инструментов.
Так, заметилось однажды, что некоторые действия даются куда легче, если их совершать не просто рукой и глазами, а при некоем постороннем посредстве. Он – находил всякого рода "палочки", "жгуты" и даже, пару раз, "клещи", при наличии которых нахождение иных комбинаций становилось куда более вероятным, чем без них.
Инструмент, это когда конечный продукт оказывается легче получить, грубо говоря, в два этапа: сначала сделать инструмент, и уже только потом то, что тебе нужно на самом деле. А напрямик – слишком тяжело или вовсе никак.
Тут следует заметить, что жил Саня по‑прежнему в рабочей слободе. Общество тут было своеобразное, с большим налетом патриархальности и всякого рода странности поведения не одобрялись. Мягко говоря. Да что там "странности". Общество не поощряло никаких отличий от прочих, никакого нарушения неписаных традиций и умело ставить всякого рода выскочек и отступников на место. Традиционно не поощрялось чтение – чтоб глаза не испортить. Особенно нетерпимым считалось, когда молодые начинают "умничать". Уж это старшие пресекали железной рукой и выжигали каленым железом. Так что, если бы Санины штудии были замечены, их бы тоже немедленно пресекли. Самым решительным образом. Но он стал хитрым. Игры свои с Похоронкой скрывал хитроумно и АБСОЛЮТНО последовательно, ничего не оставляя на волю случая. То есть дураком‑то он и никогда не был, но теперь вдруг сам заметил за собой, что начал как‑то соображать, как вести себя в тех или иных случаях и с разными людьми. Беда в том, что, когда начинаешь "ЗАМЕЧАТЬ ЗА СОБОЙ", все. Это называется "рефлексия", это необратимо, не лечится, и не быть тебе больше счастливым первобытным существом. Это даже пропить трудно.
То есть в первую очередь он заметил, как изменились его руки. Да нет, с виду они остались прежними, но он буквально не узнавал их, настолько ловкими, хваткими, цепкими они стали. Теперь он запросто, без пауз и затруднений делал любую тонкую работу, а они, казалось, опережали голову. Не успеешь подумать – как бы это исхитриться, а руки уже сделали как надо. Новые руки довольно‑таки сильно чесались, и поэтому он перечинил все часы, до которых сумел дотянуться. Сначала – не давали, а потом убедились, что все будет сделано безупречно и с поразительной скоростью. Иногда, забывшись, чинил, к примеру, часы с закрытыми глазами, а чего, право? Один‑то раз уже видел.
Умения разбираться во всяких хитрых устройствах тоже, вроде бы, прибавилось, но, в ту пору, еще не так заметно. Это потом умение это стало почти инстинктивным, когда он с блеском ремонтировал незнакомые, к примеру, станки, и ловил себя на том, что при этом думает вовсе о чем‑то постороннем.
А инструменты… Это были еще ТЕ инструменты. Когда он изыскивал то, что казалось ему подходящим, нужно было соблюдать прямо‑таки чудеса осторожности, потому что вблизи детали они то сами тянулись к ней, то вдруг начинали отталкивать ее и отталкиваться сами, и надо было угадать, когда одно сменит другое, пользуясь тем и другим. А те, что вроде бы "прикоснулись", часто "пачкали" деталь, превращая ее уже в настоящий мусор, с концами. Ломались сами, превращаясь в огрызок. Тратились за несколько раз, становясь непригодными. Некоторые надо было "нагреть": он постепенно установил, что нагрев этот тоже бывает разного сорту и разведал, какой – где. Нагрев был чудной: как‑то порциями, причем одинаковыми. Этому он начал учиться, как оказалось, почти сразу, наблюдая, как детальки вроде бы "распухают", прежде чем соединиться, или наоборот. А еще надо было поспевать, потому что многое имело склонность через какое‑то время рассыпаться само собой, не дожидаясь окончания его затей. Все это вместе, и сразу, и одновременно, но он постепенно учился. Выглядело это так, что легче стало находить места, где все было вроде бы как под рукой. И инструмент, и "нагрев", и материал. Потом набрел на совсем особенную снасть: она делала иные сорта работы сама собой. Вот "нагреешь" – а дальше она сама. Такое действие всегда было одно, либо, в крайнем случае, – несколько, но очень похожих. И тогда он начал искать такие штуки целенаправленно. Раз от раза соображая все лучше, куда свернуть и глянуть, чтоб найти не такое вот, – а этакое, более ловкой формы, лучше идущее к затеянному. И что сделать, чтобы искомого было много. Прямо‑таки видимо‑невидимо. И однажды, отыскав такое место, и устав от поисков, как последняя собака после дня в поле, он "подключил ноги". Отошел подальше.
Из интервью 1958 года
Р. Это был тот самый знаменитый случай? Расскажете?
А. Б. Ну вот, снова здорово… Про что бы доброе, а уж про это… Нет, журналистов, видимо, не переделаешь. Была такая глупость. Да сколько лет‑то мне было? Это теперь я знаю, что металлоорганический комплексон, хелат, включающий рений… Кстати, он до сих пор не утратил значения, и о‑отличнейшим образом работает в качестве «активного центра» катализного комплекса все того же назначения. В составе комплекса эффективность, правда, повыше – примерно в двести восемьдесят тысяч раз, а так – все то же. В свою очередь, чаще всего включен в состав того или иного кластера, предназначенного для получения… различных материалов из чистого углерода. Но и не только.
Р. А начали все‑таки с алмаза?
А.Б. Все не так просто, как обычно рассказывают. Из того дрянного древесного спирта, с которого я начал, у меня получилась, как положено, мокрая, полужидкая даже, серая паста. Хорошо хоть полужидкая, а то алмазная пыль, это, знаете ли… Ходят легенды, что султаны травили ею подданных. Не знаю, сколько тут правды, но хорошего в ней и правда мало. Если внутрь. Да и дышать. Вот для тонкой полировки тот, самый первый мой продукт, и впрямь подошел бы идеально. Думаю, шел бы на «ура» и стоил при этом очень недешево. Только в шестнадцать лет разве будешь думать о нормальном товаре? То‑олько о сокровище! Все идеала ищешь, даже если и слова‑то такого не слыхал… Помучился‑а! У дяди Коли‑стекольщика выпросил алмаз, да и то не сразу пошло. Не мог сообразить поначалу, как «греть» инструмент в большом мире. Да мало ли всякого, что потом, все вместе, одним чохом, стали называть «трудности перевода». А потом сделал, да. На три с половиной карата, на шесть, на десять. Первый дяде Коле подарил, так он нарасхват стал. Там, где здоровенные витринные листы раскраивать, – цены не было. А тут самые стройки начались. Заводы, по тем временам громадные, и стекла к ним соответственно. В то время мало у кого больше алмазы‑то были…
Р. А ведь и увлечься могли, по молодости лет…
А.Б. И не говорите. Сгорел бы, как швед. Не иначе боженька отвел. Или ангел‑хранитель. А на самом деле подумал я это, подумал, как и кому продать, да не попасться… И бросил это дело. Дядька как‑то извернулся, продал жучку какому‑то тот, что средний. Раз, поди, в пять меньше настоящей цены, но и то в новый дом переехали. С доплатой. Такую байку тогда сочинил, до сих пор удивительно.
Тут Александр Иванович немного слукавил. Алмазным инструментом он поторговывал и потом – помочь семье. Как то и положено нормальному представителю родоплеменного общества. Только теперь это был черный, невзрачный "борт"[6]. Брали неплохо и по неплохой цене, но шопоток, шорох какой‑то, начавшийся вокруг него после покупки дома, было, стих, – а потом начался снова. Чем дальше, тем сильнее. Тогда‑то он и ушел из дому на новый завод, поселился в рабочем общежитии и не грешил больше. Зарекся связываться со всякими блестящими штучками, к которым, ровно смола, липли всякие темные личности. Это потом‑потом, официально, со всеми предосторожностями, когда выяснилось, что рабоче‑крестьянской власти, помимо добротного инструмента, требуются еще и блестящие камешки. Судя по секретности, которой власти обставили это небольшое производство, дело было страшное. Сгинуть можно было запросто – и гинули. Гибли от рук подельников и бандитов, исчезали без следа, а, больше того, – садились на большие срока или шли под расстрел. Саня потом сколько раз бога благодарил, что остался, в общем, в стороне. Делали какую‑то номенклатуру, поставляли, куда – не знаем, не нашего ума дело, наше дело сторона. Интересно, что куда более серьезные, в общем, дела не привлекали к себе такого пристального внимания. Почти совсем.








