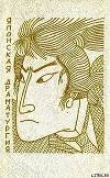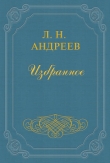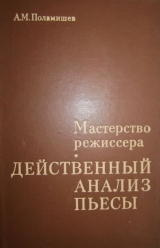
Текст книги "Действенный анализ пьесы"
Автор книги: Александр Поламишев
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Если мы будем последовательны в понимании пьесы как социального протеста Островского, то мы неизбежно должны будем рассматривать поступки всех «бряхимовцев» с точки зрения конфликта: или «Бряхимов», или «человечность»! В этой связи у нас нет основания отказывать и Паратову в искренности желания порвать со своим «торгашеством», т.е. порвать с «миллионной невестой» ради своего чувства к Ларисе. Если мы поверим ему в этом, то, очевидно, должны будем сделать вывод: все, что произошло на «карандышевском обеде», коренным образом повлияло на дальнейшее поведение Паратова. Ведь еще сегодня утром он не мог Ларисе «сообщить ничего хорошего», а на обеде он пообещал ей, что бросит «все расчеты и уж никакая сила не вырвет вас у меня; разве что вместе с моей жизнью». Что подтолкнуло Паратова к такому решению? Ответ очевиден: реальность того, что Лариса действительно выходит замуж за Карандышева, – последний устраивает уже званый обед в ее честь и ведет себя как полный хозяин судьбы Ларисы. Очевидно, самолюбие Паратова не может с этим смириться: он – Паратов! – должен уступить любимую женщину какому-то Карандышеву (которого, конечно же, Лариса не любит!), а сам должен жениться на какой-то нелюбимой «миллионной невесте»?! Не бывать этому! Он порвет эти «золотые цепи»!
При таком ходе рассуждений Паратов не мелодраматический злодей-искуситель, а человек, не сумевший возвыситься над господствующим социальным злом.
А разве роль, которую избрал для себя Кнуров, не драматична по-своему? Он всесильный миллионер, ради того чтобы заполучить то, что ему представляется сегодня вопросом жизненной необходимости, – Ларису, он вынужден обречь себя на роль… гиены, которая подберет то, что останется после другого… Более того, он и прибыл-то на карандышевский обед, чтобы способствовать приближению того момента, после которого он сумеет исполнить свою роль…
На этом обеде жизнь Вожеватова заполнена энергичной деятельностью: с помощью Робинзона он спаивает Карандышева, долго и последовательно травит самолюбие последнего (насмешки над качеством вина, сигар, всего обеда), затем делает все, чтобы оставить Ларису с Паратовым вдвоем, с одной стороны, а с другой – подсовывает пьяному Карандышеву мысль о возможностях, связанных с пистолетом («Ну, нет, не скажите! По русской пословице: на грех и из палки выстрелишь»), затем отправляет Робинзона в «Париж», чтобы не мешал более, и, наконец, организовывает всю практическую сторону увоза Ларисы за Волгу!
Для Робинзона этот обед – вершина его бряхимовского блаженства! Весь день Вожеватов таскал его по разным трактирам, вместе пили, вместе дурачили всех Робинзоном – «англичанином». И вот он попал в семейный дом, где не только сидит за одним столом с Паратовым, Кнуровым, Ларисой, но он еще как равный участвует в унижении Карандышева! Более того, на этом обеде он получает от друга (в этом он теперь не сомневается!) Вожеватова приглашение поехать вместе в Париж! Робинзону, как, впрочем, и Карандышеву, кажется, что сегодня он достиг вершины – завтра начнется новая прекрасная жизнь!
Для трактирного слуги Ивана карандышевский обед – полное фиаско, завершающее сегодняшнее «пустое» воскресенье. Утром Иван ждал гостей в кофейной – никто, по существу, не появился. Обрадовался предложению Карандышева служить за обедом, а обед-то оказался таким, что «ни гостям, ни слугам…». А из-за этого паршивого обеда пропустил Иван возможность хорошо заработать на паратовском заволжском пикнике, где господа «важно разгулялись»: «и цыгане, и музыка с ними – все как следует…».
Но вот совершается новый факт: «Лариса вместе со всеми уехала с карандышевского, бряхимовского обеда на ту сторону Волги!». Уехала, наконец, туда, куда рвалась с первой минуты своего сегодняшнего появления на Бряхимовском бульваре – «как там хорошо на той стороне!..».
Что произошло «на той стороне», мы не знаем – мы можем только догадываться.
Чтобы как можно точнее были сформулированы наши «догадки», обратимся вновь к тексту пьесы.
Кнуров. Кажется, драма начинается… Я уж Ларисы Дмитриевны слезки видел… Ведь чтоб бросить жениха чуть не накануне свадьбы, надо иметь основания… Значит, она надежду имеет на Сергея Сергеича…
Вожеватов. Мудреного нет: Сергей Сергеич… человек смелый.
Кнуров. Да ведь как ни смел, а миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не променяет… Так посудите, каково ей, бедной!..
Надо отдать должное наблюдательности Кнурова – многое понял, понял, что Паратов не бросит миллионную невесту и что Лариса уже не сможет вернуться к Карандышеву. Более того, Кнуров заметил, что и объяснение по этому поводу уже, очевидно, состоялось.
Действие IV, явление VII.
Входят Паратов и Лариса.
Лариса. Ах, как я устала. Я теряю силы, я насилу взошла на гору. (Садится в глубине сцены на скамейку у решетки.)
Опять – та же скамейка, что и в 1-м действии. И опять Ларису тянет к этой же решетке!
Паратов. А, Робинзон! Ну, что ж, ты скоро в Париж едешь?
Робинзон. С кем это? С тобой, ля-Серж, куда хочешь, а уж с купцом я не поеду. Нет, с купцами кончено… Невежи!.. Я всегда за дворян.
Разлетелся вдребезги «Париж» Робинзона так же, как лопнули паратовские надежды вырваться из золотых цепей «Бряхимова».
Паратов. Это делает тебе честь, Робинзон. Но ты не по времени горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой! Время просвещенных покровителей, время меценатов прошло. Теперь торжество буржуазии, теперь искусство на вес золота ценится, в полном смысле наступает золотой век…
О ком же, как не о себе самом говорит Паратов с такой горечью?! Какое презрение к времени «торжества буржуазии» – «золотого века», где все ценится на деньги!
Если наши рассуждения близки драматургу, то мы вправе полагать, что автор создает интересное драматическое противоречие: Паратов, не мыслящий своего существования без золота, ненавидит время, где все «ценится на вес золота».
Очевидно, Паратов – сложная по-своему фигура. Не мог же Островский вложить слова, осуждающие «золотой век» в уста человека, который бы чем-то не был ему симпатичен. Может быть, Островский хотел осудить не столько самого Паратова, сколько те «законы жизни», которые так изуродовали психологию сильного и умного человека.
Итак, Паратов понял, что «суждены… (ему) благие порывы, но свершить ничего не дано…».
Это поняла, очевидно, и Лариса: свидетельство тому – ее «слезки», которые заметил уже и Кнуров. Следовательно, то, что происходит далее на сцене, – это уже следствие чего-то случившегося там, на той стороне Волги.
А на сцене происходит что-то в высшей степени некрасивое.
Лариса, которая, уезжая за Волгу, отлично понимала, на что она шла, почему-то теперь упрекает Паратова в том, что он увез ее от жениха и что «маменька… ждет их… чтобы благословить» (опять ложь!..). А Паратов, который еще несколько часов назад клялся Ларисе в том, что «никакая сила не вырвет вас у меня, разве что вместе с моей жизнью», этот самый Паратов заявляет: «Едва ли вы имеете право быть так требовательны ко мне…»
Почему же эти люди, совсем еще недавно клявшиеся друг другу в любви, теперь стремятся друг друга уличить в нечестности или в глупости?
Если дело только в том, что Паратов обманул Ларису – не сказал, что обручен, то вся история не возвышается над примитивом наивного театра. Островский же, как нам представляется, занимался психологическим обоснованием более серьезных причин зла. Поэтому, думается, для Ларисы то обстоятельство, что Паратов до поры до времени скрывал факт своего обручения, не столь существенно. Очевидно, главным предметом драматизма этой истории для Островского является что-то иное.
Лариса плакала еще до того, как Паратов сообщил ей о своем обручении, следовательно, она уже понимала, что Паратов не в силах порвать с «миллионной невестой» – не в силах возвыситься над «бряхимовщиной». И именно этим Паратов, очевидно, развенчал себя в глазах Ларисы. Если это так, то тогда становится понятным столь оскорбительное по отношению друг к другу поведение и Ларисы, и Паратова. Лариса не может простить Паратову того, что он оказался не тем, за кого она его принимала, что он разрушил «идеал мужчины», т.е. обманул ее тем, что выдавал себя раньше не за того, каков он есть на самом деле – слабый и запутавшийся, такой же, как и все бряхимовцы.
Паратов же, очевидно, не может простить Ларисе того, что она – женщина, которую он действительно любит, – явилась свидетельницей его бессилия, его окончательного падения.
И вот оба унижают друг друга, мстят друг другу за то, что не смогли вырваться из цепких бряхимовских объятий! Паратов поедет «жениться на миллионах», а Лариса… для Ларисы – то, что теперь впереди, может быть, страшнее карандышевских обедов, «теток», «соленых грибов».
Появляется Кнуров, он делает Ларисе предложение «ехать… в Париж», разумеется, вместе с ним, а потом – «полное обеспечение на всю жизнь».
Как «странно» ведет себя Кнуров! Как же он, уже не молодой человек, владеющий иностранными языками, полжизни проводящий в Петербурге и Европе, тоскующий от «бряхимовщины», тянущийся к красоте, как же такой человек не понимает всей бестактности своего поведения?!
Может быть, все рассуждения, которые мы вели о Кнурове до сих пор, были ошибочными?
Может быть, мы неправильно расшифровали характеристику Островского – «крупный делец последнего времени»?
Может быть, между дельцом Кнуровым и купцом Диким («Гроза») следует поставить знак равенства и Кнуров – такой же самодур и невежда, представитель «темного царства»?
Но в том-то все и дело, что Кнуров уже из другого «царства», царства «последнего времени», бряхимовских «законов жизни»! В том-то и дело, что чтение «французских газет», посещение Парижа, тяга к красоте не мешают Кнурову быть бряхимовцем. А в Бряхимове все «на вес золота ценится, в полном смысле наступает золотой век». Очевидно, чтобы правильно оценить поступки Кнурова, надо попытаться взглянуть на случившееся с его, кнуровских, позиций: у Ларисы Дмитриевны был небогатый, но жених – Карандышев, она бросила его, так как Паратов обещал жениться на ней («и должно быть, обещания были определенные и серьезные»). Теперь Лариса Дмитриевна осталась у разбитого корыта – ни жениха, ни Паратова, ни вообще каких-либо средств к существованию, «уж у Ларисы Дмитриевны слезки видел!» – ей плохо, ей надо помочь – так пусть знает, что для нее еще не все потеряно в жизни – она может жить прекрасно, жить припеваючи, что будут исполнены «все ее желания и даже капризы, как бы они дороги ни были», и что для нее будет «невозможного мало», и вообще хоть завтра же с ним «на выставку в Париж!»
Очевидно, Кнурову такое проявление «заботы» о Ларисе представляется не только естественным, но и самым гуманным, самым нравственным. Он искренне «желает ей добра и счастья», ибо она его «вполне заслуживает»! Кнуров – это еще одна разновидность бряхимовского уродства. По-видимому, и в Кнурове Островский осуждает не столько самого сплав признаков культуры с трагическим непониманием основ любой культуры – нравственностью.
А чем же закончилась для Вожеватова эта поездка за Волгу? Надо вспомнить, что, когда начинался «этот воскресный день», Вожеватов не знал, куда себя девать от скуки, чем заполнить этот предстоящий длинный воскресный день. Но затем, с приездом Паратова, день заполнился длинным рядом «развлечений»: дурачил людей «англичанином» Робинзоном, напоил с помощью все того же Робинзона Карандышева, с помощью Паратова сорвал торжественный карандышевский обед, уехал с Ларисой кутить за Волгу. Лариса-то надеялась, небось, что вырвется с помощью Паратова из Бряхимова, а ей тоже – сиди со своим Карандышевым, кисни здесь, в Бряхимове, как все! А не захочешь, так, как все, то, пожалуйста, иди на содержание к старику! Весь город судить да рядить по ее поводу будет – «вот смеху-то» будет!
Итак, этот воскресный день заканчивается, а Вожеватову надо все свои «шуточки» довести до конца. Робинзон ждет не дождется, когда он поедет с Вожеватовым в Париж. Ведь Вожеватов так уговаривал его: «Ну, как же такому артисту да в Париже не побывать! После Парижа тебе какая цена-то будет!»
Вожеватов не только свободно отказывается от своих слов – он даже издевается над простодушием Робинзона! И делает-то он это с каким-то садистическим удовольствием! Паратов по существу продукт той же бряхимовщины, и он с омерзением говорит Робинзону о Вожеватове: «…время просвещенных покровителей, время меценатов прошло; теперь торжество буржуазии… Но, уж не взыщи, подчас и ваксой напоят, и в бочке с горы для собственного удовольствия прокатят – на какого Медичиса нападешь…»
А как Вожеватов поступает с Ларисой, которая считает его чуть ли не родным?! Мало того, что он сделал все для того, чтобы «старикашка Кнуров» имел все основания пригласить Ларису в содержанки, Вожеватову еще понадобилось лично участвовать в унижении Ларисы – пусть она попросит его помощи, а он откажет ей.
Вожеватов подходит к Ларисе.
Лариса. Вася, я погибаю!
Вожеватов. Лариса Дмитриевна, голубушка моя! Что делать-то? Ничего не поделаешь…
.............
Лариса. Да я ничего и не требую от тебя; я прошу только пожалеть меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе!
Вожеватов. Не могу, ничего не могу.
Ну, коли «ничего не можешь», так зачем же подходить к человеку, когда тот нуждается в помощи?!
Определяя первый конфликтный факт, мы сделали ряд предположений по поводу основного мотива всех поступков Вожеватова. Сейчас, когда мы подходим к концу анализа действия пьесы, мы можем, очевидно, убедиться в верности предположений, на которые нас натолкнул первый конфликтный факт. Да, действительно Вожеватов – страшная фигура: этот «очень молодой человек» абсолютно бездушен, более того, он ненавидит, презирает всех вокруг себя, для него единственное удовольствие – изощренное унижение других людей. Вожеватов – последняя, свежайшая продукция бряхимовского «золотого века»!
«Бряхимов» – это страшная, «однообразно плетущаяся», тупая и монотонная сила, всюду проникающая и все перемалывающая. Бряхимовцы оказались сильнее Карандышева. Вместо торжествующей мести Карандышева ему самому уготован позор на весь город: завтра все будут знать о том, как Лариса от жениха уехала кутить за Волгу – вот «смеху-то будет!». Такое пережить невозможно: или вешаться… или все-таки мстить – мстить всем этим бряхимовским рожам!
Карандышев бегает по городу с пистолетом, ищет «эту шайку», тем временем Кнуров уже успел выиграть Ларису в «орлянку» и сделать ей свое «предложение», тем временем Лариса уже пыталась покончить с собой – броситься с берега в пропасть, как Катерина, но не смогла. Карандышев находит наконец Ларису.
Начинается последний этап борьбы Карандышева с оскорбившими его бряхимовцами. В этой борьбе Карандышев не брезгует ничем: желая отдалить Ларису от всей этой «шайки», Карандышев сообщает Ларисе, что там ее уже считают по существу содержанкой – «вещью», которую можно выиграть в «орлянку». Как последователен в нелепости своего поведения Карандышев! После всего случившегося ему бы некоторое время не подходить к Ларисе вовсе – дать ей прийти в себя («Ведь не глуп же он!» – утверждала Лариса), и, возможно, Лариса бы оценила и его терпение, и его такт. Но, увы! Карандышев не мог поступить иначе, ибо он был занят не Ларисой, не ее судьбой, а только собой. Желал ли Карандышев или нет, но он сам толкнул Ларису на путь к Кнурову. Он наглядно показал ей, что если она вернется к нему, Карандышеву, то это будет той же самой продажей себя: ведь Лариса и прежде знала, что не любит Карандышева, но «пыталась полюбить», ибо была уверена, что тот ее любит; все поступки, совершенные Карандышевым в этот воскресный день, доказали ей обратное: он не любит ее – Карандышев занят только собой, спасением только себя, своего самолюбия. Следовательно, возвращение к нему равносильно тому, что идти на содержание – только грошевое! Нет, падать с горы, так уж с высокой! И вот уже звучат ее слова-капитуляция: «Сослужите мне последнюю службу; подите, пошлите ко мне Кнурова». Бряхимов сломал, уничтожил нравственно и Ларису – личность с прекрасными человеческими задатками!
Своим выстрелом в Ларису Карандышев все-таки отомстил Бряхимову – никому не достанется эта дорогая «вещь», никому из тех, кого он так ненавидел всю жизнь!
Итак, разразилось последнее событие пьесы – «Гибель Ларисы Огудаловой!»
Для Ларисы приближающаяся смерть – факт, избавляющий от последнего конфликта между тем, что «жить нельзя… жить незачем!» и «жить хоть как-нибудь, да жить» (Кнуров и, может быть, другие «Кнуровы»…). Очевидно, именно этим конфликтом и определяется ее последний поступок; в благодарность Карандышеву за убийство она сообщает всем, что убила себя «сама».
А для всех остальных бряхимовцев эта смерть станет ли событием, которое кардинально изменит их жизнь?
Может быть, Паратов откажется теперь от своей «миллионной невесты» и спасет себя как человек? Вряд ли! Может быть, Вожеватов, потрясенный случившимся и своей ужасной ролью в этом, кардинально пересмотрит все свое поведение и станет совершенно по-иному относиться к людям? Вряд ли – ведь смерть была уже в глазах Ларисы, когда она его молила о сочувствии, но он прошел мимо… Может быть, в жизни Кнурова что-то изменится? Может быть, он отменит хотя бы свою деловую поездку в Париж на выставку? Вряд ли, финансовая корпорация «Кнуров» должна функционировать, и притом бесперебойно. До человечности ли тут?! А что будет с Огудаловой? Наверное, будет катиться к полной потере человеческого достоинства – куда-нибудь в приживалки.
Что будет с Карандышевым? Сознается ли он в своем преступлении или нет? Возможны разные варианты. Карандышев по трусости может не признаться; и улик против него нет, так как Лариса перед смертью сказала, что «сама» себя убила. Но, может быть, Карандышев поступит и иначе. Поскольку убийство из-за ревности оправдывало убийцу не только юридически, но и создавало в глазах общества ореол мученика и даже героя, то очень может быть, что Карандышев громогласно признается в убийстве, а затем будет жить, упиваясь своей ролью мученика и страдальца, у которого проклятый Бряхимов отнял единственное светлое, что было в его жизни!
Во всех вариантах Карандышев, наверное, останется таким же уязвленным человеком, каким был и до убийства Ларисы. Может быть, для Робинзона эта смерть внесет какие-то изменения в его жизнь, т.е. уезжающий из Бряхимова Паратов не бросит теперь его здесь на произвол судьбы, а возьмет с собой?
Вряд ли. Зачем Паратову постоянно иметь перед глазами свидетеля своего окончательного падения?
Ефросинья Потаповна в душе только порадуется, что теперь уж наверняка в дом не придет такая требовательная невестка.
Гаврило и Иван по-прежнему будут торговать в своей кофейне. А хор цыган будет петь для всех, кто хорошо платит.
И наверное, не случайно пьеса кончается у Островского ремаркой – «Громкий хор цыган». Не просто «за сценой пение цыган», а именно «громкий хор», т.е. хор, выражающий радостное настроение: цыгане поют весело, ибо в Бряхимове «искусство на вес золота ценится». Продолжает в Бряхимове торжествовать «золотой век!».
Следовательно, и последнее событие пьесы – «Гибель Ларисы» – ничего не изменило в Бряхимове.
Какую историю можно рассказать, основываясь на конфликтных фактах и поступках героев, действующих в силу этих фактов?
Живут разные люди в Бряхимове, где все «на вес золота ценится». Эти бряхимовские «золотые законы» обесценивают проявление всего естественного, и потому все человеческое в людях унижено, оскорблено. Для кого-то это золото дает неисчерпаемые возможности, и они уже не знают, что делать и с этим золотом, и с самим собою (Кнуров, Вожеватов). Кто-то, стремясь овладеть этим золотом, продает себя (Харита Огудалова, в молодости; Паратов), но эта «продажа» не проходит для них бесследно. Кто-то ради получения хоть малой толики от этого золота крутится около тех, у кого его много (Гаврило, Иван, цыгане, Робинзон). Тот, кто не надеется получить золото, жаждет отомстить хоть как-то тем, у кого есть оно (Карандышев).
И есть только один человек в Бряхимове – Лариса Огудалова, у которой нет золота, и не к обретению «золота» она стремится. Она больше всего ценит в людях и в себе совсем другие ценности: искренность, доброту, честность, смелость, талант, красоту. Лариса тянется к этим высшим ценностями потому ей так душно в Бряхимове, она пытается вырваться из этой бряхимовской золоченой клетки! И не только она одна. Каждому кажется, что если он добьется своего, то ему, быть может, удастся разорвать эти тягостные, скучные золотые бряхимовские цепи, встать над ними, преодолев их в себе или овладев ими. Но ни у кого ничего не получается. Наоборот, к концу сломлена и Лариса – у нее «перед глазами уже золото заблестело», она готова уже стать такой же бряхимовкой – пойти на содержание к Кнурову. Физическое уничтожение спасает Ларису от полной нравственной и духовной гибели. Ларису уничтожили, а хор бряхимовских цыган «громко поет» – продолжается «однообразно плетущаяся» бряхимовская жизнь.
Как видим, конфликт между «человеческим началом» и «бряхимовщиной» закончился победой «Бряхимова», но все наши «симпатии» благодаря Островскому, на стороне человеческих идеалов!
Хотим мы того или нет, но Островский подводят нас к выводам о том, что «бряхимовщина» – это сила, уничтожающая не только все лучшее, что есть в людях, но и лучших из людей!
Сознательно не стремясь к каким-либо изменениям социального порядка, Островский и в этой пьесе все-таки заставляет зрителя «обратить свои требования к самой жизни, так вяло и однообразно плетущейся вокруг». Это происходит, очевидно, потому, что в пьесе действуют характеры психологически сложные, жизненно глубоко мотивированные.
Оглянемся назад: что послужило поводом для исследования, приведшего нас к такому взгляду на пьесу? Конфликтность первого факта – «опять полдень воскресного бряхимовского дня!», и вытекающие из него сложно обоснованные поступки заставили взглянуть на все дальнейшее действие пьесы не как на мелодраматическую историю, а как на события социально и психологически значимой драмы.
Такое понимание жанровой природы «Бесприданницы» смыкается с выводами исследователей, рассматривающих проблему жанра в пьесах Островского средствами литературоведческого сравнения.
Вл. Блок, например, полагает, что «По методу драматургической техники ближе Чехову «Бесприданница»[96]96
Блок Вл. Система Станиславского и проблемы драматургии. М., 1963, с. 89. О связи Островского с позднейшей драматургией также см.: Костелянец Б. «Бесприданница». Л., 1973; Оснос Ю. В мире драмы. М., 1971; Сб. «Островский в русской критике». М., 1953; Горелов А. Очерки о русских писателях. Л., 1960; Холодов Е. Мастерство Островского. М., 1563; Ревякин А. А. Н. Островский. Жизнь и творчество. М., 1949; Штейн А. Три шедевра А. Островского. М., 1967; Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие. М., 1954, т. II; Владыкин Г. И. Вопросы идейной эволюции Островского. М., 1949.
[Закрыть].
Пушкин, как известно, утверждал, что «автора надо судить но законам, им самим над собою поставленным».
Думается, что, определяя суть действия начала «Бесприданницы» по принципу «единого конфликта для всех действующих лиц», мы следуем тому теоретическому положению, которое «сам над собою поставил» Островский, – «живые образы, для первого взгляда случайно сошедшиеся в одном интересе». Такой способ определения первого конфликтного факта последовательно и логично привел нас к цепи конфликтов. отвергающих мелодраматическую природу или трактовку фабулы, противоречащей эстетическим привязанностям Островского (последнего периода жизни). Цепь конфликтных фактов привела нас также к выводам, совпадающим с выводами советских исследователей и русской передовой критической мысли в их оценке социальной значимости и жанровой природы последнего периода творчества великого драматурга.
Очевидно, не следует предполагать, что, определяя у Островского первый конфликтный факт столь обыденно и не «событийно», мы впадаем в ошибку. Все-таки, сам термин событие не совсем совершенен. В частности, для определения конфликта жанра «драматизированной жизни» пьесы Островского этим термином следует пользоваться, очевидно, с оговорками.
Относительность термина «событие» нам представляется также очевидной, когда мы обращаемся и к драматургии Чехова.
На одном из старших курсов режиссерского отделения театрального училища им. Щукина (вуз при Гос. театре им. Евг. Вахтангова) нами в качестве дипломного спектакля был взят «Дядя Ваня» Чехова. Студенты этого курса были очень увлечены «методом действенного анализа». Поэтому вся существующая литература, связанная с этой методикой, изучалась студентами. Надо сказать, что среди сторонников этой все еще новой методики существуют, и это совершенно естественно, разные толкования того или иного положения. Существует, например, точка зрения, что, для того чтобы определить «исходное событие», следует ответить на вопрос: «Без чего не началась бы данная история? Какое событие должно было произойти, чтобы она началась?»
Такое определение как будто бы ни в чем не расходится со всем тем, что было высказано нами по поводу «первого конфликтного факта». Но это только видимое совпадение. В таком способе определения «исходного события» есть очень серьезная, на наш взгляд, опасность: оно позволяет чрезвычайно вольно толковать саму «данную историю». Ведь для того чтобы увидеть, где «начало истории», надо, чтобы вся история была уже обозрима, т.е. мы должны видеть начало истории, ее середину и финал.
Станиславский полагал, что сразу же увидеть весь сюжет пьесы совсем не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Для того чтобы докопаться именно до «авторской истории», а не сочинять ее за автора, для этого Константин Сергеевич и предлагал вскрывать события пьесы в их последовательности, т.е. начинать с «первого действенного факта». Утверждая же, что «исходное событие» пьесы – то, без чего (она) не началась бы, очевидно, предполагают, что весь сюжет пьесы («данная история») можно обозреть сразу же, до начала анализа.
Между тем некоторой части студентов-режиссеров показалось, что такой способ определения «исходного события» вполне возможен. Мы решили не спорить с ними, напротив, предложили определить исходное событие «Дяди Вани», задав вопрос: «Без чего не началась бы данная история?» В ходе обсуждения студенты пришли к выводу, что «данная история» не могла бы начаться, если бы не произошла отставка профессора Серебрякова. Вследствие этого факта семья Серебряковых оказалась в имении, вследствие этого факта произошел конфликт между Войницким и Серебряковым, развитием которого и являются дальнейшие события пьесы.
Но, когда мы перешли работать на сценическую площадку, правильность такого определения «исходного события» вызвала у многих сомнения. «Отставка профессора» далеко не всем участникам начала пьесы дала повод для конкретных действий; вернее, действия, появившиеся в этюде и обусловленные ранее принятой трактовкой, вследствие данного события совершенно расходились с теми, что написаны у автора. Что же произошло? Попробуем восстановить весь ход наших репетиций и рассуждений.
Итак, А. П. Чехов. «Дядя Ваня». Сцены из деревенской жизни. Действие происходит в усадьбе Серебрякова.
«Сад. Видна часть дома с террасой. На аллее под старым тополем стол, сервированный для чая. Скамьи, стулья, на одной из скамей лежит гитара. Недалеко от стола качели. Третий час дня. Пасмурно. Марина (сырая, малоподвижная старушка, сидит у самовара; вяжет чулок) и Астров (ходит возле)».
Этой подробной ремаркой начинается пьеса. Очевидно, автору необходимы для действия и «сервированный для чая стол», и «третий час дня» и то, что нянька Марина «сидит у самовара», а Астров почему-то не сидит, а «ходит возле».
Только после этих предлагаемых автором бытовых обстоятельств мы можем узнать, что происходит между персонажами. Марина пытается угостить чаем Астрова. Последний отказывается; он расспрашивает няньку, «сильно ли изменился» он за последнее время. Получив неприятный для себя ответ – «сильно», Астров ворчит, обвиняя всех и вся в том, что он преждевременно стареет: виноваты, оказывается, и те, кто поднимает его ночью, чтобы ехать к больным; и скучные «чудаки» – соседи; и мужики, живущие грязно и скученно, следствием чего являются бесконечные эпидемии…
Появляется «в щеголеватом галстуке» Войницкий. Он тоже ворчит: «С тех пор, как здесь живет профессор со своей супругой, жизнь выбилась из колеи…» Нянька Марина поддерживает его: «Порядки! Профессор встает в двенадцать часов а самовар кипит с утра, все его дожидается. Без них обедали всегда в первом часу, как везде у людей, а при них в седьмом… Вот и теперь. Самовар уже два часа на столе, а они гулять пошли».
Надо сказать, что в этюдных репетициях поначалу лучше других себя чувствовал исполнитель Войницкого. Он сразу же начинал ругать Серебрякова на чем свет стоит. Правда, было непонятно: если он так недоволен всем, то чего ради он надел «щегольский галстук»?
Начало сцены (Астров и Марина) никак не выходило. Исполнитель Астрова утверждал, что сегодня его герой приехал в имение потому, что Елена Андреевна, жена профессора, написала ему записку с просьбой, чтобы он приехал к больному мужу. Чуть позже Астров упрекает ее в этом: «Я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он очень болен, ревматизм и еще что-то… А оказывается, что он здоровехонек… А я-то сломя голову скакал тридцать верст. Ну, да ничего, не впервой. Зато уж останусь у вас до завтра и, по крайней мере, высплюсь…»
Исполнитель Астрова настаивал, что для него событием является вовсе не «отставка Серебрякова», а «извещение о болезни Серебрякова…». Правда, при этом весь его диалог с нянькой Мариной выглядел бы не так, как у Чехова: не нужными оказались вопросы о его внешности, не нужны были сетования на его преждевременную старость.
Исполнительница Марины заявила, что она, Марина, во-первых, даже и не знает ничего ни о какой «отставке»; а во-вторых, если бы Серебряковых здесь вообще не было, то разве бы она ни старалась угостить приехавшего доктора?
Исполнительница утверждала, что ее героиню, Марину, более всего беспокоит, что все старания по поводу самовара пропали зря: «Вот и теперь. Самовар уже два часа на столе, а они гулять пошли…» Марина потому так усиленно и предлагает Астрову то чаю, то водочки, чтобы хоть о ком-то позаботиться, раз в доме такой беспорядок. Студентка (Марина) убеждена была, что для нее конфликтным является факт: «Самовар уже два часа на столе, а они гулять пошли!..»
Поскольку студенты уже знали, что конфликт всегда должен быть общим для всех одновременно действующих исполнителей, то мы попытались с ними проверить, является ли факт, предлагаемый исполнительницей Марины, конфликтным и для других действующих лиц пьесы. Что означает для Астрова: «Самовар уже два часа на столе, а они гулять пошли!»? Прежде всего мы пытались понять, знает ли об этом Астров. Ни Серебряков, ни Елена Андреевна, ни Соня, придя чуть позже с прогулки, не поздоровались с Астровым. Судя по этому факту, они, очевидно, уже виделись сегодня. Следовательно, мы имели основания предположить, что Астров прискакал сегодня тогда, когда Серебряковы только отправлялись на прогулку. Может быть, он, устав с дороги, откатался их сопровождать, но обещал при этом подождать… По всей вероятности, Серебряковы очень долго прогуливались, иначе у Марины не было бы оснований приготавливать чай два часа тому назад. И очевидно, Астров тоже ждет эти два часа своего прогуливающегося «больного». Но, если он так долго ждет, почему его интересует вопрос: насколько он постарел и сильно ли изменился?